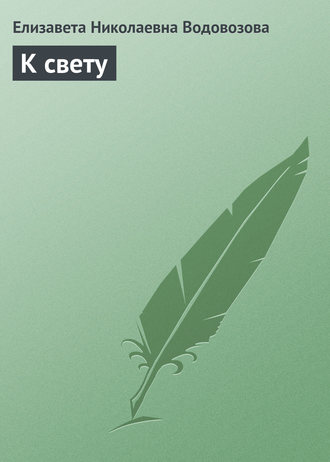
Елизавета Водовозова
К свету
XV
Как только мы приехали на вечеринку, первый, кого я увидала, был Манькович. Мрачный и бледный, нервно кусая губы, он одиноко стоял, прислонившись к стене.
– Тоня еще не приехала? – спросила я его.
– А я почем знаю! – как-то злобно огрызнулся он.
– Как вы грубы, однако! – И я отправилась на другой конец комнаты, объясняя его раздражение тем, что он потерял терпение, ожидая предмет своей страсти.
Когда хозяйка дома, сидевшая подле меня, встала, Манькович занял ее место. Не желая показать ему досаду за его резкую выходку, я спросила его, долго ли он думает еще прожить в Петербурге. Он отвечал, что уезжает завтра же вечером. В эту минуту вошла Тоня. Она была в темном платье с накинутым на плечи красным суконным башлыком, украшенным золотыми кисточками, который только что вошел тогда в моду и придавал ее скромному туалету нарядный вид. Хозяйка дома потащила ее в другую комнату и усадила подле себя за чайный стол.
– Большие доходы или, по крайней мере, место с солидным окладом должен иметь супруг Антонины Николаевны, чтобы удовлетворять ее художественным вкусам и аппетитам.
– Вы прекрасно знаете, что Тоня основательно вооружена для приобретения хорошего заработка. Ее мужу не придется оплачивать ее туалеты. Я совершенно не понимаю, как вы можете так говорить о ней?
– Через час-другой все поймете… И все узнаете…
В эту минуту к нам подошла Тоня, и Манькович как ни в чем не бывало поздоровался с ней. Я предложила ей мое место и ушла, с ужасом думая о том, что-то будет через час-другой.
Когда M. H. Лебедев вышел из другой комнаты, мы сели с ним в углу около окна, и я рассказала ему о дикой выходке Маньковича и о моем страхе, что он готовит что-то неожиданное для Тони. В это время кухарка поставила небольшой столик перед нами и, покрывая его скатертью, проговорила: «За большим столом для двух-трех гостей не хватит места».
Когда начали вносить кушанья, я предложила Тоне и Маньковичу присоединиться к нам, не подозревая, что этим в сильной степени ослабляю впечатление от скандала, задуманного Маньковичем. Столик, за который мы уселись вчетвером, стоял в уголку, на небольшом расстоянии от круглого стола, занимавшего всю комнату. То, что мы говорили между собой, не слышно было за большим столом, да и сидевшим за ним было не до нас: там шел горячий спор, увлекший большинство гостей; оттуда то и дело раздавались голоса споривших и звонкий смех. За нашим маленьким столом разговор не клеился. Но вот подали шипучку, очень мало напоминавшую шампанское, и хозяин дома начал разливать ее по стаканам.
– Все без исключения должны произнести какой-нибудь тост, – сказала хозяйка. – В материале не будет недостатка. Сегодня у нас тройное торжество: день именин мужа, день моего рождения и годовщина нашей свадьбы.
Все поднялись с своих мест чокаться с хозяевами. Приветствия и поздравления сопровождались страшным гвалтом посетителей и даже битьем посуды. Наконец все стихло, кто-то поднялся, чтобы произнести речь. Манькович подбежал к концу большого стола, и я начала зорко наблюдать за ним: бледный, дрожащими руками он пересматривал бутылки одну за другой. Нашел одну из них нераскупоренного и начал подливать шипучку в наши стаканы; но руки его так тряслись, что он то и дело проливал ее на скатерть. Тут я в первый раз заметила обручальное кольцо на его пальце и глазами указала на него Михаилу Николаевичу. Мы вдруг, точно условившись с ним, быстро поднялись с своих мест, сразу поняв, что Манькович сейчас устроит какой-то скандал.
– Тоня, вставай! Нам необходимо моментально ехать домой, – решительно сказала я, наклоняясь к ней, обхватывая ее за талию и приподымая.
Она с удивлением взглянула на меня и, сразу поняв, что ей грозит какая-то опасность, вдруг вздрогнула и вместе со мною повернулась к выходу.
– Почему же вы все уходите? И вы, Антонина Николаевна? Разве вы не желаете поздравить меня с законным браком? Выпить за здоровье моей жены? Я буду просить о том же всех присутствующих… – говорил он, как-то заикаясь, скороговоркой; голос его то и дело срывался. Он не успел еще окончить начатого, как мы уже стояли к нему спиной, пробираясь к выходу, но сказанное я слышала отчетливо, то же должна была слышать и Тоня. Я повернула голову, чтобы позвать Михаила Николаевича, но увидала, что он наклонился к Маньковичу и что-то говорит ему. Я вышла с Тонею в переднюю, а за нами и Михаил Николаевич. Когда мы одевались, нас не видно было из столовой, в которую я притворила дверь из передней. На наше счастье, никто не вышел с нами прощаться.
Прежде чем спуститься с лестницы, Михаил Николаевич взял Тоню под руку. Мы вышли на улицу, Михаил Николаевич подозвал извозчика, сел на облучке, и мы все в одних санях отправились домой. Я не могла рассмотреть лица Тони: всю дорогу она не проронила ни слова, не вырвалось из ее груди ни вздоха, ни стона.
Как только мы возвратились, Михаил Николаевич прошел в кабинет Василия Ивановича, который, по обыкновению, сидел за работой, а я повела Тоню в ее комнату, и она как-то машинально помогала мне раздевать ее. Когда она лежала уже в постели, я была поражена ее расширенными зрачками. Я поставила свечку на ее столик, но она быстро закрыла глаза руками. Накрыв свечку абажуром, я переставила ее на пол. Я боялась заговорить с нею, боялась поцеловать ее. Я тихонько вышла из комнаты, подвинув к ней звонок.
– Месть, и какая бесчеловечная месть за отказ, полученный два года тому назад, месть за свою женитьбу, месть за то, что он опять влюбился в нее!.. Черт знает что такое! – говорил Василий Иванович.
– Я вообще противник дуэли, но это один из редких случаев, когда она является единственным средством, чтобы наказать негодяя, отомстить ему за Антонину Николаевну, дать ей моральное удовлетворение, – возражал Лебедев.
– У вас, военных, дуэль универсальное средство от всех зол! Все вы отрицатели и враги дуэли до первого случая. Какое же удовлетворение Антонине Николаевне может принести дуэль? Разрекламирует только скандал, о котором будут рассуждать вкось и вкривь, следовательно, бросать камни и в нее, совершенно неповинную. Теперь об этом инциденте, кроме немногих лиц, никто не знает, а тогда о нем все заговорят… И какая, подумаешь, справедливость, когда дуэль может погубить человека, который возьмется отомстить за Антонину Николаевну! Манькович выказал свое до невероятности мелкое, пошлое самолюбие, но каково же будет ему вечно жить с убийством в душе? Он совершил гнусный поступок, но возможно, что угрызения совести заставят его измениться к лучшему… А если он еще сделается убийцею? Тогда уже он в конце концов может оказаться бесповоротным негодяем.
– Все это происшествие как-то совсем не вяжется ни с духом настоящего времени, не соответствует оно и характеру современного человека вообще и Маньковича в частности, – говорил Лебедев. – Мне приходилось встречаться с его товарищами по гимназии и университету – все отзывались о нем с наилучшей стороны. И вдруг этот самый человек решается поставить обожаемую девушку в самое жестокое положение. Он перед этим не разлучался с нею целый месяц, несомненно, говорил ей любовные слова и в то же время носил нож за пазухой, думал только о том, как поудобнее нанести ей удар прямо в сердце. Бр!.. И подумать, все эти пылкие страсти происходят в настоящее время, когда первое правило – любить и жениться по кодексу новых гражданских взглядов, выбирать подругу жизни прежде всего для того, чтобы вместе с нею успешнее выполнять общественные задачи…
– Все это так потому, что усвоена только внешняя сторона этих идей. Когда люди будут вполне отдаваться общественной деятельности, а не застревать исключительно в тине личных чувствиц, тогда в душах людей не будет накопляться столько грязи и злобы.
– Уверяю вас, все это одна словесность, одна теория, – протестовал Михаил Николаевич. – Можно вполне отдаться общественной деятельности, можно благоговеть перед современными идеалами и все силы напрягать, чтобы проводить их в жизнь, но ближе всего, больнее всего всегда будут отзываться неудачи и несчастья личной жизни. Так есть в настоящее время, так будет в будущем и во веки веков.
– Скажите, Михаил Николаевич, что вы говорили Маньковичу, когда мы с Тонею уходили? – спрашивала я его.
– Да то, что он заслужил! Шепнул ему прямо в ухо: «Негодяй вы, негодяй и еще раз негодяй! Говорю это вам тихо, чтобы не расстраивать праздника».
– А он что?
– Да он был в каком-то невменяемом состоянии, может быть, даже ничего не понял. Как только вы направились к двери, он бухнулся на стул, обхватил свой стакан двумя руками, точно его кто-нибудь отнимал у него. Стакан так дрожал в его руках, что из него все выплескивалось на скатерть. Он решительно ничего не ответил на мои слова.
В эту минуту зазвенел колокольчик из Тониной комнаты. Я застала ее в мучительном страдании от тошноты. Когда она несколько успокоилась, я села в кресло и моментально заснула около ее постели. Когда я проснулась, Уже было светло. Тоня по-прежнему лежала с открытыми глазами. Я подняла штору и была поражена быстрой переменой, происшедшей с нею в одну ночь: мертвенно-бледная, с провалившимися щеками, с глубоко запавшими глазами, она неподвижно смотрела в одну точку на стене и, не произнося ни слова, лежала как в столбняке. Доктор сказал, что это оцепенение у нее вследствие сильного нервного потрясения, прописал какую-то микстуру, приемы которой вызывали лишь рвоту, и я перестала ее давать. Мне так хотелось поговорить с нею, поплакать вместе… Я знала, конечно, что она не оправится от этого, но мне казалось, что если бы она могла заплакать, прошел бы хотя ее ужасающий столбняк, который, вероятно, леденил ее душу.
XVI
Михаил Николаевич пришел к нам на другой день и сообщил следующее: когда он несколько часов тому назад выходил из дому, его, видимо, подстерегал Манькович, имевший невыразимо истерзанный и истрепанный вид: все лицо его было в синяках и грязных пятнах, он был совершенно пьян и говорил заплетающимся языком. Из его несвязных слов можно было уловить только одно, что он угрожал убить Михаила Николаевича, если тот не отведет его немедленно к Антонине Николаевне. Михаил Николаевич убедил его, что в пьяном виде никто не пустит его к ней, что в таком состоянии, в каком он находится, нельзя ни убивать, ни объясняться, что он, Лебедев, отвезет его прежде всего выспаться и затем он уже проделает все, что будет ему угодно. И ему удалось уломать Маньковича. Когда они сидели вместе на извозчике, Михаил Николаевич заметил, что на обеих его руках повыше кисти кожа на два-три пальца шириною была до крови истерта и изорвана. На его вопрос, как это случилось, Манькович отвечал так, как будто дело шло о самой обыкновенной вещи, и притом о другом лице: «Хотел броситься в прорубь… мерзавец помешал… я его в морду… он скрутил руки, бил по щекам…, в участке по скулам били и сапогами в грудь и спину…» Сколько в этом правды, сколько фантазии пьяного человека, трудно разобрать. Но что-нибудь в этом роде могло быть: физиономия у него избитая и грязная, с руками его тоже, видимо, не очень церемонно обращались.
Манькович не пришел к нам в этот день, как мы ожидали. Тоня и вторую ночь совсем не спала и на другой день ничего не ела, но лежала она уже не в таком оцепенении, как накануне, более двигалась, и глаза ее несколько прояснились.
В этот день после завтрака, только что мы разошлись по комнатам, как к рабочему столу Василия Ивановича как-то незаметно подошел Манькович. Он вошел без звонка по черной лестнице, чтобы не проходить по столовой, к которой примыкала Тонина комната. Когда голоса из кабинета стали до меня доноситься, я вошла посмотреть, кто пришел. Манькович бросился передо мной на колени.
– Я заслуживаю презрения… Но ведь самым тяжким преступникам – грабителям, мошенникам, убийцам – дозволяют выяснить причину и повод их преступления. Я знаю, что и мое объяснение не послужит к моему оправданию, но, может быть, оно хотя несколько смягчит ваше мнение обо мне?
– Если бы вы ножом пырнули Тоню из-за угла, это, вероятно, было бы объяснено вашим внезапным помешательством, но вы… – я махнула рукой и добавила: – Пожалуйста, встаньте, Николай Александрович, вы виноваты не передо мною.
Волнение Маньковича во время рассказа было так велико, что он беспрестанно прерывал его рыданиями, пил воду, отдыхал по нескольку минут, но затем продолжал начатое, зачастую повторяя уже сказанное или прибавляя к нему новые подробности. Я передам только самое существенное.
Отказ Антонины Николаевны от моего предложения и форма, в которой он был сделан, мне казались столь унизительными для моего человеческого достоинства, так потрясли мой организм, привели меня в такое отчаяние, что я от горя и тоски не находил себе места. Всю весну и половину лета я, несмотря на привычку к деятельной жизни, решительно ничего не делал в Петербурге, никого не посещал, никого не принимал, только шагал по своей конуре. Мой отец, проживавший в своем имении близ Белой Церкви, усердно звал меня в деревню. Вполне сознавая необходимость переменить место и образ жизни, все гибельней отзывавшиеся на моем здоровье, я так ослабел физически, что, должно быть, совершенно утратил силу воли и инициативу и никак не мог решиться предпринять даже небольшую поездку. Только тяжелая болезнь отца и невозможность брата Василия посетить его заставили меня уехать в деревню. Отец поправился, а тоска по-прежнему изводила меня.
С осени я получил возможность читать лекции в Киевском университете в качестве приват-доцента. Я находил, что это единственное средство, которое может меня спасти, и уехал в Киев. Действительно, обязательный труд и новая деятельность оживили меня, но подготовка к лекциям и умственное напряжение так переутомили, что мне пришлось бы самому отказаться от лекций раньше времени, но в марте я получил извещение о смерти отца. После похорон я остался в деревне, надеясь на то, что, когда силы мои окрепнут, я буду в состоянии работать в тиши деревенского уединения над начатой мною диссертацией.
В деревне я жил и до сих пор продолжаю жить совершенно одиноко, ни с кем не познакомился из интеллигенции Белой Церкви, но у меня там проживает двоюродная сестра, с которою я с раннего детства связан узами самой сердечной дружбы и полного взаимного доверия. Только ее посещения развлекают меня и доставляют мне удовольствие: я могу с ней откровенно говорить решительно обо всем, но сам я не посещаю ее дома, так как не могу выносить ее супруга, господина Баскакова. Сестра крайне несчастна в замужестве. Ее супругу, форменному пошляку, ловеласу и развратнику, еще за несколько месяцев перед моим приездом едва удалось потушить одно скандальное дело о растлении им четырнадцатилетней мещанской девушки. Чтобы заставить отца жертвы молчать, господину Баскакову пришлось заплатить ему пятнадцать тысяч рублей, большую часть приданого его жены.
У моей сестры двое сыновей – восьми и девяти лет, к которым уже с полгода до моего переселения в деревню поступила учительницею и гувернанткой двадцатидвухлетняя девушка, Мария Петровна. Сестра была ею очень довольна, но высказывала страх, как бы ее «благоверный», немного угомонившийся после громкого скандала, не начал преследовать ее своими ухаживаниями. Сестра нередко приезжала ко мне с своими мальчиками; весною она присылала их иногда с гувернанткою, но они так усердно пользовались деревенским раздольем, что я их совсем не видал, кроме завтраков и обедов.
Начались жаркие дни, и мальчики как-то отпросились у меня возить сено с рабочими. Жара загнала гувернантку в столовую. Сознавая, как плохо я выполняю свои хозяйские обязанности, я первый раз принудил себя заговорить с нею, расспрашивал, как ей живется. Она отвечала, что могла бы считать свое место вполне удовлетворительным, если бы не хозяин дома. В первое время он не обращал на нее ни малейшего внимания и она была совершенно покойна, но теперь он становится с нею все любезнее. Ввиду его репутации это сильно тревожит ее. Чтобы обезопасить себя от внезапной потери места, она рассказала о своем положении одной хорошей знакомой моей сестры, госпоже X., которая всегда была с нею очень любезна. Та, в свою очередь, обещала ей, в случае какого-нибудь неприятного столкновения с Баскаковым и вынужденного отказа от места у сестры, взять ее к себе в качестве учительницы для своих сыновей, так как ей уже необходимо одного из них готовить к поступлению в гимназию.
Недели полторы у меня не были ни сестра, ни ее дети с гувернанткой. Вдруг однажды ночью кто-то стучит то в дверь, то в окно моего домика и затем ко мне входит перепуганная Мария Петровна. Несмотря на холодную ночь, она была без шляпы и какой бы то ни было накидки. Моя сестра в этот вечер уехала на именины; отсутствовал и ее супруг. Гувернантка, отправив детей спать, уселась читать в столовой, но когда около десяти часов услыхала шаги Баскакова, она отправилась в свою комнату, закрыла, по обыкновению, дверь на крючок и присела к своему столику продолжать чтение. Когда она входила к себе, окно ее комнаты, вследствие холодной погоды, было закрыто и она не осмотрела его. Вероятно, Баскаков уже раньше отодвинул задвижки, так как через несколько минут окно открылось и он вскочил в ее комнату. Она с криком бросилась бежать, он что-то говорил ей, о чем-то просил ее, но она, опасаясь его преследования, нигде не остановилась ни на минуту, побоялась даже войти в переднюю, чтобы накинуть что-нибудь на себя, и убежала по черному ходу.
Указав Марии Петровне на то, что она не может, конечно, сомневаться в моем желании оказать ей гостеприимство, я должен был ей заметить, что она, пожалуй, повредит себе во мнении здешнего общества тем, что она ночью отправилась к холостому человеку. Мне такой предрассудок совершенно чужд, говорил я ей, но боюсь, что на вас он навлечет много неприятностей. Мария Петровна оправдывалась тем, что, как только она вышла из дверей дома Баскаковых, первою ее мыслью было явиться к госпоже X., но она вспомнила, что та отправилась на именины вместе с моею сестрою, что ее не примут в отсутствие хозяйки дома. Она завтра же увидит ее, все объяснит и не сомневается в том, что госпожа X., как обещала, пригласит ее к себе.
Долго обсуждать это происшествие я не мог: все последние дни я чувствовал себя крайне плохо и, простившись с Марией Петровной, ушел к себе. На другой день, как только я проснулся, прислуга сказала мне, что «барышня» не ложилась спать и давно ушла.
Ко мне приехала сестра: она нашла, что Мария Петровна поступила чрезвычайно опрометчиво, отправившись ночью ко мне, что ей грозит полный остракизм из общества. Она было уверена, что никто теперь не подаст руки молодой девушке, что все будут говорить ей в лицо ужасные дерзости, делать гнусные намеки и предложения.
– Неужели среди интеллигенции Белой Церкви не найдется порядочного семейства, которое поняло бы безвыходное положение молодой девушки и защитило бы ее от нападок? – спрашивал я сестру.
– Здесь не столица: говорят, что там подобные предрассудки давно выкинуты за борт, а у нас они господствуют во всей силе.
Тогда я предложил дать средства Марии Петровне на ее отъезд в Петербург или Москву, где любая контора могла бы отыскать ей место гувернантки. Сестра нашла этот план неосуществимым: бюро для приискания мест крайне плохо организованы, и в гувернантки, в громадном большинстве случаев, берут иностранок, а русская может насидеться без места год и больше. Но более всего сестра поразила меня тем, что, несмотря на то что она была весьма неглупой женщиной, что ей прекрасно было известно, какую душевную муку я переживаю, начала уговаривать меня жениться на Марии Петровне. Я просто остолбенел от удивления. Как я могу жениться на особе, о которой я не имею надлежащего представления, с которой разговаривал лишь по необходимости, фамилии которой даже не знал до той минуты.
– Что же из того, что ты ее не знаешь, а я знаю, что она честная, деятельная девушка с прекрасным характером и вдобавок недурна собой. Где же ты найдешь себе жену, когда ты никуда не показываешься? А жениться тебе крайне необходимо хотя бы для того, чтобы стряхнуть с себя хандру. Посмотри-ка ты: все у тебя обваливается, везде беспорядок, все тебя обкрадывают, через три-четыре года такой жизни за долги с молотка продадут твое именьице и ты останешься даже без крыши над головой. А ты ничего не делаешь, не заботишься о хозяйстве, не подвигается вперед и твоя диссертация, а чтение университетских лекций тебя утомляет. Подумай сам, что будет с тобою? Ты кончишь тем, что будешь только шагать из угла в угол и окончательно потеряешь способность взяться за какое бы то ни было дело. А женишься, встряхнешься, и вот увидишь, возьмешься хотя за хозяйство. Конечно, ты думаешь, что брак, устроенный таким упрощенным способом, без поэтических аксессуаров, без продолжительного ухаживания, без коленопреклонения, вздохов и взаимных клятв, не заманчив? Ну, а чем же кончилась твоя поэтическая любовь? Рассчитывать на счастье в браке потому, что он заключен по любви, – одна иллюзия! Возьми хотя меня в пример: я ведь по страсти вышла замуж, думаю, что даже мой супруг женился по любви, ведь за ним перед нашей свадьбой увивалась особа с громадным состоянием. Что же получилось? Позор и вечный страх, что он повторится! А в близком будущем моих детей ждут нужда и лишения.
Я указал на то, что ее муж исключение, редкий негодяй и эротоман.
– В каждой семье что-нибудь да не ладно, – возражала она, – в одной муж пьяница, если он порядочный, то жена совершенная пустышка, разоряет семью на свои наряды, в другой муж картежник или жена истеричка, портит жизнь окружающих своими фокусами и причудами. В семьях средней руки, которые мне приходилось наблюдать, всегда есть какая-нибудь червоточина, какой-нибудь дефект. Ну, а сам ты разве встречал когда-нибудь вполне счастливое супружество? И как это ни странно, но ни продолжительное знакомство, ни длительное жениханье до брака не гарантируют семейного счастья. Верь мне, счастья нет на земле! Все счастье состоит в том, что в ранней молодости человек мечтает о счастье, о взаимной страстной любви, – вот это-то и есть единственное счастье, самая лучшая пора жизни. Ты жестоко поплатился за свои мечты и фантазии. Ну, и будет: начинай реальную жизнь. Я знаю, мои слова кажутся тебе дикими, но умоляю тебя, подумай о них.
После отъезда сестры возвратилась и Мария Петровна, бледная, трепещущая, заплаканная, перепуганная. От волнения она долго не могла говорить. Оказалось, что госпожа X. вышла из себя только потому, что Марья Петровна осмелилась переступить порог ее дома. «Как же вы не понимаете, – говорила она ей, – что я обещала взять вас к моим детям раньше, чем с вами произошла эта гнусная история, после которой вы не имеете права являться ни в один порядочный дом, а тем более сделаться наставницей детей».
Марья Петровна еле вытягивала из себя эти слова и прибавила уже рыдая, что она настолько подготовлена к преподаванию, что смело может быть и школьною учительницею, и давать уроки из гимназического курса. Но как найти сразу, сию минуту место, где она могла бы приклонить голову?
Я не мог ее дослушать: жалость обожгла мое сердце; я убежал в свою комнату и начал думать. В словах моей сестры я находил теперь много справедливого. «К чему мне моя свобода? – спрашивал я себя. – Женившись на этой девушке, неповинной в своем несчастье, я, по крайней мере, избавлю ее от безвыходного положения».
Я рассказал Марье Петровне историю своего увлечения, не утаил и того, что до сих пор страдаю от его последствий, и высказал надежду, что мы, оба несчастные, скорее поймем друг друга, чем счастливые люди, что мы будем стараться всю жизнь поддерживать друг друга…
Через три дня мы повенчались.
На первых порах мне пришлось много хлопотать и это отвлекло меня от моих навязчивых мыслей. Жена моя чуть не на другой день после свадьбы погрузилась в хозяйство. Она приютила в людской старика-калеку, бывшего когда-то старостою, управлявшего огромным поместьем и опытного хозяина. Он указывает ей все, что и как следует сделать и поправить в хозяйстве, помогает ей в этом и моя сестра. И вот за полгода с небольшим со времени нашей свадьбы мое маленькое имение и дом приведены в блестящее состояние. Я ценю и уважаю жену, но это нисколько не сблизило нас, и мой брак оказался большим несчастьем не только для меня лично, но и для нее и даже для моей сестры. В первое время моя жена более доверчиво и ласково относилась ко мне, приходила поболтать по вечерам, почитать, но потому ли, что я не сумел воспользоваться этим, чтобы сблизиться с нею, или потому, что она рассчитывала быстро завоевать мою любовь, а вместо этого видела, что тоска, уныние и дурное настроение опять захватили меня в свои когти, она совсем отшатнулась от меня, и мы живем, как чужие, связанные только общностью хозяйственных интересов. Сестра, которая теперь относится к ней, как к родной дочери, с нескрываемой досадой смотрит на меня, упрекает меня за мою холодность к жене, но более всего терзается угрызениями совести, что она толкнула меня на этот брак, и проклинает своего мужа, главного виновника этого несчастья. И вот она же, сестра, упросила меня отправиться на рождественские праздники в Петербург, чтобы окунуться в жизнь той среды, в которой я так привык вращаться, но прежде всего чтобы посоветоваться с специалистами по нервным и душевным болезням.
Если бы я хотя на минуту мог представить себе, что Антонина Николаевна возвратится из-за границы во время моего пребывания здесь, я бы, конечно, ни за что не тронулся с места. Но все, кого я встречал еще перед своим переездом в деревню, утверждали с ее слов, что она уехала на два года. И вдруг я узнаю, что она возвращается, но что еще больше изумило меня, так это то, что она несколько раз писала мне. Тут уж я забыл решительно обо всем на свете: и свою тяжелую борьбу, чтобы выкинуть ее образ из головы и сердца, и о том, что между нами уже давно все покончено и что я женат. Я не мог дождаться утра и задолго до прихода варшавского поезда уже был там. Оттого ли, что, как только она появилась, мои глаза застилал какой-то туман, или потому, что я надвинул шапку на глаза, но при первой встрече я плохо ее разглядел. Когда же я пришел к вам вечером и долго наблюдал ее из-за елки, она пленила меня еще с несравненно большею силою, чем прежде, и своим прелестным лицом, и своими живыми, умными глазами, своею игрою с детьми, и даже своими приплясываниями и притоптываниями. У меня так билось сердце, что я боялся упасть в обморок… Я понял, что только она, одна она могла бы дать мне счастье, что только одну ее я любил и буду всегда любить. А когда при следующем свидании она сообщила мне о содержании своих писем ко мне и так робко, так застенчиво-стыдливо призналась, что она тосковала обо мне, что она горько сожалела о том, что не исполнила моего желания, – тогда я уже окончательно потерял голову. Каждый день с раннего утра я только и думал о том, как бы поскорее увидеть ее. Однако, возвращаясь в свою комнату после «целого дня, проведенного с нею, у меня вдруг являлась злоба против нее. Я мысленно упрекал ее за то, что она исковеркала мою жизнь, что я для того, чтобы не думать о ней, забыть об обиде, нанесенной мне ею, женился без любви, вконец испортил молодую жизнь несчастной жены… И в такие минуты, должен сознаться, я пылал к ней враждою и ненавистью. Но когда на другой день я встречал ее, злые чувства пропадали, как по мановению волшебного жезла, я снова был бесконечно счастлив, снова восторг охватывал мою душу. Я много раз решал сказать ей о своей женитьбе, но все откладывал до следующего раза.
В тот день, когда мне пришлось увидеть Антонину Николаевну на именинах, я получил письмо от жены, в котором она извещала меня об опасной болезни моей сестры. Я был особенно злобно настроен не только по тем мотивам, которые всегда заставляли меня страдать из-за Антонины Николаевны, но и потому, что я вынужден был расстаться с нею и сказать ей о своей женитьбе. О чем я говорил с нею в этот злосчастный вечер, я совершенно не помню. Еще менее понимаю я, как я мог признаться ей в своей женитьбе в такой гнусной, в такой оскорбительной для нее форме! Клянусь вам всем святым – я как-то мало соображал… Я машинально повторял себе, что должен сейчас, сию минуту все сказать ей… Сердце разрывалось от муки… Я не знаю… я помню и не помню… я говорил и делал все в каком-то тумане».
Кончив свой длинный рассказ, Манькович долго сидел молча, затем обратился ко мне с просьбой упросить Анто нину Николаевну, чтобы она приняла его хотя на несколько минут, – ему крайне необходимо сказать ей несколько слов. Я указала ему на то, что с самой минуты возвращения с вечеринки она до сих пор ни с кем из нас не проронила ни слова, не спала и не ела, что, по словам доктора, у нее тяжелое нервное потрясение. Маньковича это так поразило, что он, то ломая руки, то закрывая лицо руками, забегал по комнате, с отчаянием повторяя: «Боже мой, боже мой! Я подлый убийца!»







