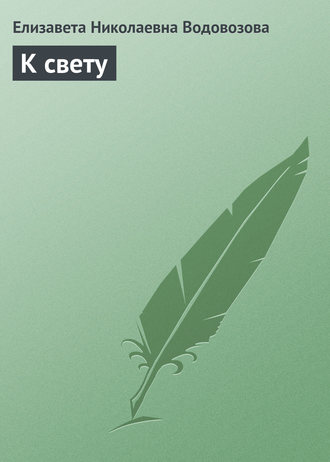
Елизавета Водовозова
К свету
– Дядечка, разве ты руками будешь есть?
– А разве я собака или кошка, чтобы лакать? Руки – главные помощники при еде! Не вам чета! Вы только мешаете, а сами, чай, здорово закусили? А ведь ты, крошка, кажется, проголодалась? Так умильно поглядываешь на меня? – И он заботливо клал в рот девочке-толстушке, сидевшей у него на коленях, кусочки котлеты.
– Ну, – сказал профессор, вставая, – теперь я основательно подзакусил и могу делать все, что вам угодно. – В зайчики! – Нет, лучше в петушки играть!.. И профессор на корточках скакал по полу, приставляя к своим ушам ладони рук, чтобы показать, как зайчик прядет ими, вскочив на ноги, махал руками, изображая крылья птицы, и кричал кукуреку, куковал, как кукушка, блеял, как овца, бегая, трусливо поглядывая по сторонам, злобно лаял, как собака, точно бросаясь на прохожих… И вся толпа детишек вместе с ним скакала на корточках, так же, как и он, вскакивала на ноги и проделывала те же самые движения, издавая те же звуки.
– Ну-ка отдохнем да песенку споем… – предложил профессор. Все вмиг уселись на стулья и затянули песенку. – Давайте-ка дрова рубить! – И дети во главе с своим предводителем проделывали соответственные движения. Но вот начались подвижные игры, и профессора выбирали то волком, то кошкою, то мышью. В этих ролях фигурировали и другие, но первый номер всегда оставался за профессором, и он самым добросовестным образом старался представить зверя, которого изображал.
Наконец один за другим раздались звонки: это матери, няни, горничные пришли за своими питомцами.
– Не хочу. Не пойду домой! – кричали малютки.
– Мамочка, хотя минутку, одну самую, самую маленькую минутку подожди! – умоляла девочка-толстушка. Немало было и детей, проливавших горячие слезы о том, что их берут домой. Профессор успокаивал их, говоря, что он устал, а что назавтра он придумает такую, такую штуку!.. Софья Андреевна и помощница помогали одевать ребят.
Придерживалась ли госпожа Люгебиль какого-либо метода в своем детском саду, трудно сказать, но в нем царила из ряду вон горячая любовь к детям и совершенно особая атмосфера истинного счастья, которым дети сами наслаждались и которое они давали своим воспитателям. В это время эти учреждения никому не приносили большой выгоды, но некоторые из них все же хотя несколько вознаграждали за труд воспитательниц, а детский сад Люгебиль давал лишь большой убыток: много детей она принимала совсем даром, за других платили половину назначенной платы, и едва ли за четверть принимаемых детей делался надлежащий взнос.
– Какие чудеснейшие люди эти Люгебили! Даже и тот, кто равнодушен к детям, может у них научиться любить их, – повторяла Тоня. Ее теперешнее обыкновенно хорошее настроение делалось все более жизнерадостным.
– Несомненно, это люди замечательно добрые, любвеобильные, сердечные… И хотя для детей возраста детского сада любовное отношение должно быть главнейшею основой воспитания, но, по-моему, нельзя же все нести на алтарь любви… Нужно что-нибудь давать, чтобы расширять умственный кругозор детей… – заметила я.
– А с моей точки зрения, – возразила Тоня, – когда встречаешь таких редкостных людей, которые одною любовью могут творить чудеса, вызывать в окружающих такую горячую привязанность, критика неуместна…
– Не влюблена ли ты, что такая ликующая?
– То ли будет тогда!.. – отшучивалась она. – Но я все-таки очень, очень счастлива.
– Мне кажется, однако, что это не мешает порядочной девушке побольше думать о своем туалете, красоте и эстетике. Твое платье без цветного бантика и других соответственных украшений скоро заставит зачислить тебя в разряд нигилисток, – говорила я шутливо, употребляя ее прежние слова и выражения, чтобы дать ей почувствовать всю их несостоятельность.
– Какой там бантик! Когда мы начали прыгать на корточках, один ребенок зацепился за него и я нашла его потом на полу растерзанным.
– Да кому какое дело, почему твой туалет страдает от отсутствия изящества, столь необходимого для порядочной молодой девушки, почему он начал носить признаки декаданса и монашества. Я уже давно замечаю, что с тобою творится что-то неладное. И прическа твоя указывает на это… Вообще у тебя начинают сильно шататься твои туалетные принципы.
– Моя прическа, которую у вас прозвали «эшафотом», действительно бросается как-то в глаза… Да нечего тебе изводить меня насмешками! Они не умалят моего чудеснейшего настроения.
Когда я через часа два вошла к ней, несколько исписанных листиков почтовой бумаги лежали в стороне, а она все еще продолжала быстро писать.
– О чем ты можешь писать такие длинные письма твоему крестному?
Она ничего не ответила, но это отчасти выяснилось для меня, когда недели через две почтальон подал два письма – к ней и ко мне.
– Ах, крестный, дорогой мой: и тебе накатал послание. – узнав его почерк на обоих конвертах, заметила Гоня. – Что же он тебе пишет?
Осыпает меня такою горячею благодарностью за те, я, которую я вовсе не заслужила. Почему же ты не написала ему о том, сколько ты помогаешь мне в моих делах? Я непременно напишу ему, что ты наплела ему порядочных небылиц, что ты из ледяной глыбы превращаешься в вулкан!.. Письмо твоего крестного мне очень понравилось. Каждою своею строчкою он говорит о том, что он любит тебя, как сорок родных отцов любить не могут, что рука, которая писала эти строки, дрожала от волнения, слезы капали из глаз… Смотри – слезы и теперь еще заметны на бумаге! Да, он, должно быть, чрезвычайно добрый и хороший человек! Дай мне прочитать его письмо к тебе, – просила я Тоню.
Вот выдержка из него: «О мое дитя, мое сокровище, моя родная девочка! С каким восторгом я вижу из твоего письма, что с тобою совершается чудо, более поразительное, чем то, о котором повествует миф о Галатее. Эту прекрасную статую пробуждает к жизни ее творец, великий художник Пигмалион… Я всегда рассчитывал, что и для тебя наступит время, когда придет твой Пигмалион и разбудит тебя от сна, вдохнет жизнь в свое художественное произведение и заставит быстрее переливаться кровь в твоих жилах. Но ты пробуждаешься самостоятельно: у тебя являются более духовные и общественные цели, что несравненно ценнее и благотворнее для современного человека. Особенно радует меня то, что у тебя раньше личных чувств явилось стремление к трудовой жизни, сочувствие ко всему возвышенному и прекрасному. А насчет Пигмалиона – не тужи: он придет в свое время, но уже не для того, чтоб пробудить тебя к реальной жизни, а чтобы бросить к твоим ногам весь пыл юной страсти, чтобы высказать тебе свой восторг и преклонение, умолять тебя сделаться его подругой, его ангелом-хранителем, его вдохновительницею благороднейших современных идеалов. О да, конечно, это так должно быть, и это будет именно так. Как только все сладится у вас ко взаимному удовольствию, я тут как тут: сейчас же приковыляю к вам на одной ножке (мой ревматизм сильно дает себя чувствовать в последнее время), чтобы погреться у вашего, родного для меня очага».
VII
Наша мирная совместная жизнь была внезапно нарушена совершенно неожиданно. Однажды в ноябре, который выдался в том году особенно морозным и снежным, перед самым обедом, когда мы были все дома и сидели с Тонею в детской, кто-то так сильно дернул за колокольчик, что ребенок, сидевший у меня на коленях, вздрогнул и вскрикнул от испуга.
– Так звонят только неделикатные люди! – проговорила Тоня и побежала открывать дверь. Но она быстро вернулась и, наклоняясь ко мне, прошептала: «Это Аня Ивановская. Кажется, так же, как и я, совсем переезжает к вам». Я невольно взглянула на нее и удивилась бледности, мгновенно покрывшей ее всегда румяные щеки. За нею скоро вошла и Ивановская, наша институтская подруга. Она бросилась обнимать и целовать меня, сопровождая свое приветствие восторженными восклицаниями.
– Как я рада, что наконец вижу тебя! Ты знаешь, как я тебя люблю! Господи, как я к вам рвалась! А, и Василий Иванович! Здравствуйте, дорогой, дорогой Василий Иванович. Дайте мне пожать вашу благородную руку! Вспоминали ли вы меня когда-нибудь? «Чего мне вспоминать такую стрекозу?» – думаете вы, а я в восторге, прямо в восторге, что вижу вас! Вы оба чудеснейшие люди…
– Будем объясняться в любви после обеда. На голодный желудок это как-то неудобно… – сказал Василий Иванович. Мы двинулись в столовую, и только это остановило на минуту безудержную болтовню Ивановской.
– Где же ты пропадала? Я тебя не видела более полугода! – спрашивала я ее.
– Да ведь меня отец в гувернантки сунул! Да… сунул и, по своему обыкновению, против моего желания. Я ему говорю: «Папа, уважающая себя девушка теперь старается применять свои силы к более плодотворной деятельности, чем гувернантство». Но ему хоть кол на голове теши. Ведь он невообразимый деспот и тиран! К тому же современные идеалы ему и не по плечу! Ну, что же вам еще сказать? Место, как и нужно было ожидать, оказалось прегнусное: из меня хотели сделать безответную рабу. Пробыла три месяца, плюнула и уехала.
– Странно. Единственный раз, когда мы были у тебя и видели твоего отца, он произвел на нас впечатление человека весьма порядочного, неглупого и горячо любящего своих трех дочерей.
– О, он знает, как и с кем разговаривать! Он подъезжает ко всем «красным», и сам желает прослыть человеком либерального образа мыслей.
– Но такая репутация для чиновника не совсем удобна. И зачем ему наше мнение? Мы не поддерживаем с ним никаких отношений, круг наших знакомых совсем не тот, что у него.
– Привык ухаживать за своим начальством, ну и подлизывается ко всем.
– Однако нельзя сказать, чтобы ты очень почтительно отзывалась о родном отце, – заметила Тоня.
– А ты, Тонечка, все такая же паинька, какою была?
– Но теперь-то где же вы живете? – спросил Василий Иванович.
– Господи! – всплеснула она руками. – Разве я не сказала? Вот ведь какая я рассеянная! Я разошлась с отцом, совсем разошлась! Жить с деспотом, который истерзал мою душу, я больше не в силах. Я убежала от него навсегда и совсем перебралась к вам. Я могла бы поселиться у тетки, – она довольно добродетельная старушонка, но невыразимо скучное созданье, и притом заскорузлая реакционерка и ретроградка. К тому же отец в последнее время своими жалобами так восстановил ее против меня, что она тоже лезет теперь ко мне со своими тошнотворными нравоучениями. Да и с какой стати я переселилась бы к ней, когда могу переехать к вам, моим милым, хорошим, чудеснейшим людям?
Вместо того чтобы поблагодарить ее за выраженные чувства восторженной любви и такого наглядного их доказательства, как ее переезд к нам, я заметила:
– Право, не знаю, Аня, куда я тебя помещу. У нас нет не только свободного угла в квартире, но даже дивана, на котором я могла бы тебя положить.
– Вот пустяки! Стоит ли об этом думать! Я могу лечь куда попало, хотя в передней. Ведь кроме вас, мне некуда деваться.
– Конечно, если это так, то мы должны потесниться, – возразил Василий Иванович.
– Самых деликатных людей возмущает, когда с ними поступают неделикатно, а вас, Василий Иванович, и это не может вывести из терпения, если вам только кто-нибудь скажет, что ему некуда деваться… хотя бы это было из-за взбалмошности! Вот попомните мое слово: к вам скоро явится еще новая жилица… Нами двумя дело не ограничится. Я лично не считаю возможным более стеснять вас, а потому и отправляюсь сейчас же отыскивать себе комнату, – проговорила Тоня с пылающими от негодования щеками и встала, чтобы отправиться к себе.
Я знала, что у нее дело не расходится со словом, и загородила ей дорогу. Я дрожала при мысли, что она, с которой я так сроднилась душой, сию минуту уйдет от нас к незнакомым для нее людям, уйдет из-за Ивановской, к которой я никогда не питала нежных чувств.
– Если ты уйдешь… если даже ты будешь продолжать об этом думать… ты мне причинишь такую боль… – Я чувствовала органическое отвращение высказывать свои чувства, и эти слова мне пришлось с силою вытягивать из горла, да и то только страх, что Тоня сию минуту убежит от нас, заставил меня высказаться.
– Ах, Лизочка, разве ты не знаешь Тоню? О, я хорошо изучила ее за два года нашей совместной жизни в пепиньерках! Это холодная натура, которая никого не любит, никого не жалеет! Она намекает, что я взбалмошная. Пусть так: я не могу и не хочу всегда оставаться в рамках ее холодного, мещанского расчета и бездушного эгоизма.
– Зачем вам, Антонина Николаевна, уходить, подымать такую трагедию? Вы знаете, как мы все к вам привыкли, как все здесь любят вас… Но, конечно, если у человека нет пристанища, знакомые должны устроить его у себя. Переселение к нам Анны Петровны не может помещать и вам оставаться у нас.
– Вы бы, Василий Иванович, лучше не рассуждали о таких вещах. С утра и половину ночи вы сидите за книгами, поглощены вашими лекциями, статьями и решительно ничего не понимаете в практической жизни. Имеете ли вы какое-нибудь представление о том, какую уйму хлопот и неудобств вносит каждый новый жилец в скромную жизнь такой семьи, как ваша? Вы даже не можете сообразить того, что в вашей квартире немыслимо найти уголок, где можно было бы положить спать хотя на одну ночь еще новую жилицу.
– А вот вы сейчас будете посрамлены в ваших великолепных, всесторонне обдуманных, практических соображениях! – возразил Василий Иванович. Затем он начал отодвигать стол к стене, поставил два кресла одно против другого в некотором расстоянии, наконец вышел из комнаты.
Нужно заметить, что единственная у нас свободная комната, не служившая ни спальнею, ни рабочим кабинетом, была столовая. Эту комнату почти всю целиком занимал обеденный стол, который кругом был обставлен стульями; от них до стены оставалось не более полу аршина свободного пространства, а в углах стояли два кресла.
Василий Иванович возвратился с гладильной доской и начал ее вставлять в расставленные кресла.
– Вот вам и отличная постель! А, что? – воскликнул он, поглядывая победоносно на всех нас.
Няня, увидав, что Василий Иванович тащит гладильную доску, так заинтересовалась этим, что вошла в столовую.
– Но это еще не все… подождите. Знаю, что в таком виде предусмотрительные хозяйки сейчас закричат, что стулья загораживают дверь, что нельзя будет проходить в переднюю… – и он схватывал стулья, которые с грохотом падали на пол, подымал, выносил их в переднюю и ставил там друг на друга… – Ну, что, хорошо? И еще с каким комфортом можно устроиться… – наивно-простодушно, как ребенок, восхищался он своим произведением, то отходя от него, то возвращаясь к нему, чтобы поправить неправильно стоявшие кресла. – Обратите внимание, как все это основательно устроено: с одной стороны стол, с другой стена подпирают кресла и не дают им раздвигаться, а стол сослужит двойную службу: на него можно поставить подсвечник и все, что требуется.
– А когда барышня будет ложиться спать да пошевелит креслами, вот она и шмякнется на пол.
– Что ж, и этой беде можно помочь! – проговорил Василий Иванович и через несколько минут принес огромную веревку и начал ее обвязывать вокруг кресел.
– Да что же вы делаете, Василий Иванович? Смотрите… вы так стянули кресла, что гладильная доска порвала уже их обивку! – говорила Тоня с досадой.
– А все-таки такая кровать будет для барышни узка. Да и очень жестко ей будет спать на ней. А у нас нет ни одного лишнего тюфяка, – заявила няня.
– Ну, это уже совершенные пустяки: в третьем классе по железной дороге путешествуют еще с меньшими удобствами. Наконец, на доску можно положить какую-нибудь одежду, – упорно отстаивал Василий Иванович выгоды своего изобретения.
– У меня самой найдется кое-что… – проговорила Аня, выбежала в переднюю и вынесла оттуда что-то, обернутое в газетную бумагу. Она развязала веревки и вынула роскошнейшую дамскую шубу черно-бурой лисицы, покрытую великолепным черным бархатом.
Мы с Тоней, зная более чем скромные размеры жалованья отца Ани и сейчас же заметив, что шуба гораздо длиннее, чем то требовал ее рост, как-то невольно в один голос вскрикнули: «Аня! Да откуда же у тебя такая роскошная шуба?»
– От покойной мамы в наследство досталась.
– Почему же она досталась тебе, а не твоей старшей сестре Кате или младшей – Ольге?
– А почем я знаю! Досталась, да и только, – с неудовольствием процедила Аня сквозь зубы.
Василий Иванович нашел эти разговоры не идущими к делу. Ему так хотелось поскорее покончить с своим изобретением и представить его нам во всем блеске. Он почти вырвал из рук Ивановской шубу со словами: «Ведь это же устраивается гораздо великолепнее, чем я мог себе представить! Вот смотрите: одну половину шубы мехом вверх следует разостлать на доске. Воротник представит мягкую, как пух, подушку, а чтобы сделать ее выше, можно подсунуть платок какой-нибудь или книгу, а другою половиною шубы вы, Анна Петровна, можете накрыться… – Для наглядности и чтобы лучше приноровить шубу к спанью, он мял ее без всякой пощады, складывал на разные лады, причем она трепалась по полу, подсовывал кулаки под воротник, не обращая внимания ни на драгоценный мех, ни на бархат. – И это прекрасно, что у вас оказалась такая хорошая шуба! У нас в столовой холодновато. Ну, вы теперь устроены по-царски!»
Ответом на это был залп единодушного хохота: няня, Тоня и я просто покатывались со смеху, унимались на минуту, но смех снова душил нас. Только Аня стояла, не произнося ни слова, хмурая и надутая, а Василий Иванович, поглядывая на меня и Тоню, с сокрушением покачивал головой.
– Ведь ежели бы нашего барина послушать, кто его не знает, значит такой господин, который не может вполне полно постичь его карактер, он, наверно, подумал бы, что барин наш просто шутки шутит, а ведь он, как перед истинным, все это всурьез барышне советует… – говорила няня, захлебываясь от смеха.
– А вы обе, – произнес Василий Иванович, с несвойственным ему озлоблением поглядывая то на меня, то на Тоню, – недалеко от нее ушли. Вы наглядно подтверждаете Давнишнюю мою мысль, что институт такое ядовитое учреждение, которое навсегда отравляет кровь воспитываемых. Вы обе сознательно учитесь, работаете, серьезно смотрите на жизнь, а допотопными взглядами ваших прабабушек вас так пропитали, что уже никто и никогда не выбьет их из ваших голов. По-вашему, пусть человек замерзнет, но, боже сохрани, накрыться красивою шубою: на нее следует смотреть, как на святыню.
– Что дорогую шубу не следует трепать, как подстилку, подобными допотопными взглядами проникнуты, вероятно, не только институтки… Но относительно этого у нас с вами, Василий Иванович, диаметрально противоположные взгляды… А вы мне вот что скажите: допустим, что для Ивановской вы устроили роскошнейшую спальню, ну а третью жилицу куда же вы положите?
– А вы и тут сообразить не можете? Вы – гений практичности и благоразумия! А вот этот стол, ну зачем он стоит по ночам без всякого употребления? Его можно несколько раздвинуть и превосходнейшим образом выспаться на нем.
– Ну, я уж никогда не стала бы обедать за столом, на котором спят! – сказала Тоня.
– Хотя теперь каждый порядочный человек считает долгом упрощать свою жизнь и сокращать свои удобства, но я никогда не видала, чтобы самый бедный крестьянин спал на обеденном столе, – заметила я.
– Мало ли какие предрассудки у крестьян! Можно подражать только хорошему… А и несчастные же вы обе (это обращение было ко мне и Тоне)! Много вам придется пережить бессмысленных, ненужных страданий, если вы как-нибудь очутитесь в крайней бедности.
Мы не допустили Аню спать на ее драгоценной шубе, а бережно повесили ее в шкап. Прежде чем она улеглась, мы все, даже прислуга, принесли ей кто подушку, кто плед, кто одеяло. Спать ей было не жестко, но на другой день она говорила, что несколько раз падала на пол со своей импровизированной кровати. Может быть, это так и было, но возможно, что она видела это только во сне. Вообще она любила рассказывать различные происшествия, которые как-то особенно часто случались именно с нею. По своему характеру Анна Петровна Ивановская была особа неуравновешенная, неустойчивая до полного легкомыслия. И со знакомыми, и с малознакомыми она была то смелою до бесцеремонности, то трусливою до неприличия; она легко поддавалась как дурному, так и хорошему влиянию каждого более ее сильного и красноречивого человека, но то и другое быстро соскальзывало с нее, не зацепляясь ни за ее сердце, ни за мозг. Красивые слова и мысли, вычитанные или услышанные ею, производили на нее чарующее впечатление, но она никогда не разбиралась, правильны они или нет, справедливы или несправедливы, но тотчас вносила их в свои разговоры и рассуждения, иногда даже невпопад. Послужив ей недолго, эти мысли и слова быстро исчезали из ее лексикона, но приносили ей нередко большие неприятности: чужие выражения, иногда весьма злые и остроумные шутки, которые она пускала в оборот, высказывались ею не для того, чтобы уязвить кого-нибудь, но потому, что они казались ей красивыми и оригинальными, а какие они могут иметь последствия, об этом она никогда не думала.
Влюбчива она была до невероятности, то и дело меняя один предмет страсти на другой. Уже будучи взрослою девушкою на выпуске, когда при новом режиме в институте исчезло пресловутое «обожание», ей случалось влюбляться в преподавателя, которому за несколько дней перед тем она наговорила дерзости, коробившие ее подруг. Когда у нее являлся новый «предмет страсти», она всем надоедала разговорами о нем и своими восторгами. Ей кричали: «Ах ты, сума переметная!» – но ее гораздо более выводило из себя, когда воспитанницы хором пели: «Ах, Аннета, что же это?» – модулируя эту фразу то в насмешливом, то в угрожающем, то в укоризненном тоне. Она тогда на всех кричала, топала ногами, бранилась и кончала рыданиями с истерическими выкриками. Такою она была, такою и осталась в то время, когда появилась на нашем горизонте.
Ивановская то и дело приходила в какое-то возбужденное повышенное состояние: ее чувства, желания, настроения, взгляды, понятия о людях, ее симпатии и антипатии очень часто менялись. Ее нельзя было назвать ни умной, ни глупой, ни злой, ни доброй. В настоящее время ее, вероятно, считали бы психопаткою, но тогда этот эпитет не был еще общераспространенным, и тот, кто ее близко знал, называл ее истеричкою.
Мы, подруги Ивановской, находили ее внешность эффектною, думали, что она будет нравиться. И действительно, с первого взгляда она казалась привлекательною. Она была среднего роста, худощавая, но пропорционально сложенная, с тонкою, красивою талиею, с густыми, черными как воронье крыло волосами и с такими же черными, густыми бровями дугой. Но, приглядевшись к ней поближе, в ее наружности обыкновенно открывали много дефектов. Одни говорили, что черты ее лица так мелки и что резец ее творца так мало углубил их, что она уже в среднем возрасте будет представлять стертую монету. Других поражали ее голубые, слишком светлые глаза, лихорадочно блестевшие во время нервного возбуждения, а в более спокойные минуты не имевшие никакого выражения, точно они были из фарфора, разрисованного чересчур водянистою голубою краскою. Но более всего поражал бледно-молочный, без малейшего румянца, цвет ее лица, которое резко выделялось из рамки черных волос, за что с первого ее появления у нас ее прозвали «мухою в молоке».
Аня переоценивала свои внешние и психические качества, подозревала каждого, кто подольше останавливал на ней свой взгляд, что она пронзила его сердце стрелой Амура, и начинала с ним кокетничать напропалую, говорить еще более фразисто, все это обыкновенно кончалось тем, что она производила дурное впечатление.
Наша совместная жизнь приносила и Ивановской и нам множество неудобств. Неаккуратная и рассеянная вообще, а тем более в нашем доме, где она не имела собственного угла, она всюду разбрасывала свои вещи, беспрестанно умоляла прислугу отыскать ей то одно, то другое. Поздно вставая по утрам, она мешала нам пить чай в столовой и много прибавила хлопот и работы служащим, которым она вообще пришлась не по душе. Ни обязанностей, ни занятий у нее не было в это время: она любила читать и читала, но книга, как всякая работа, скоро ей надоедала. Тогда она шла к кому-нибудь из нас: поговорив с нею несколько минут, как я, так и Тоня (когда дело касалось болтовни, Аня забывала антипатию к ней) отделывались от нее чем-нибудь в таком роде: «А ты не читала такой-то статьи? Непременно прочти, очень интересная», – и совали ей номер журнала. Она отправлялась к Василию Ивановичу: «Пожалуйста, поговорите со мною», – упрашивала она его. Он имел привычку так уходить в свои занятия, что не видел и не слышал, что делается вокруг. Но когда она повторяла свою просьбу во второй и третий раз, он отрывался от своей рукописи, смотрел на нее непонимающими глазами и как-то испуганно спрашивал: «Что, что такое случилось? Ах, поболтать… Хорошо. Очень рад!» Он быстро вставал, набивал свою трубку и, покуривая, начинал шагать по кабинету. «Пожалуйста, Анна Петровна, говорите, я вас слушаю…»
– Что же я могу сказать? Вы все знаете обо мне? Я не скрыла от вас, что до сих пор жила при условиях, убивающих всякую мысль.
– Но вы достаточно уже имели времени, чтобы создать надлежащее содержание для своей жизни, обдумать, к чему вас более всего влечет, и начать серьезно и систематично работать в этом направлении.
– Я не лентяйка. Работаю, но работать с утра до рассвета – слуга покорный… Знаете ли, во что вы превратили свою жизнь? В фабрику писания, в фабрику чтения, в фабрику работы без просвета и отдыха! Работая так, вы скоро разучитесь и думать.
– Нельзя сказать, чтоб мы работали без отдыха: у нас приемные дни, и мы сами, хотя, правда, очень редко, но все же посещаем знакомых. А что много приходится работать, что же делать? Знаете пословицу: не так живи, как хочется, а как бог велит.
Но трубка была уже выкурена, и Василий Иванович садился за свой стол. «Вы, пожалуйста, продолжайте говорить, Анна Петровна… я буду вас слушать. Мне нужно только одну строчку дописать». Но как только он садился в кресло и наклонялся над бумагой, так буквально ничего не видел и не слышал, не отвечал даже, когда Аня о чем-нибудь спрашивала его, не замечал и того, что в ее голосе слышались истерические нотки, что она укоряла его и весь свет в индифферентизме по отношению к ней и наконец, раздраженная невниманием, хлопала дверью кабинета и выходила.
Однажды я возвратилась из школы несколько ранее обеда. Няня объявила мне, что нет никого дома. Антонина Николаевна приказала передать мне, что она получила от крестного письмо и две корзины с гостинцами, которые ей доставил рассыльный. В одной из корзин были банки с вареньем, предназначенные для меня, а в другой – домашнее печенье и пряники для Тони.
– Эти четыре банки с вареньем и корзину барышня просила вас спрятать, а сама уехала к барыне, которая все это привезла ей. И подумайте только: когда за барышней захлопнулась дверь, а «она-то» и шасть в столовую…
– Кого же это, няня, вы называете «она-то»? – перебила я ее, прекрасно понимая, кого она имеет в виду.
– Да наша-то новая жиличка.
– Ведь вы же называете по имени Антонину Николаевну, а эту барышню должны называть Анной Петровной.
– Разве ж их можно приравнять друг к дружке? Антонина Николаевна наша как есть настоящая барышня, умная, деловитая, а ведь это же какая-то шалая!
– Прошу вас, няня, не говорите мне так о ней.
– Да как же ее так не называть? Посудите сами: как только за нашей барышней захлопнулась дверь, «она» вытянула банку из корзины, схватила ложку и ну лакать варенье, как кошка молоко. А я ей вежливо-превежливо говорю: «Как же это вы насчет варенья не соблюдаете никакой аккуратности? Ведь это не каша. Вот пообедаете, так к чаю варенье и будет подано». А она мне: «У вас все размерено, все рассчитано по линеечке да по ниточке, а я этого терпеть не могу!» Ну, и нахлебалась же «она», – больше фунта сразу отхватила…
– Стоит об этом говорить! – И я, чтобы унять поток няниных речей, направилась в свою комнату.
– Нет, уж как хотите, Елизавета Николаевна, а чтоб не вышло чего, вы уж разберите нас с нею.
– Кого и с кем разбирать?
– Да меня и кухарку Варвару с Анной Петровной. Прибежала это она к нам намедни в кухню, и ну нас упрашивать дать ей взаймы рублей шесть. Как ни уговаривала она нас, как ни божилась, что отдаст на будущей неделе, а все-таки не уломала ни меня, ни Варвару. Видим, что барышня ветрогон, чего ради нам деньги наши терять! Ушла. Бегает по комнате сердитая такая, к барину пристает: «Тоска душу мою иссушила…» И бессовестная же она: не стыдится даже барина беспокоить, а он из-за работы по ночам не спит…
– Чего только вы не наплели, няня! Кончайте же то, что вы начали…
– Так вот она опять прибежала к нам, держит в руках два платья, бросила их на Варварину кровать и говорит: «В долг не хотите дать, так вот я вам их продаю по три рубля за каждое. Давайте шесть рублей, и оба платья ваши. Сделаны они мне этою осенью, пятьдесят рублей за них дадено, а я вам за шесть рублей уступаю. Одевала я их не больше как по два, по три раза». Подумали мы, подумали с Варварушкой и рассудили: лифа-то не годятся для нас, она уж больно щупленькая, а юбки можно приноровить: материя дорогая. Дали мы ей шесть рублей, да потом нас думка взяла: как бы с ее какого греха не нажить. И решили мы вам все рассказать.
– Эти шесть рублей считайте за мной. Через недели две-три я или возвращу вам эти деньги и передам платья Анне Петровне, или ваши деньги останутся у нее, а вы будете делать с вашею покупкою, что вам заблагорассудится. А до тех пор прошу вас не дотрагиваться до этих платьев.
В эту минуту раздался звонок, и я увидала входящую Аню, нагруженную тюрячками и корзиночками.
– У, какой собачий холод! Совсем окоченела… а ты бери и наслаждайся… – тараторила она, бросая покупки на стол и подвигая их ко мне. – Чудеснейшие финики, а здесь миндаль, шептала, все сладости, которые я обожаю! А вот это божественные копченки! У, как холодно! Нянечка: не в службу, а в дружбу, отыщите мой теплый платок, целую горсть сладостей за это получите. А ты, принцесса, почему ни до чего не дотрогиваешься?
– Отчего ты так озябла? Ведь твое пальто на пуху?
– Что же делать, когда оно меня не согревает! Говорила «фатеру», чтобы шубу купил, ну, да он, по обыкновению, пожадничал.
– А что за нужда была тебе сегодня выходить?
– Ну, милая моя, ты никогда не поймешь, что человек от тоски у вас может ошалеть! Вот я побегала по Гостиному двору, заглянула в кое-какие магазины, прокатилась, ну и размыкала грусть-тоску. – И она отправилась в кухню с своими тюрячками и корзиночками и высыпала няне и кухарке в передник и на стол столько гостинцев, что почти опустошила свои сверточки.







