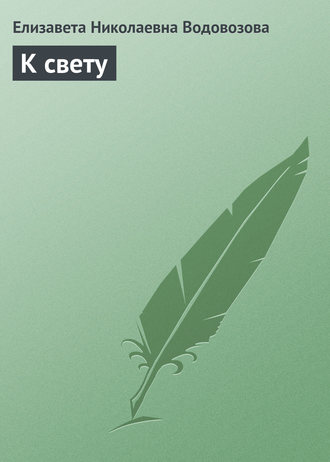
Елизавета Водовозова
К свету
Наконец возвратилась Тоня. Вот что она нам сообщила: Елена Павловна Ермолаева с двумя девочками и с своим мужем, который служил в Воронеже, жили в этом городе, где обе ее дочери 11-ти и 12-ти лет учились в частном пансионе. Лето они проводили в нескольких верстах от города, в своем имении, куда к ним из Петербурга обыкновенно приезжал их сын Александр Петрович Ермолаев, окончивший курс в одном из петербургских юнкерских училищ. В настоящее время он офицер, человек лет 26–27.
Когда Тоня произнесла эту фамилию, она улыбалась и с крайним удивлением смотрела то на меня, то на Василия Ивановича.
– Да разве вы забыли, что это тот самый Александр Петрович Ермолаев, который оказался моим спасителем и рыцарем? Это удивительное совпадение меня крайне поражает! Неужели, Василий Иванович, вы не согласитесь, это что-то крайне таинственное и непостижимое в моей судьбе?
– Час от часу не легче! При ваших институтских понятиях и бреднях вы еще ударяетесь в мистицизм! Только этого и не хватало! А между тем это подтверждает только одно: вместе с допотопными предрассудками вам внедряли еще и суеверный страх перед самыми обыденными явлениями.
– А вот я, – гордо заметила Аня, – не придаю ни малейшего значения приметам: меня не одолевают ни предрассудки, ни суеверия.
– Но ведь ты ни малейшего значения не придаешь здравому смыслу! – насмешливо возразила Тоня.
– О чем же ты сегодня разговаривала с твоим рыцарем? Знает его мать о том, что он явился твоим спасителем? – спросила я ее.
– Оказывается, что как только он услыхал от матери мою фамилию и о том, что она приглашает меня в качестве учительницы к его сестрам, он только тогда рассказал ей о приключении со мной. Ведь это тоже говорит в его пользу! У него, значит, нет привычки хвастаться своими подвигами. Когда madame Ермолаева условилась со мною насчет моих занятий с ее дочерьми, она позвала своего сына. Я тут только в первый раз рассмотрела его как следует. Ведь тогда я была в таком волнении, что у меня все было в тумане… Увы, увы, в этом рыцаре, к сожалению, нет решительно ничего привлекательного. Когда я вспоминала этот злополучный инцидент, Ермолаев всегда представлялся мне не иначе как в самом благородном свете, сиял передо мною своею геройскою доблестью. Может быть, все это так и есть, но в его наружности, в его словах, улыбке, в манере говорить, – одним словом, решительно во всем, он мне показался таким незначительным, таким неумным человеком… Да, полное разочарование!
– Почему же Ермолаева именно тебе предложила урок?
Оказалось, что Ермолаевы хорошо знакомы с ее опекуном, который нередко посещал их дом, и члены этой семьи очень любили его. Когда умер муж Елены Павловны, ел пришлось продать имение и переселиться в Петербург. Она желает жить вместе со всеми детьми и отдать дочерей в гимназию во второй и третий класс. Вот она и решила взять учительницу, которая бы подготовляла девочек в гимназию. Она очень рада, что опекун Тони, которого она привыкла считать добросовестным человеком, рекомендовал ей свою крестницу как надежную учительницу для ее дочерей. Ермолаева предложила Тоне 40 рублей в месяц за три часа ежедневных занятий, – такое вознаграждение считалось в то время превосходным. Тоня с восторгом приняла предложение. На эти занятия у Ермолаевых она смотрела как на великое счастье, свалившееся на нее с неба. Она сейчас же принялась совещаться с Василием Ивановичем о том, что следует ей почитать по разным предметам гимназического преподавания, чтобы с большею подготовкою приступить к занятиям.
– А знаешь ли, – сказала мне Тоня, – я ведь на тебя в большой обиде. Я рассчитывала, что ты отнесешься с восторгом к счастью, которое так неожиданно выпало на мою долю, а ты приняла это почти равнодушно. Даже не поболтала со мною об этой поразительной встрече с Ермолаевым. Ведь при Василии Ивановиче нельзя об этом говорить.
– Это правда, Тонюша… Но что же мне делать, когда я до такой степени поглощена теперь Аниными делами. Предчувствую, что она наделает нам много хлопот с своими авантюрами, втянет нас в какую-нибудь скверную историю… – И я рассказала о продаже Анею платьев прислуге, о сластях, накупленных на вырученные деньги, передала ей мой страх, что она не сегодня завтра продаст свою дорогую шубу, чтобы иметь деньги на покупку конфект, беспокоила меня и мысль о том, кому принадлежит эта шуба.
– Хотя бы ты съездила поговорить о ней с ее отцом, с сестрами, с теткой. Это могло бы тебе что-нибудь выяснить, заставило бы поговорить с нею серьезно о том, почему она без основательной причины, в чем я не сомневаюсь, убежала от отца. А ты относишься ко всему пассивно, но не потому, что ты пассивна по натуре, а потому, что у тебя ложное представление о деликатности или, короче сказать, ты тряпка и еще тысячу раз тряпка!
Я не могла протестовать против этого столь нелестного обо мне мнения потому, что находила в нем много справедливого.
Не разогнал тоску Ани и «вторник», на который она возлагала преувеличенные ожидания. Она надеялась потанцевать, но танцы не состоялись, мечтала встретить Ушинского, но он не пришел. Единственным результатом первого собрания у нас после ее переселения было то, что пан Шершневский всецело овладел ее вниманием. Так как она просидела с ним целый вечер, то я и спросила ее, какой матерьял она могла найти для разговора с ним.
– Сначала он, по обыкновению, говорил мне комплименты, а затем прибавил: «Вы не знаете, какой я несчастный человек! Ни одна женщина до сих пор не позволяла мне добровольно поцеловать ее. Будьте же вы моею Эгериею, моею прекрасною феей, которая первая пожалеет меня!» – и он сказал это с такою грустью, что я до сих пор не могу забыть. Мне так стало его жалко… Знаешь, мне кажется, что вы слишком сурово относитесь к нему.
– Единственное сочувствие, которое он желает вызвать, это чтобы женщины его целовали. Следовательно, и ты отнеслась к нему безжалостно.
– Вот еще! Целоваться с таким уродом, да еще при всех! А я вот что надумала: не предложить ли ему фиктивный брак со мной? Тогда во время бракосочетания мы должны будем поцеловаться… Что же… в благодарность за его согласие, да еще ради такого случая, и только один раз, я могу дать ему возможность поблаженствовать…
– Аня! Ты просто приводишь меня в ужас! Для того чтобы осчастливить его своим поцелуем, ты готова вступить с ним в фиктивный брак! Это слушать даже страшно! Я знаю несколько таких браков, и все они кончались не только очень печально, но в большинстве случаев и трагично! К тому же ведь их заключают вследствие каких-нибудь препятствий со стороны родителей: когда не отпускают дочь учиться, не соглашаются на ее брак с любимым человеком. А ты никогда не говорила нам ни о чем подобном…
– Мне необходим фиктивный брак, чтобы навсегда развязаться с «фатером». Он толкнул меня на постылое место гувернантки, он и в других отношениях может выкинуть что-нибудь подобное. Вот я и хочу выйти замуж, хотя фиктивно, чтобы навсегда избавиться от какого бы то ни было насилия и самодурства со стороны отца.
Жизнь Ивановской у нас с каждым днем все более пугала меня: она у всех нас занимала деньги и с такою же просьбою обращалась к нашим знакомым. Одним из них она говорила, что забыла деньги дома, а ей необходимо поблизости зайти в магазин, других уверяла, что пришлет свой долг завтра. Я наконец решилась сказать, что ей необходимо искать работу и поговорить об этом с Ушинским. Она отвечала, что постоянно думает об этом, но не решалась беспокоить Ушинского, а теперь, по-моему совету, через дня два отправится к нему.
На другой день после завтрака, когда кроме меня никого не было дома, я вдруг услышала из своей комнаты, как кто-то вскрикнул. Я бросилась в столовую и вот что увидала: бархатная шуба на черно-бурой лисице была разостлана на столе. Ивановская с ножницами в руках утке отрезала от нее снизу одного полотнища с четверть аршина (мех вместе с бархатом). В эту минуту неожиданно вошла в столовую няня Ани, вскрикнула и, с ужасом всплеснув руками, оттолкнула ее от стола и схватила шубу.
– Пресвятая богородица! Да что ты, Анночка… И взаправду совсем рехнулась! Ведь это шуба как твоя, так и твоих сестер!
Нужно заметить, что няню Ивановских знали все подруги Ани. Она нередко приходила в институт на свидание с нею и оказывала нам всевозможные услуги: бросала в почтовый ящик письма тех из нас, кто не желал их показывать классной даме, исполняла наши маленькие поручения относительно покупок. Мы все были чрезвычайно признательны ей, и она оставила в нас о себе одно из лучших институтских воспоминаний как о необыкновенно добром, милом существе, бесконечно любящем свою Анночку.
– Да что же это она с нами делает? – заговорила няня после того, как мы расцеловались с нею. На одну руку она набросила шубу, а другою вытирала платком катившиеся по щекам слезы и села на стул возле меня. – Пошла жить к чужим людям… Здесь-то ведь нет таких ребят, чтобы ты могла обучать (обращалась она к Ане). Здешняя прислуга сказывала мне, как ты им продала за шесть рублей свои дорогие платья, а теперь ты к шубе подобралась! Папенька утром привел покупателя на эту шубу и велел мне показать ему ее. Я туда-сюда, а шубы нет как нет. Спасибо сестрицы надоумили: «Наверно, говорят, Анночка с собой захватила». Анночка, детка моя дорогая! – вдруг подбежала к ней няня, не выпуская из рук шубы и обнимая ее другой рукой. – Да кто же тебе дома чем поперечил? Ведь если кто тебя когда и побранит, так только я одна…
– Ах, нянечка, – сквозь слезы проговорила Аня, страстно обнимая и целуя свою няню в глаза, лицо, хватая целовать ее руки, которые та отнимала – Ты святая! Ты во всем нашем доме единственно хорошая! Я больше всех люблю тебя!
– Ведь вот всех вас троих вынянчила, всех растила, за всеми ночей недосыпала, все вы точно клещами в сердце мое впились. Стрясется с вами что неладное, и все мое нутро переворачивается… А все же из вас-то троих сестер мне тебя жальчее всех… Да чего мне за сестер твоих изнывать? Катюша – девица разумная, только двумя годиками постарше тебя, а уж давно поставила себя по-настоящему. Шутка ли сказать, от своих трудов в хозяйство тридцать рублей каждый месяц вносит! А в этом году не позволила тетке в гимназию за Олечку платить, все до копеечки сама внесла. На свои трудовые денежки обувает, одевает себя и вас, сестер, и меня, старуху, то и дело одаривает. Да и за Олечку нет у меня страху: все больно похваливают ее за учение, к родителю своему она почтительна, к тетке внимательна, вижу – вся пошла в старшую сестру. Ведь ты одна У нас, Анночка, какая-то неудачница, точно вроде как шалая какая… Девица ты взрослая, а сердчишко-то и ум У тебя ребячьи, что ни час – подавай тебе новенькое, а разум-то плохой, чтобы рассудить, что худо, что хорошо. И, господи боже мой, до чего ты злосчастная!.. Детка моя родная! Ну, как же мне тебя больше всех не жалеть? Головушка твоя беспутная, ветром набитая!.. Сколько мук мученических ты еще примешь, сколько горя ты себе еще наделаешь! – Последние фразы няня уже как-то мучительно выкрикивала, рыдая, обливаясь горючими слезами.
Я взглянула на Аню, вот-вот ожидая от нее вспышки или резкого отпора за сказанное. Я думала, что она непременно вскипит, отрежет какую-нибудь дерзость своей няне за ее до невероятности простосердечные и наивные слова, которые могли так мало польстить самолюбию и тщеславию Ани. А она вдруг бросилась перед ней на колени, уткнула в них свою несчастную голову и рыдала, рыдала.
Только при словах этой простодушной, любвеобильной старушки я поняла всю глубину несчастного характера Ани. Тот, кто знал ее, находил, что все свои дикие выходки она считает незаурядными, красивыми, а каждый благоразумный поступок – мещанским, лишенным поэзии. В таком духе она постоянно оправдывалась перед нами в своих бесчисленных странностях. Вот это-то более всего и раздражало меня и скопляло в моей душе против нее порядочный груз неудовольствия. Но сцена, только что происшедшая перед моими глазами, тяжкие рыдания Ани на коленях перед нянею красноречиво подсказывали мне, что она отлично знает цену своим словам и поступкам. Но ей не дано силы воли и энергии изменить, переделать свой характер, неустойчивость которого, вероятно, сильно зависела от истерии. Все фибры ее души всегда были напряжены, взвинчены или вконец расшатаны; ее выходки не сожаление возбуждали в нас, а одно раздражение. Только няня, эта полуграмотная старуха, глубоко поняла ее своею чуткою, любящею душою, своею бесхитростною мыслью. И вдруг страстная жалость к ней охватила мою душу, и я выбежала в другую комнату.
– Да встань ты, не убивайся, детка, никто как бог: может, он тебя еще и выправит. Скажи ты мне, какая же это в твоей головенке мыслишка завязла, что ты вдруг взяла да и откромсала эдакой кусище от дорогой шубы?
– Мне холодно на улице: моя шубка мало греет. Хотела завтра ехать к одному господину работы просить, да боялась замерзнуть.
– И разум же у тебя какой плохой! Сама рассуди: уж ежели резать решила, так отдала бы хорошему портному, он бы и обрезал и подшил… А то вдруг сама! Себе передника скроить не умеешь, а тут взялась хозяйничать над драгоценным мехом да бархатом. Я ведь давно тебя ищу: у тетеньки чуть не каждый день справлялась, к твоей подружке на Фурштадтскую бегала и всюду ношу с собою пуховый платок, – знаю, что ты в такие холода всегда мерзнешь. И сюда его притащила. Да поедем мы с тобой, Анночка, домой! Чай, ведь ты чужим людям давно в тягость!
– Нет, нянечка, ни за что! Подумай, что мне отец за шубу сделает…
– Ах, Анночка, Анночка, вот ведь какая ты: блудлива, как кошка, а труслива, как заяц! И чего тебе папеньку-то опасаться? Не драчун он, не сквернослов, и строгости-то в нем нет никакой. А что по головке не погладит – это верно. Так ведь сколько ты ему неприятностей и срамотины наделала: в чужой дом ни за что ни про что сбежала, а теперь опять с драгоценной шубой – детским достоянием всех вас троих сестер… ты каких делов наделала? Ну, и смирись, проси у отца прощения. Он простит: знает, что ты не по своей воле чудишь.
Но на все ее уговоры Аня отвечала отрицательно.
На другой день утром кухарка доложила, что господин Ивановский желает видеть меня и Василия Ивановича и очень просит его принять. После первых приветствий он просил позвать его дочь. Я обошла все комнаты и нигде не нашла ее. Вдруг она выскочила из одного уголка, образуемого открытою дверью, и, чтобы нашего разговора не было слышно в столовой, потащила меня через коридор в другую комнату. «Скажи отцу, что я не выйду. Из моего угла мне отлично слышно все, что вы будете говорить», – прошептала она мне на ухо. Когда я передала Ивановскому, что дочь его не желает выйти, он сказал: «Я хотел при ней сообщить некоторые факты, относительно которых она могла бы возражать, если бы они были не совсем точно переданы мною. Впрочем, я не сомневаюсь в том, что она подслушивает у какой-нибудь двери. Так вот: две вещи ее особенно сильно раздражают. Считаю себя вынужденным сказать вам, что я лишь три последние года получаю по сто рублей в месяц. При нашей семье в пять душ это слишком скромная цифра, чтобы взрослым членам семьи можно было обходиться без работы. Если мы теперь, и особенно прежде, не испытали тяжелых лишений, то этим мы исключительно обязаны заботливости няни. Образование я дал моим дочерям только благодаря моей родной сестре, а их тетке. Получая девяносто рублей в месяц вдовьей пенсии, она более половины ее тратила на уплату в учебные заведения за своих племянниц, а моих дочерей. Сама же она до последнего времени жила совершенно по-студенчески. Старшая моя дочь, Катя, окончив курс консерватории, сейчас же принялась за уроки и большую часть заработка тратит на семью. Мне не пришлось напоминать ей об ее обязанностях: она сама все разыскала, сама рвалась к труду. Что же касается Ани, то прошло уже более полугода после окончания педагогического курса, она продолжала говорить о своем стремлении к свету, а сама не двигалась с места; только тогда я в первый раз напомнил ей, что пора взяться за дело. Я узнал от близких знакомых, что в одном порядочном семействе в пяти часах езды от Петербурга требуется гувернантка к десятилетней девочке. Я действительно настоял на том, чтобы Анночка взяла это место, и тогда же заметил, что это ее крайне раздражило. Анночка не должна оставаться без дела уже потому, что от безделья она особенно нервничает и чудит. Прожив три месяца гувернанткою, она бросила место. Хозяйка дома так объяснила мне ее уход: десятилетняя дочка этой дамы вдруг начала натирать свое лицо клюквой, и когда мать побранила ее за это, сказала: „Анна Петровна каждое утро красит свои щеки румянами, чтобы сделать их розовыми… У меня нет румян, а тоже бледный цвет лица, вот я и начала румяниться клюквой“. Имейте в виду, что хозяйка дома вовсе не отказывала Анночке от места, а заметила ей только, что в качестве гувернантки ей совсем не подобает румяниться, тем более в присутствии своей воспитанницы. Ответом Анночки был отказ от места. После этого она прожила дома еще четыре месяца. За день или за два до ее побега к вам я заметил, что ей бы следовало поискать каких-нибудь занятий. Так как она недовольна была местом гувернантки, которое я подыскал ей, то я просил ее искать работу уже самостоятельно. Вот это, видимо, так ее раздражило, что она, не простившись ни со мной, ни с сестрами, оставила родной дом. Катя и Оля, несмотря на множество занятий, все же находят время забежать иногда к тетке, которая, чтобы дать им образование, часто лишала себя самого существенного; они играют с нею в лото, картишки или читают ей что-нибудь. Их тетка в восторге от посещений своих племянниц. Только одна Анночка не находит для этого времени, а когда забежит как-нибудь раз в месяц, и то когда сестры застыдят ее, что она не желает проведать тетку. Она долго после этого ворчит, повторяя, что ей скучно проводить время с умственно убогою старухою. Когда я однажды услыхал это, – это было за день или за два до ее бегства, – я высказал ей, насколько жестоко и неприлично с ее стороны такое отношение к родной тетке. Вот две причины, которые могли повлиять на то, что Анночка бросила мой дом».
Затем Ивановский спросил, предполагает ли его дочь окончательно поселиться у нас, и в таком случае какие она будет нести обязанности в нашем доме. Этот неожиданный вопрос совсем переконфузил меня. После продолжительной паузы я отвечала, что мы не говорили с ней ни о чем подобном, что у нас нет никакого для нее дела, нет для нее и особой комнаты и что она выносит у нас большие неудобства, так как спит в столовой.
Ивановский вынул восемь рублей и, протягивая их мне, просил отдать прислуге: шесть рублей на выкуп платьев, а два рубля за то, что они не были использованы ими. Дочери своей он просил передать, что она может возвратиться домой, когда ей угодно, без объяснения причин своего бегства.
Весь этот день Аня ходила мрачная, с заплаканными глазами, и не только ни разу не вспомнила об «эгоизме» и «консерватизме» отца, но не проронила о нем ни слова.
VIII
Дурное настроение Ани быстро исчезло: она уже на другой день была весела, как птичка, и с утра щебетала на разные лады о своем предчувствии, что сегодня (это был вторник) судьба, наверно, пошлет ей счастье увидеть Ушинского, «этого гениального, этого необыкновенного, этого исключительного человека». Ведь она и жить-то считает возможным только потому, что на свете существует такая личность, как Ушинский, «этот светоч, это солнышко». Предчувствия не обманули ее.
В последнее время как-то само собой установилось, что по вторникам ранее остальных гостей к нам являлись пан Шершневский и Николай Александрович Манькович: первый, вероятно, потому, что не был обременен занятиями, а последний – чтобы подольше созерцать предмет своей страсти. Тоня в разгар своей усиленной деятельности была так погружена в работу, что редко выходила из своей комнаты раньше девяти часов, когда собирались уже многие; поэтому Манькович старался подсесть ко мне, чтобы поговорить о Тоне. Меня это начинало все более тяготить. Я прекрасно видела, что его страсть к Тоне все более усиливалась, а она по-прежнему не выказывала ему ни малейшего предпочтения перед другими, с удовольствием болтала с ним, слушала его разговоры с гостями, которые он обыкновенно вел очень умно и не без юмора, но этим все и ограничивалось. Маньковичу от времени до времени, вероятно, надоедало без всякого успеха добиваться ответа на свои чувства, и его настроение совершенно менялось: он вдруг терял способность воздерживаться от озлобления, тяжеловесно острил, резко или грубовато отвечал на участливые вопросы, кидал даже на Тоню мрачные взгляды. В таких случаях она избегала разговора с ним, выбирала место, чтобы подальше сесть от него. Но когда дурное настроение проходило, Манькович опять становился прежним – веселым и оживленным. Со мною, однако, он был неизменно добр, никогда не прохаживался злобно на мой счет, напротив, всегда старался выставлять мои хорошие качества, которых часто совсем не было.
Шершневский сильно недолюбливал Маньковича, и наши посетители объясняли это тем, что Николай Александрович умен, находчив, красив и очень нравился женщинам, а Шершневский представлял совершенную ему противоположность. К тому же привычка Николая Александровича выбирать объектом своих острот Шершневского немало возмущала последнего, и он старался платить ему тою же монетою. В этот раз Шершневский во всеуслышание заявил, по своему обыкновению, с непристойною прямолинейностью и грубостью: «Сам-то Манькович не сумел добиться благосклонности одной особы, вот он и обхаживает Елизавету Николаевну, чтобы она помогла ему в этом! своим влиянием». Эта фраза, сказанная громко, могла бы наделать множество неприятностей, если бы она дошла до ушей Маньковича, но его в эту минуту случайно вызвал к себе в кабинет Василий Иванович.
Еще никого не было, кроме обычных посетителей, сидевших в моей комнате, когда Тоня вошла со свертком в руках и, поздоровавшись со всеми, сказала, обращаясь ко мне: «Уезжаю на Фурштадтскую к Ермолаевым, отдать детям книги. Возвращусь часа через полтора». За нею последовал Манькович, немедленно встал и Шершневский, направляясь в переднюю.
Когда вошел Манькович, я спросила его, куда девался Шершневский.
– Поехал провожать Антонину Николаевну.
– Почему же он, а не вы?
– Шершневский разжалобил ее тем, что подробно изложил, почему ему необходимо проводить ее: он отправляется тоже на Фурштадтскую, у нето сильно болит нога, а нанять извозчика нет денег. Против последнего аргумента Антонина Николаевна, видимо, не могла устоять.
В эту минуту вошел Ушинский; к нему так и бросилась Аня: глаза ее разгорелись от счастья и восторга, и они вдвоем прошли в кабинет Василия Ивановича. Когда мы остались только с Николаем Александровичем, он начал меня упрашивать, чтобы я ему как-нибудь пожертвовала часок-другой времени днем, когда у нас не бывает посторонних и в отсутствие Антонины Николаевны. Я отвечала ему, что мне нетрудно догадаться, о чем он желает говорить, но он напрасно думает, что кто бы то ни было может повлиять на Тоню в делах интимного характера. Однако он так настойчиво умолял исполнить его просьбу, что я наконец согласилась.
– Скажите мне, пожалуйста, что это за офицер, который провожает Антонину Николаевну? Я недавно шел мимо ворот вашего дома, когда она с ним подъехала… Сколько удалось рассмотреть, едва ли он многим красивее пана Шершневского и, судя по внешности, не умнее его. – При последней фразе он искусственно рассмеялся.
– Ради вас самих, Николай Александрович, очень прошу вас, не следите вы за Тоней: она будет возмущена этим.
– Неужели вы думаете, что я способен подсматривать за кем бы то ни было? Эта встреча произошла совершенно случайно, и я так торопился, что даже не подошел к ней поздороваться.
Я рассказала ему о происшествии с Тоней в прошлом году и о роли Ермолаева. Это было с моей стороны большою ошибкою, так как к страсти Маньковича присоединилась ревность, и без того уже сильно мучившая его.
Вдруг в столовую вбежал Шершневский, обозленный как никогда, и начал что-то выкрикивать во все горло. При первых звуках его голоса все торопливо вошли в столовую.
– Выбросила из саней! Кто этому поверит! Образованная девушка, а как простая баба, даже, можно сказать, как самый простяцкий деревенский мужик, толкает своего спутника и так больно пыняет в спину и голову, что у меня свалилась шапка, оторвалась полость и я, как бревно, вывалился в снег…
– Кто же причинил вам все эти неприятности. Кто вас разобидел? – спросил Ушинский с иронической улыбкой на тонких губах.
– Такой грубый поступок вашей прекраснейшей ученицы не мог меня разобидеть! А вот вы, знаменитый русский педагог, образ которого, как красное солнышко, горит в сердцах его учениц, который для них выше Сократа, выше мудрецов древности и современности… Какое же это воспитание, позвольте спросить, вы давали им? Или, может быть, вся глубина премудрости ваших новейших педагогических систем и должна проявляться в грубых выходках?
– Вы меня так вдрызг изничтожили, так основательно провалили все педагогические системы древности и современности и я так был поражен, что прозевал фамилию виновницы причиненных вам неприятностей.
– Вы говорите, что она неприятности мне причинила? Нет-с, извините-с! Тут дело идет не о пустяковинных неприятностях, а о членовредительстве. Своими мужицкими толчками она меня заставила вылететь из саней: я мог упасть на камень и раскроить себе череп, переломать кости, вывихнуть ноги, руки…
– Да нечего вам пересчитывать все части вашего тела: они, видимо, остались целыми и невредимыми, – перебила я его. – Садовская – особа деликатная: если она это сделала, вы, значит, дали для этого серьезный повод.
– Как? Так это Антонина Николаевна? Девушка такая благоразумная, благовоспитанная, даже с светскими манерами! Вот уж никогда бы не подумал, что она способна на такую грубую выходку… – удивлялся Ушинский.
– И я бы никогда не поверила, Константин Дмитриевич, – сказала Тоня, входя и здороваясь с ним, – что вы можете завинить кого бы то ни было только со слов обвинителя.
– Что такое я вам сделал? Я вам говорил такие комплименты, о которых и понятия не имеют все ваши ухажеры, вместе взятые, все ваши донжуаны… Гарун-аль-Рашид или черт его знает какой там другой восточный дурак только и умели сказать что-нибудь подобное своей Зюлеечке. Так вы должны были бы этим только гордиться, должны чувствовать признательность ко мне… – совершенно серьезно и запальчиво выкрикивал Шершневский, и его обвислое, лоснящееся лицо раскраснелось, как кумач.
Присутствующие разразились страшным хохотом…
– Как? Гарун-аль-Рашид восточный дурак? – выкрикнул кто-то из присутствующих.
– Вы никого не потрясли вашими азбучными знаниями! – огрызался Шершневский.
Начали раздаваться звонки, и несколько дам и мужчин друг за другом входили в столовую. Вновь прибывшим было сообщено о только что происшедшем инциденте и о хвастовстве Шершневского своим умением говорить дамам комплименты. Как его, так и Антонину Николаевну гости упрашивали познакомить их с этими комплиментами.
– Что же, я не прочь… Нисколько не сомневаюсь, что никто из вас не слыхал ничего подобного! Я сравнивал ее с «чарующей весною», с «распустившимся бутоном дивной розы»; я говорил ей, что «в моих жилах при взгляде на нее клокочет огонь страсти, как пылающий костер», что она «сама грация и поэзия», что «своею красотою она, как молниеносная стрела, пронзает мое сердце», что она «божественна и обольстительна, как гурия в раю Магомета», что «аромат ее волос восхитительнее всех райских благоуханий». Да мало ли что я говорил в минуту экстаза! Ну-ка скажите, кто из ее ухажеров способен высказать ей хотя сотую долю таких прелестных, воздушных, поэтических комплиментов? – И Шерыгаевский, сам смакуя и упиваясь своей фразой, обводил присутствующих самодовольным, победоносным взглядом.
Его слова были встречены громким хохотом и аплодисментами, а Тоне со всех сторон кричали, что она бесчувственная и неблагодарная.
Пока за столом все еще продолжали обсуждать этот инцидент и подсмеиваться между собой над самодовольством Шершневского, несколько человек уже сидели в стороне и вели между собою иные разговоры.
Сергей Васильевич Максимов (писатель-этнограф и путешественник по России), дружески хлопнув по плечу знакомого студента, спросил его:
– Ну, милый друг, чем вы теперь восторгаетесь, чему поклоняетесь, что предаете анафеме? А хорошее времечко мы с вами переживали еще годика два тому назад! Ведь я чуть не вдвое вас старше, а, бывало, душа так и рвется из нутра, так и хочется крикнуть чуть не полицейскому крючку: «Прочь с дороги с грязными лапами! Знаешь ли ты, семя твое крапивное, что мы празднуем зарю нашего обновления? Что яркое солнышко осветило все уголки нашей родины?» И все мы ходили тогда пьяными не от вина, а от счастья, которое безумно рвалось наружу.
– После возмутительного приговора над Чернышевским, да еще в такое реакционное время, как теперешнее, только идиот может упиваться подобными фразами, – резко проговорил студент.
– Правительство, несомненно, от времени до времени наносит нам серьезные раны. И одною из них был приговор над Чернышевским. Но из-за этого не может же все пойти насмарку, нельзя же не признавать великого значения крестьянской реформы, – говорил известный в то время педагог Семенов.
– И чего это вы все до сих пор носитесь с крестьянскою реформой? Я много путешествовал по матушке-России, – возражал Максимов, – и всюду мог наблюдать одно и то же: положение крестьян после реформы только ухудшилось. Их экономическая зависимость так велика, что не в чем проявиться их личной свободе. Крестьянину приходится так же унижаться, так же раболепствовать перед помещиком, как и во времена крепостничества. Промышленность у нас жалкая, развивается она крайне туго, а земельный надел крестьянина очень часто состоит наполовину из болотистой земли, из песку или суглинка. Чем же ему кормиться, как не заработком у того же помещика либо у местных кулаков, которые, как саранча, набросились теперь на деревню. Вот крестьянин и кланяется помещику земно, чтобы надрать лыка на свои лапти в его лесу, или лебезит перед кулаком и умасливает его. Чуть слово молвит без раболепства, и он навсегда лишается заработка и у того и у другого. К зависимости от помещика присоединилась теперь еще зависимость от мироеда.







