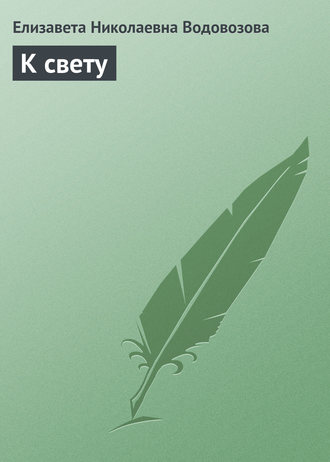
Елизавета Водовозова
К свету
II
Тоня, будучи в педагогическом классе, посещала нас только по воскресеньям, да и то крайне редко. В первый раз она приехала к нам на журфикс во вторник, как раз в такое время, когда у нас, благодаря праздникам, должно было собраться особенно многолюдное общество.
И вот через час-другой все наши комнаты были переполнены преимущественно молодежью обоего пола, был кое-кто и из литераторов, а также и наш бывший инспектор в Смольном монастыре К. Д. Ушинский, знакомые дамы и между ними несколько моих подруг. Сели за чайный стол: собравшиеся мало-помалу все более оживлялись. Здесь и там сообщали новости городские и провинциальные, послышались смех, остроты, шутки, спор. Наконец гости сами бросились выносить в кухню самовар и посуду, сдвигали стулья и столы в комнату подле, и таким образом выгадывалось более места. Раздалось дружное хоровое пение. Выступали и солисты, и куплетисты, и импровизаторы, произносившие речи, в комическом виде изображая некоторые события из современной действительности, или стихи экспромтом, правда нередко сочиненные заранее. Но когда начались танцы, тут уже веселье достигло своего апогея. Танцы играли на фортепьяно два студента в четыре руки, а подле них сгруппировались аккомпаниаторы – молодые люди с балалайками.
Ко мне подсела Тоня, вся раскрасневшаяся от танцев, с блиставшими от удовольствия глазами. Наклоняясь ко мне, она заговорила:
– До чего у вас весело! Счастливая, счастливая! Посмотри! Даже Ушинский танцует кадриль! Правда, он только расхаживает, но его обычной суровой серьезности точно и не бывало! Господи! хохочет! Ну, этого я уже не могла себе представить!
В эту минуту ее кто-то потащил за руку и поставил в круг танцующих.
Я присела в уголок к маленькому столику, чтобы поболтать с Евгениею Карловною Гаидебуровою, которая пила чай. Ко мне опять подбежала Тоня и проговорила, обращаясь к ней:
– Простите, что я утащу ее от вас.
– Берите, берите… Я сию минуту покончу с чаем и сама явлюсь к вам.
– Знаешь, вот тут, – объясняла мне Тоня, указывая на небольшой кружок молодежи, сидевшей, сгруппировавшись, в маленькой комнате, – идет игра в загадки и разгадки. Тот, кто не сумел разгадать, должен по присуждению окружающих рассказать что-нибудь из прошлого, но именно такое, в чем ему трудно сознаться.
Хотя после первых лет шестидесятых годов обычай без утайки говорить в глаза окружающим все, что только придет в голову, стал ослабевать, но пока он еще держался: грубость нигилизма уже сглаживалась, но его основа осталась. Я очень боялась, что до ушей щепетильной Тони, никогда не бывавшей в такой бесцеремонной компании, дойдет что-нибудь, что будет ее шокировать. Когда мы очутились в этой группе, очередь рассказывать о своих прегрешениях оказалась за Зариным, молодым человеком лет 28, с симпатичным лицом, на котором оспа оставила заметные следы. «Будьте же добросовестны, – кричали ему со всех сторон, – чистосердечно расскажите о ваших грехах молодости!»
– Не можете же вы требовать от меня, господа, чтобы я перед всей честной компанией взял да и открыл крепко-накрепко замкнутый сундук со всеми моими прегрешениями? Мне самому до смерти совестно вспоминать о многом.
– Так вытягивайте из него что-нибудь комичное!
– Почему же только комичное? Можно и трагическое.
– Во всяком случае, Зарин, вы не имеете права уклоняться от нашего условия.
– Пусть будет по-вашему. Я расскажу то, о чем до сих пор не могу вспомнить без краски стыда. Так вот: мне стукнул уже двадцать второй год, я только что перешел на третий курс юридического факультета и, должен сказать без хвастовства, был из серьезно занимающихся юношей. Несмотря на это, у меня была скверная привычка отправляться вечером после занятий, а то и ночью, шляться по улицам и приставать к одиноко идущим женщинам. Мне очень нравилось такое времяпрепровождение, и я находил, что это нисколько не предосудительно, даже полезно, как отдых после усидчивых занятий. И зачастую по вечерам или ночью я провожал то одну, то другую молодую особу, пока та не исчезала из моих глаз или не начинала во все горло звать городового. Тогда уже я со всех ног бросался в какой-нибудь переулок. Эта скверная привычка оставалась у меня даже и после того, когда однажды ночью я увидал небольшого роста худенькую-прехуденькую девушку, скорее даже подростка, которая боязливо пробиралась по улице, держа в одной руке портфельчик, вероятно с musique[2]. Еще пока я шел сзади нее и мои шаги гулко раздавались по тротуару, я заметил, что она вся дрожит как осиновый лист. Но ее страх и трепет ничуть не устыдили меня. Вдруг она сразу побежала, но я следовал за нею крупными шагами и скоро догнал ее, поравнялся с нею и положил руку на ее талию. Она еще пуще затрепетала, я отбивалась, как пойманная птичка, слезливо всхлипывая, произносила какие-то бессвязные слова, а я еще крепче притянул ее к себе, и она без звука (верно, от страха у нее сделались спазмы в горле) почти упала на мою руку. Но в ту же минуту с шумом раскрылся ярко освещенный парадный подъезд дома, мимо которого мы с нею проходили. Оттуда на улицу вышло несколько мужчин и женщин. Схваченная и облапленная мною девочка точно сразу очнулась и как мышка юркнула в открытый подъезд. Волей-неволей я побрел домой, но должен сознаться, что и после своего возвращения я не почувствовал ни стыда, ни угрызения совести. Стою один в своей комнате и хохочу как дурак, – так мне было смешно вспоминать тот момент, когда трепещущую девочку я ощущал на своей руке, когда мне чудилось, что я слышу биение ее сердца. Эта позорная привычка, вероятно, довольно основательно сроднилась бы с моею душою, если бы не один случай…
– Однако вы, должно быть, порядочный мер… – вдруг гневно выкрикнул один из студентов, но присутствующие не дали ему кончить и с негодованием набросились на него: «Да ведь это же подло: принудить человека говорить о том, что ему тяжело вспоминать, а затем его же поносить!..»
– Я обещал рассказать, и докончу. Пусть уже после этого бросит в меня камнем тот, кто считает себя безгрешным в подобных делах.
Все сразу стихли.
– Так вот что нужно было, чтобы я наконец опомнился и оценил по достоинству свои похождения. Однажды в поздний осенний вечер навстречу мне шла высокая женщина. Она поравнялась со мною, и на хорошо освещенной улице я рассмотрел ее умное красивое лицо, смелое выражение ее прекрасных глаз. Когда она прошла мимо меня, я сейчас же пошел за нею. Молча прошли мы несколько минут, и я стал все ближе подходить к ней. Она тотчас остановилась и бросила мне несколько слов, в которых не было слышно ни волнения, ни конфузливости: «Не так близко! Слышишь, ты?» Хотя меня поразили ее высокомерные слова на «ты», точно окрик на лакея, который, несмотря на свое низкое социальное положение, осмеливается близко подойти к высокопоставленной особе, но они не пробудили во мне надлежащего сознания, а в первую минуту даже еще более подзадорили меня. Я смело поравнялся с нею и начал нести обычную околесицу: «Почему вы запрещаете приближаться к вам? Для меня чем ближе, тем несравненно приятнее»… и другую чушь.
Она шла молча, не замедляя и не ускоряя шага, но когда я выболтал все, что у меня было на языке, она, не останавливаясь, внимательно посмотрела на меня и, продолжая идти, заговорила с презрением: «Ты, видимо, порядочный-таки пошляк и шалопай. Вместо того чтобы учиться или вести с умными товарищами серьезную беседу, ты путаешься по улицам и тратишь свою жизнь на приставание к женщинам. К тому же ты еще и идиот! „Хочу ближе… для меня это несравненно приятнее…“ (это она меня передразнила), а подумал ли ты, болван, что близость такого урода, как ты, всего изрытого оспой, должна приводить в ужас каждую женщину?»
Эти слова как громом поразили меня: они ужаснули, оскорбили, унизили меня до последней степени. Я бросился бы бежать без оглядки в ту же секунду, но точно окаменел, – прямо-таки не мог сдвинуться с места. Остановилась и моя обличительница и, точно заметив потрясающее впечатление, произведенное на меня ее словами, вдруг проговорила уже мягче:
– Ну, слава богу! В каком-то уголке вашей души есть еще стыд! Смотрите же (она только тут обратилась ко мне на «вы»), не растеряйте его в ваших авантюрах, а то они, верьте честному слову, сделают из вас форменного негодяя. – И она быстро двинулась вперед.
Я тоже почувствовал наконец возможность повернуть назад. Я возвратился домой, как жалкая, побитая собачонка, совершенно изничтоженный и опозоренный. Когда я, не раздеваясь, бросился на постель, я спрашивал себя, могло ли быть для человека что-нибудь еще более позорно-унизительное сравнительно с тем, что было мне только что сказано? Если бы на меня кто-нибудь ни с того ни с сего вылил громадный ушат грязных помоев, это было бы, пожалуй, еще хуже? «Ничуть, – тут же отвечал я сам себе, – это было бы только случайною неприятностью, а ее слова ошельмовали меня за мое действительно позорное поведение. Однако было бы еще хуже, – раздумывал я, – если бы она дала мне пощечину и плюнула бы в глаза». И опять я отвечал сам себе, что она имела на это полное нравственное право и что ее обращение со мною, все ее слова не менее истерзали мою душу, чем плевок и пощечина. Одним словом, господа, – кончил Зарин свое повествование, – с тех пор я совершенно излечился от своей позорной слабости.
– Господин Зарин! – вскакивая со своего места и протягивая руку молодому человеку, воскликнул господин среднего роста, с одухотворенной, в высшей степени интересной физиономией, чрезвычайно худощавый, с проницательно карими, лихорадочно блестевшими глазами: это был Ушинский. – Не осуждать вас должны мы, а выразить вам свою глубочайшую признательность. Очень многие делают и в зрелом возрасте еще похуже того, что вы проделывали в юности, но едва ли у многих хватит мужества так чистосердечно изложить позорную страницу своего прошлого. Такая откровенность, несомненно, имеет громадное моральное значение.
– Вас, наверно, и это не проняло? А сколько бы вы могли рассказать про себя такого, – сказала я пану Шершневскому.
Это был человек небольшого роста, некрасивый, лет за 35, с неинтеллигентным, точно хронически припухшим лицом. Его все называли паном Шершневским: он был поляк, но, хотя знал польский язык, говорил на нем крайне плохо. Этот весьма неинтересный субъект как-то особенно глупо ухаживал за всеми нестарыми женщинами и девушками и назойливо приставал к ним. Но даже и те из них, которые имели некоторую склонность к флирту, не только конфузились, но страшно злились за подобную дерзость с его стороны и бесцеремонно гнали его прочь от себя.
– А вам, конечно, – отвечал он мне, – понравилось это всенародное покаяние уже потому, что его одобряет ваш богоподобный Ушинский. Раз он делает это, вы растериваете все ваши принципы, забываете, что никому не должно быть дела до личной жизни ближнего.
– Вы, по обыкновению, все перепутываете и сваливаете в одну кучу. – Но в эту минуту меня схватила за руку Тоня, и мы подсели с нею к Ушинскому.
– Расскажите-ка, Антонина Николаевна, как вы поживаете? Ведь я несколько лет вас не видел. Что хорошенького поделываете?
– Вот уж решительно ничего хорошего, – отвечала Тоня совершенно искренно, и она в нескольких словах обрисовала свою несложную и совсем несовременную жизнь у старых теток. В ее изображении можно было удивляться только тому, что такая неглупая девушка, ученица знаменитого Ушинского, могла быть совершенно лишена стремления к живой деятельности. Но у нее никогда не было ни малейшего поползновения представлять себя лучше, чем она была в действительности.
– Мне кажется, – сказал Ушинский, – даже как-то трудно представить себе жизнь, менее подходящую для здоровой, молодой девушки.
– Но, боже мой, Константин Дмитриевич! Где же мне жить, если не у теток? Матерьяльных средств у меня нет, если бы я даже и нашла какие-нибудь уроки, что очень трудно, то взять комнату у незнакомых людей мне не позволит опекун, да я и сама побоялась бы жить с чужими. К тому же на те гроши, которые нынче зарабатывают женщины, трудно устроиться даже весьма скромно.
– А вы не иначе согласитесь работать, как сразу получив место с хорошим окладом? Всем честным людям приходится вначале бороться с нуждою, лишениями и препятствиями. Жизнь без борьбы делает человека никуда не годною размазнею, немыслима для того, кто желает выработать в себе настоящую работоспособность и приобрести надлежащие знания.
Но тут мне пришлось отправиться в импровизированную столовую, устроенную, как обыкновенно, руками той же молодежи. Это была настолько маленькая комната, что большой стол нельзя было даже окружить стульями.
Когда я начала расставлять закуску, ко мне подошел Николай Александрович Манькович, молодой человек лет 27, красивый блондин высокого роста, года два тому назад кончивший университетский курс.
– Скажите, пожалуйста, – обратился он ко мне, – как фамилия вашей подруги? Я сегодня встретился с нею у вас в первый раз. Ведь ваших фиксов я ни разу не пропустил в этот сезон.
– А что, она вам понравилась?
– О да, даже очень и очень! Чудесная девушка: красивая, грациозная, без тени жеманства, кокетства и рисовки… А это такая редкость! Я все слышал, что она рассказывала о себе Ушинскому. Неужели она так же внезапно исчезнет, как появилась? Увы, увы, неужели же она промелькнет для меня, «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты»?
– Теперь не время разговаривать: мне нужно расставлять закуски. А вот ваш отзыв я непременно передам ей, когда все разойдутся. – И я двинулась на другой конец стола.
– Я вам помогу, – не отставал он от меня, хватая посуду. – Видите ли что? – Он остановился и конфузливо теребил свою белокурую бородку, все не решаясь что-то сказать. Наконец, расхохотавшись, как-то искусственно, он проговорил скороговоркой: – Уж если вы хотите сплетничать, так сплетничайте сейчас, сию минуту, а я затем приглашу ее на мазурку.
– Несчастный! Вы не осмеливаетесь самостоятельно сказать даже комплимент?
– Раз это ваша подруга, значит, она современная особа… Скажи-ка кому-нибудь из вас комплимент, сейчас поставите на одну линию с паном Шершневским.
– Ну, вам не грозит эта опасность! От Адама и до настоящей минуты каждая девушка не прочь выслушать комплимент, если он не очень плоский.
Но тут кухарка внесла остальные закуски, и я сказала Маньковичу, что мазурка будет после ужина, а теперь нужно звать гостей в эту комнату и предупредить их, что здесь негде сесть.
– Господа! Ужин накрыт à la fourchette[3], – зычно провозглашал он шутливым тоном, как бы желая придать что-то более торжественное закуске, которая у всех наших знакомых в это время была крайне скромною. – Господа, извольте направляться в эту комнату. За недостатком места для чересчур многолюдного собрания в этом милом нашему сердцу и гостеприимном доме пусть каждый возьмет, что ему по вкусу, и уходит в другие комнаты. – Его слова были покрыты шумными рукоплесканиями. Еще многие подходили к закусочному столу, когда из другой комнаты послышались голоса, требующие, чтобы Е. К. Гайдебурова спела что-нибудь. То была женщина лет 23, среднего роста, очень просто одетая, с белокурыми, прямыми, коротко остриженными, как у многих в то время, волосами, с чрезвычайно симпатичными и подвижными чертами лица. Она с необыкновенным юмором и экспрессией) пела комические песенки и дуэты.
Куманек, побывай у меня,
Душа-радость, побывай у меня… –
раздался ее небольшой, но приятный и звучный сопрано; она выражала свое пожелание заискивающим, сентиментальным голосом и лукаво блестевшими глазами. Ей громким баритоном отвечал студент, точно сдерживая свой грубый голос, и желая придать ему нежность. Это пение было настоящим сценическим представлением. Все покатывались со смеху, и когда оно окончилось, публика потребовала повторения. Затем следовали различные танцы и наконец мазурка с разнообразными фигурами и с разудалым подъемом, во время которой то здесь, то там мелькала пара танцующих – Маньковича с Тонею.
Когда все разошлись, Тоня потянула меня в комнату, где для нее была приготовлена постель.
– Ну, теперь я уже намозолю вам глаза! Буквально каждый вторник буду являться! Такое задушевное веселье! Господи, а я-то ведь чуть совсем не прозевала его! И как странно: ведь целый вечер мы только бесились, школьничали, пели, а меня точно окрылило какою-то отвагой. Честное слово, – никакого страха не чувствую перед завтрашним объяснением с тетками.
– Тоня, милая, ведь в таком случае тебе скоро и совсем не захочется жить у них. Как Ушинский, так и все наши будут беспрестанно стыдить тебя, что ты живешь с этими ханжами, проводишь жизнь так бесполезно и скучно, как столетняя старуха.
– Это все же лучше, чем гувернантство.
– Наоборот, ты в гувернантках была бы более независимою: могла бы каждый вечер читать не только жития святых, но и выезжать, куда бы захотела.
– Какие вы все странные: Ушинский, ты и другие, с которыми мне приходилось говорить: вы воображаете, что человек решительно все может сделать с собою, что только он пожелает. А если у меня такой темперамент, что меня не воспламеняют даже самые чудные идеи! А если я окажусь неспособной к самостоятельной жизни? Если я не могу долее учиться, если мне до тошноты надоели книги? Нет, нет, над этим нужно сильно призадуматься, прежде чем решиться порвать с моими тетушками! Я всегда думаю: как бы не прогадать, как бы не было бы хуже от перемены?
III
Когда Тоня приехала ко мне в следующий вторник, она рассказала, как после своего возвращения от нас она прямо заявила теткам, что если они желают, чтоб она оставалась в их доме, она не будет сидеть у них безвыездно. Она поставила непременным условием – пользоваться каждый вечер полною, бесконтрольною свободою.
На этот раз старухи совсем не кричали на нее, видимо, они были даже смущены. Вероятно, они нашли для себя невыгодным порывать с даровою экономкою и чтицею.
– Ведь мы не хотели только, чтобы ты выезжала одна. Все, что мы говорили, мы нашли нужным сказать для твоей же пользы. И чего тебе не хватает у нас? Кажется, ты вполне обеспечена?
– Если бы крестный не посылал мне двадцати пяти рублей в месяц, я не могла бы купить себе даже башмаков. Я порядочно знаю иностранные языки и всегда могу получить место рублей на сорок в месяц и еще выговорить вечера для выездов и для собственного чтения.
Алтаевы, видимо, не ожидали, что Тоне может прийти в голову такая простая мысль о получке довольно изрядного для того времени вознаграждения за свой труд, и кончили тем, что огорченно проговорили:
– Обо всем этом нужно подумать… Тебе, вероятно, не говорил твой опекун, что, если бы мы с тобою поладили, мы бы по завещанию оставили тебе половину нашего состояния. Имей в виду, что других родственников у нас нет и нам было бы очень приятно сделать наследницею нашу родную племянницу-сироту.
– Но я ни за какие богатства не соглашусь сидеть у вас, как в тюрьме.
В первое же воскресенье после церковной службы одна из теток преподнесла Тоне брошку из своих старинных вещей, а другая – такой же древний браслет. Это было единственным вознаграждением за прошлые и будущие труды племянницы.
– Мы так решили: делай что хочешь по вечерам, только не оставляй нас, немощных старух. Мы так привыкли к тебе. Ты у нас скучаешь, и в этом виноват твой опекун. Если бы он согласился отдать нам тебя, когда ты была еще ребенком, мы определили бы тебя в монастырскую школу и ты не рвалась бы так к пустой светской жизни. Ты бы сумела оценить общество духовных лиц, которое нас окружает. Уже не говоря о многих священниках, людях большого ума и премудрости, но даже монахи-странники, посещающие наш дом… возьмем для примера хотя отца Варсонофия, – могут очень много сообщить интересного. Но тебя все тянет к суете мирской…
Всю вторую половину зимнего сезона Тоня оставалась у Алтаевых. Несравненно менее страдая теперь от жизни у них, она аккуратно являлась к нам каждый вторник. Не по летам осторожная, благоразумная и вдумчивая, она, видимо, желала самостоятельно присмотреться к тому, как сложится ее теперешняя жизнь у теток. Ей совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь со стороны толкал ее на немедленный разрыв с ними.
Как-то в один из понедельников пришелся большой праздник. Тоня, вся сияющая, приехала к нам гостить на три дня. Я встретила ее известием, что сегодня назначена вечеринка у М-ских, – они очень просили нас приехать с нею.
– Вот-то счастье: два вечера сряду проведу интересно! – с восторгом воскликнула Тоня, схватила меня за талию, и мы пустились вальсировать.
Странная метаморфоза происходила с этою девушкою: она делалась все более оживленною, полюбила удовольствия и развлечения, все более интересовалась всеми, кто окружал нас. Между прочим, она очень смешила нас тем, что обо всем, что ее интересовало или удивляло, она спрашивала объяснения у нескольких лиц. Это была особого рода система – узнавать мнение многих лиц об одном и том же.
Дело было в конце марта: снег стаял уже давно, но вечер был очень холодный. Тоня одела свое красивое черное бархатное пальто и такую же шляпу: все на ней сидело всегда прекрасно и очень шло к ней. Мы весело собирались на вечеринку, не предчувствуя, что эта поездка окончится так печально для Тони и произведет на нее подавляюще-тяжелое впечатление.
Ввиду того что воспитанницы закрытых институтов надолго, а то и на всю жизнь оставались большими трусихами, я предложила Тоне ехать с моим мужем, Василием Ивановичем, но она возразила, что я никогда по вечерам не выезжаю одна, а ей уже давно приходится быть самостоятельной. Она просила нас только, чтобы мы ехали впереди: мы оба люди близорукие, она сама будет следить за тем, чтобы ее извозчик не отставал от нашего. Мы ехали с угла Ивановской и Кабинетской, где мы тогда жили, на Петербургскую сторону к нашим знакомым, и нам приходилось проезжать как по многолюдным, так и по малолюдным улицам. Мы приехали совершенно благополучно и на вопрос хозяев, а что же Антонина Николаевна, отвечали, что она сейчас явится. Нас усадили за чайный стол, но ее все не было, и я решила, что она заехала в кондитерскую купить конфект детям наших знакомых, может быть, кстати зашла и в перчаточный магазин. Однако прошло более часу, а она все не приезжала, и я заявила Василию Ивановичу, что мы немедленно должны возвратиться домой. Мы не нашли извозчика, и нам долго пришлось идти пешком.
Как только няня открыла дверь, она сообщила нам, что с барышнею случилось какое-то несчастье, что она возвратилась домой с каким-то офицером, который только что ушел от нас. Когда я вбежала в столовую, Тоня сидела облокотившись на стол руками и опустив на них свою голову. Она подняла свое распухшее от слез лицо, но не могла произнести ни слова. Только грудь ее судорожно подымалась; наконец она выпила воды и рассказала нам о только что случившемся с нею, но говорила бессвязно и сбивчиво, а минутами снова начинала волноваться и плакать.
Дело было вот в чем: ее извозчик на одной из улиц вдруг поехал медленнее, может быть, оттого, что сразу проходило несколько пешеходов, а может быть, потому, что он заранее условился об этом кое с кем. Тоня, заметив, что наша пролетка скрылась из виду, закричала: «Да поезжай же скорее!» В ту же минуту двое молодых людей, весьма прилично одетых в штатское, вскочили в ее пролетку, сели по обе стороны Тони и так сжали ее, что она волею-неволею очутилась у них на коленях. Один из них схватил ее за талию, другой рукою зажал ей рот; его компаньон начал ее не то обнимать, не то обшаривать и расстегивать пуговицы ее пальто, – вероятно, все это было одновременно. Кричать она не могла и только толкала их локтями. В ту же минуту по их приказанию извозчик круто свернул в какой-то переулок. Вдруг тот, который зажимал ей рот, вздрогнул и опустил руку. Она увидала, что к ее пролетке быстро подходил какой-то офицер. Тоня хрипло вскрикнула; офицер стоял уже подле и закричал извозчику: «Стой!» Тот моментально остановил лошадь. Все это произошло в одну-две минуты. И Тоня, вздохнув свободнее, закричала что было мочи: «Спасите, спасите!»
Предприимчивые молодые люди, выпрыгнув из пролетки, не могли никуда улизнуть. Городовой и кучка прохожих, моментально вынырнувшая точно из земли, окружили пролетку. Офицер закричал городовому, чтобы он звал других на помощь и чтобы их всех вели в участок для составления протокола. Оба негодяя, перебивая друг друга, оправдывались:
– Помилуйте, господин поручик, это гулящая девка Машка! У кого угодно спросите, все ее знают. Мы с нею гуляли в трактире, она сама напросилась, чтобы свезти ее в танцкласс…
– Отчего же она кричала? Отчего происходила борьба? – спрашивал офицер.
– Очень просто: надрызгалась, ну и куражится! Когда их привели в участок, офицер заметил, что этих негодяев здесь прекрасно знают и что они делают кой-кому из полицейских какие-то знаки глазами.
Тонин спаситель добросовестно изложил полицейскому приставу происшествие, свидетелем которого он был, и добавил, что объяснения господ штатских, крик жертвы и ее борьба с ними совсем не подтверждают их показаний: молодая особа имеет вид вполне порядочной девушки из общества, и она совершенно трезвая. Но негодяи настаивали на своем, все время называя ее «гулящею девкою Машкой», в доказательство чего ссылались на то, что она уже на извозчике начала раздеваться, чтобы им свободнее было делать с нею что вздумается. Тоня с удивлением взглянула на свое пальто и только тут заметила, что оно было расстегнуто, а она шла таким образом по улицам и не чувствовала холода. Когда очередь дошла до нее и пристав спросил об ее имени, фамилии и месте жительства, она отвечала, что постоянно живет у своих теток Алтаевых. Она не успела еще сказать ему, что в данное время гостит у нас и что мы вместе с нею отправлялись на вечеринку к знакомым, как полицейский пристав с удивлением спросил ее;
– У каких Алтаевых? У двух богомольных барышень-сестер, имеющих собственный дом на Сергиевской? Я бывал у них по делам и припоминаю даже, что однажды видел вас у них. Больше не требуется никаких показаний с вашей стороны, а с ними (он указал на двух молодых людей) я дело покончу и без вас. Можете идти – вы совершенно свободны, сударыня.
– Мне кажется, вы сильно испуганы, – обратился офицер к Тоне, когда они вышли на улицу. – Не сочтите назойливостью с моей стороны, если я предложу вас проводить.
Тоня согласилась на это с благодарностью, и он довез ее до нашего дома. Этою новою услугою офицер еще более выиграл в ее мнении. Когда они были у двери нашей квартиры, он начал с нею прощаться. Ввиду того что Тоня от волнения молчала всю дорогу, а между тем она находила необходимым кое о чем спросить его по поводу случившегося, она сама предложила офицеру войти к ней на несколько минут. Как только она сняла пальто, она указала ему на золотую цепочку, которая блестела, прицепившись к складкам ее лифа, а часов как не бывало. Вот почему ее пальто оказалось расстегнутым: ясно, что нападение на нее было устроено с целью грабежа.
Усадив офицера в столовой, она высказала ему, что очень беспокоится насчет своего показания: когда она сказала в участке, что живет у Алтаевых, как это и есть на самом деле, пристав перебил ее вопросом и не дал сказать ему, что в данную минуту она гостит здесь, у своей подруги. Она боится, чтобы не вышло какого-нибудь недоразумения. Не желает она также и того, чтобы имя ее трепалось в газетах при описании этого происшествия.
Офицер предложил свои услуги: он сейчас же отправится к полицейскому приставу предупредить его об этом и думает, что дело будет улажено согласно ее желанию.
На другой день с рассыльным Тоня получила письмо от офицера, в котором он, при обращении к ней по всем правилам вежливости, упоминал о своих переговорах в участке и извещал ее, что все устроилось так, как она того желала. Затем стояла его подпись: Александр Ермолаев.
На эту записку Тоня посмотрела как на акт высшей порядочности со стороны офицера: он не навязывался на знакомство, не желал пользоваться своим положением защитника и спасителя молодой девушки, и она за это была ему бесконечно благодарна. Его письмо доказывало также, что он считал своим нравственным долгом успокоить ее хотя письменно.
Как во весь вечер злополучного происшествия, когда мы до рассвета обсуждали его, так и на другой день, когда Тоня уже успокоилась, она нет-нет да и скажет что-нибудь в таком роде: «Как ужасна участь одинокой девушки!»
Однако через несколько недель после этого она, казалось, совсем забыла о случившемся.







