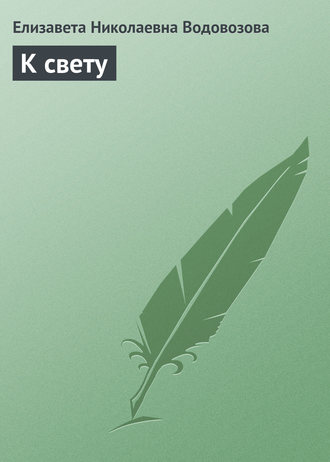
Елизавета Водовозова
К свету
X
Хотя отсутствие в нашем доме Ани Ивановской и прекращение передряг в романической истории Тони дало возможность членам моей семьи работать без помехи, но это не мешало кое-каким обстоятельствам волновать нас от времени до времени.
Однажды ночью я встала к расплакавшемуся ребенку. Когда я снова ложилась в постель, кто-то позвонил, и я услыхала голос Шершневского, просившего Василия Ивановича о дозволении переночевать у нас. Затем оба они вошли в кабинет.
– Выгнал! Да еще так, как не прогоняют даже проворовавшуюся кухарку! Деньги, вещи, паспорт – все осталось у него: я в буквальном смысле слова оказался без крыши над головой.
Я наскоро оделась и вышла к Шершневскиму.
– Кто же виновник этого ужаса?
– Ваш мудрец, затмивший мир своею гуманностью, ваш Златоуст, ваш богоподобный воспитатель Ушинский!
– Все эти бессмысленные эпитеты давали ему вы сами, да разве еще Ивановская, но не мы. Но тот, кто знает Ушинского, не может допустить мысли, чтобы он дурно поступил с кем бы то ни было.
– А со мною поступил именно так.
– Значит, вы заслужили…
– Да что же это такое? Как только вы сойдетесь, так у вас начинаются раздоры! – с досадою проговорил Василий Иванович. – Рассказывайте все по порядку.
– До десяти часов сегодняшнего вечера я исполнял самым добросовестным образом все работы, которые мне поручал господин Ушинский; привел в порядок его библиотеку, составил полный каталог его книг, писал и списывал для него на дому и в публичной библиотеке, почти ежедневно бегал по его книжным делам, по типографиям и редакциям. Каждый раз, когда я подавал ему порученную мне работу, он бурчал «правильно» или что-нибудь подобное. Ведь по-настоящему поощрить человека он не может: вероятно, думает, что умалит свое величие. Сегодня кухарка говорит мне: «Кабинет барина я убрала. Он уехал за город и долго не вернется, а вы идите в его комнату: я буду убирать у вас». Нужно вам заметить, что, постоянно пересматривая вышедшие и собранные Ушинским азбуки и книги для первоначального чтения на русском и иностранном языках, я решил и сам попытать счастья, написать азбуку, и уже порядочно подвинул свою работу вперед.
В эту минуту из Тониной спальни раздался ее громкий смех: дверь из кабинета в столовую, около которой была ее комната, оказалась полуоткрытою, и она слышала весь разговор. Я тоже засмеялась при этом.
– Что же вы желаете показать вашими смешками и улыбочками? Хотите пронзить меня, как стрелою, намеком, что я пишу азбуку с целью обокрасть «Родное слово» господина Ушинского? С вашим женским умом (он скорчил презрительную гримасу) это в порядке вещей! Но, к моему крайнему изумлению, то же самое изволил вбить в свою голову и господин Ушинский, человек образованный и неглупый.
– Спасибо и за то, что вы милостиво считаете его, по крайней мере, неглупым… А еще недавно вы восторгались его необыкновенным умом! – перебила я Шершневского.
– Как вы можете с ними жить под одною крышею? – обратился он к Василию Ивановичу, указывая жестом на меня и на Тонину дверь.
– А вот то, что вы поносите Елизавету Николаевну, не стесняясь присутствием ее мужа, а сами просите у них ночлега… Это как же назвать? – прокричала Тоня, приотворяя свою дверь.
– Это, наконец, просто невыносимо! И как вам-то не стыдно, пан Шершневский: даже в такую критическую для вас минуту вы не можете не сцепиться!
– Господи! Я и тут провинился! Да скажите же вы им, Василий Иванович, чтобы они оставили меня в покое! Ведь обе они никогда мне слова не дают сказать! Настоящие прогрессивные женщины! – воскликнул он с иронией и продолжал: – Так вот как было дело. Разложил я на столе господина Ушинского свою работу: разные азбучки, книги для чтения, его «Родное слово», педагогические статейки, и спокойно пишу себе упражнения для своей книги на отдельных листах. Ходил я в столовую обедать, затем пить вечерний чай, а потом садился за его рабочий стол. Часов в десять у меня так разболелась голова, что я отправился прилечь: думаю, отдохну, а потом опять поработаю. Слышу – возвратился Ушинский и немного погодя нервно начинает бегать по комнате. Вдруг он как толкнет ногою дверь в мою комнату, ворвался ко мне и ну на меня кричать и как каменьями осыпать меня самыми унизительными эпитетами: «Плагиатор! Крохобор! Подлый человечишка! То из одной книги вытащит фразу, то из другой, а меня уже ограбил напропалую! Еще бы ему самостоятельно справиться при такой скорбной, скудоумной головенке! Если вы, бессовестный человек, осмелитесь напечатать ваше крохоборство, я докажу, что это сплошной плагиат!» А сам все стоит перед моею кроватью, кричит на меня и размахивает чуть не перед носом моими листами. Но в эту минуту он раскашлялся, захрипел и побежал к умывальнику полоскать горло. Ну, думаю, «подожди ж ты у меня… Я тебе хорошо отплачу за все твои оскорбления…». Вскочил с кровати и побежал за ним. Он горло полощет, а я выкрикиваю: «Непременно напечатаю. Значит, у меня хорошо выходит, если вы изволили так струсить, что забыли всякое приличие. Вы слишком много о себе воображаете: вбили себе в голову, что вы великий изобретатель гениальных педагогических систем, а между тем все эти новые педагогические методы, по которым составлена ваша книга, и ваше наглядное обучение, и природоведение – все изобретено гораздо раньше вас. Вы являетесь не новатором, не изобретателем новых педагогических методов, а только компилятором, который сумел скомбинировать и приноровить эти новшества. Значит, вы следуете образцам, давным-давно указанным знаменитыми педагогами». Но тут он покончил с полосканием и пришел уже в невменяемое состояние. «Вон отсюда! Сию минуту вон! Не сметь более переступать порог моего дома!» – орет он во все горло, топает ногами и весь трясется. Мне, конечно, ничего не оставалось, как шапку в охапку, пальтишко на плечи и бежать без оглядки. Ну, что вы скажете, Василий Иванович, об этом поступке великого педагога?
– Только одно, что пятый час ночи и нам всем пора ложиться спать.
На другой день мы узнали, что Шершневский ушел от нас очень рано и оставил записку, в которой благодарил за ночлег и хотел наведаться вечером. В этот же день мы получили с посыльным от Ушинского вещи Шершневского и запечатанный конверт на его имя.
Когда мы вечером собрались вокруг чайного стола, мы начали рассуждать о «происшествии».
– Все ли Шершневский вполне точно передал?
– Его единственное достоинство – правдивость: он правдив до неприличия. Это такая тупица, что ни присочинить, ни придумать ничего не может! – заметила Тоня.
– Вы все преувеличиваете и переборщаете. Ну, какой он тупица и идиот? Еще недавно Ушинский говорил мне, что Шершневский весьма порядочно исполняет у него разнообразные обязанности, а для этого нужна и смекалка, и добросовестность, и известные знания. Ушинский – человек строгий и требовательный как к себе, так и к другим: мы, учителя, несколько лет работавшие с ним, хорошо знакомы с этою чертою его характера. Если бы работа Шершневского была плоха в каком-нибудь отношении, Ушинский не стал бы его держать. И у меня Шершневский постоянно берет книги: его мнения о них и взгляды вовсе не отличаются глупостью, и считать его идиотом можно только в пылу полемики. Правда, в его голове есть какие-то ржавые гвозди, и он нередко несет бог знает что; есть в его натуре и известная доза пошлости и эротомании, но глупости он чаще всего говорит вам, дамам. Постоянная вражда с ним у вас идет потому, что вы не признаете его мужской привлекательности, презрительно относитесь к нему, и он мстит вам до потери сознания.
– Вот и оказывается, что он идиот! Сам урод, а туда же за другими вприскочку… Извольте преклоняться перед такой привлекательностью! – не унималась Тоня.
– Несложная же у вас психология: как что не по вас, так сейчас «идиот». Согласитесь же, по крайней мере, с тем, что он не пройдоха, не подхалим?
– Он действительно, кажется, не страдает этими грехами, но все-таки он пролаза и втируша: всюду лезет без приглашения, хотя прекрасно знает, что никому не доставляет удовольствия.
– Втереться к нам и в два-три семейства наших знакомых – не велика корысть! Люди даже с меньшими, чем у него, знаниями, но с житейскою мудростью умеют прекрасно устраиваться! То, что он посещает только наше общество, говорит о том, что духовные интересы у него выше материальных расчетов.
– Очень сшибаетесь! Я сама слышала, как однажды у вас же один студент предложил ему давать бесплатные уроки сыну мастерового. Шершневский, вместо того чтобы просто отказаться от занятий, которые не принесут ему никакой выгоды, начал издеваться над народолюбием молодежи вообще, над нынешней модой, как он выразился, «учить всякого сопляка». Что же, и после этого вы еще будете обелять его?
– Это не приводит меня в восторг, но точно так же и то, что вы, Антонина Николаевна, постоянно растравляете в себе человеконенавистнические чувства к нему. Когда он к вам лез с своими пошлостями, вы вывернули его из саней. Я находил, что вы прекрасно поступили. Казалось бы, вы полностью заплатили ему по счету. Так нет же: для вас необходимо разорвать его в клочки! Еще бы, такая принцесса, как вы, а он, по вашим словам, этот урод и тупица, осмеливается подойти к вам, как к простой смертной, без коленопреклонения.
Тоня хохотала, но продолжала добиваться своего.
– Мне все-таки интересно знать, как вы объясните его ответ студенту?
– Это понятно само собою: изголодался до последних пределов, а так как он не способен на низкопоклонство и в будущем не рассчитывает обеспечить себя, вот он и злится, и с остервенением набрасывается на идейных людей. Я уверен, что и сам он в это время страдает и в душе презирает себя.
– Счастливый вы человек, Василий Иванович! Такой запас у вас оправданий даже для пошляка! Как я завидую, как я преклоняюсь перед этой чертой вашего характера. А все-таки, сколько вы ни говорили в его защиту, я все же продолжаю ненавидеть таких людей, как Шершневский, и с презрением относиться к ним.
– А меня чрезвычайно удивляет, как Ушинский, так щедро одаренный духовными преимуществами, мог хотя на минуту посмотреть на Шершневского как на своего конкурента? И все же он поступил с ним довольно-таки бесцеремонно. Если от обыденного человека требуется снисходительность и великодушие, то эти качества тем более обязательны для такого крупного человека, как Ушинский, – проговорила я.
– И на солнце пятна есть! И великие мира сего, как и мы, грешные, не избавлены от недостатков, – перебила меня Тоня.
Когда Шершневский вошел к нам вечером, мы передали присланные ему вещи и пакет. Он распечатывал его дрожащими руками.
– Смотрите!
В конверте не было никакого письма: только паспорт, деньги и узкая полоска бумаги, на которой после каждого месяца занятий Шершневского стояла цифра 150 рублей. «За три месяца – 450 рублей; за отсутствие предупреждения об окончании занятий за месяц – 150 рублей. Итого 600 рублей. Раньше было взято 50 рублей: 550 рублей препровождаю».
Это так потрясло Шершневского, что он долго сидел молча. Затем быстро зашагал по комнате.
– Это такое поразительное великодушие! Такое! Что же я-то наделал! Больному, нервному человеку, как он, за его вспышку я наговорил черт знает что! Я просто скотина! Подумайте, ведь этих денег мне хватит почти на два года. Но, может быть, я не имею нравственного права брать деньги за месяц, который я не буду у него работать? Пожалуйста, Василий Иванович, скажите откровенно, как вы думаете?
– Почему же нет? Это только говорит о корректном отношении Ушинского к своему секретарю. Константин Дмитриевич человек властный и энергичный: если вы ему возвратите деньги, он перешлет вам их обратно и уже, конечно, настоит на своем.
– Ну, бегу нанимать комнату. Пусть мои деньги постоянно сохраняются у вас: я буду брать только по двадцать пять рублей в месяц.
Когда была напечатана азбука Шершневского, никто не обратил на нее внимания: кроме сотни-другой экземпляров, она совсем не разошлась и осталась на руках издателя.
XI
В один из воскресных дней, когда мы только что кончили завтрак, к нам приехала Ольга Ивановна Антонова.
В передней стояла девушка лет 20-ти, блондинка, с нежно-розовым румянцем на щеках, с прелестными синими глазами, по внешности живая и симпатичная. Она бросилась обнимать меня и Тоню, хотя никто из нас не видал ее раньше.
– Не думайте, что я сумасшедшая или сентиментальная провинциалка. Но я вас обеих до смерти полюбила заочно, давно мечтала о знакомстве с вами! Ах, боже мой! Я ведь и не знаю, кто из вас Антонина Николаевна, кто Елизавета Николаевна, – говорила она, конфузливо улыбаясь.
Когда мы отрекомендовались и уселись с нею, мы узнали, что она дальняя родственница Ермолаевых и приехала из Воронежа только накануне. Она ученица Тониного опекуна.
– Это у нас единственный симпатичный и образованный человек. Если бы вы знали, сколько мне приходилось выносить неприятностей из-за него. У вас, конечно, уже давно не существует таких пошлых взглядов на отношения между людьми… У нас же немыслимо посетить холостого человека, хотя бы он был больной и старик. А между тем к Анатолию Михайловичу Муравскому у нас все в городе относятся с большим уважением. К тому же известно, что он никогда не был ловеласом, что я его ученица и он продолжал руководить моими занятиями. Впрочем, у нас никто не верит, что взрослая девушка, кончившая курс, может продолжать свое учение. Моя мама постоянно повторяет мне: «Ты должна подчиняться взглядам других. Я не хочу, чтобы про мою дочь ходили сплетни. Если тебе невтерпеж узнать о какой-нибудь книжке, ты должна ходить к Муравскому не иначе как с твоим отцом». В присутствии же папы у меня никаких разговоров не выходит с Анатолием Михайловичем: у них совершенно различные интересы. Папу больше тянет к картишкам. Вот потому-то, когда мама уходит вечером в гости, я бегу к Анатолию Михайловичу. Если бы вы знали, как я приятно провожу у него время. Он мне иногда читает отрывки из писем Антонины Николаевны. Какие интересные у вас собрания, как я завидую вам обеим! Ведь только из этих писем я узнала, что есть люди, которые живут совершенно иначе, чем у нас, о том, что их занимает, о чем они спорят, как чудесно они умеют иногда веселиться! Из ваших писем, Антонина Николаевна, я поняла также, как полезно посещать учебные заведения, детские сады, а раньше мне это и в голову не приходило. Анатолий Михайлович знакомил меня также и с содержанием различных научных сочинений, давал мне кое-что прочесть, указывал то, на что я должна была обратить особенное внимание. Но на другой день после моих посещений мама уже обо всем осведомлена. Наши дамы уверяют ее, что из-за меня и их дочери начинают своевольничать, что она обязана положить этому конец. И вот меня, как преступницу, зовут в кабинет, бранят, стыдят, мама плачет, папа кричит, топает ногами, выходит из себя. А еще обиднее для меня, что к Анатолию Михайловичу тоже заходит из-за этого какой-нибудь отец семейства, как будто чтобы его проведать, а сам то шуточкой, то серьезно доказывает ему, что он не должен принимать меня уже из-за одного того, что это смущает наших девиц. «Они ведь только и мечтают о том, чтобы наедине с холостяком глазками пострелять, и тут уже забывают обо всем… Того и смотри, что через месяц-другой волей-неволей придется такую девицу выдавать замуж за какого-нибудь чинушку с двадцатипятирублевым окладом». А Анатолий Михайлович – человек щепетильный; как ему ни тяжело, а все же он иногда скажет мне: «Не ходите ко мне, Ольга Ивановна, а то вас совсем съедят! Я отлежусь и как-нибудь сам приеду к вам».
Мы начали расспрашивать Антонову, чем она занималась до сих пор и как ее родители решились отпустить ее одну.
Оказалось, что вместе с своею приятельницею, замужнею молодою женщиною, у них была устроена элементарная школа, в которой та и другая были преподавательницами. Разрешенная после громадных затруднений, эта школа была закрыта без всякой причины, по доносу одного видного чиновника, к ухаживанию которого резко отнеслась приятельница Антоновой. После этого Ольге Ивановне уже ничего не оставалось делать в Воронеже. Она стала проситься у родителей отпустить ее в Петербург, но те и слышать не хотели об этом. Однако тут подвернулся такой случай: родная сестра ее отца отправилась путешествовать за границу. Месяца два тому назад она вышла замуж за немецкого коммерсанта и живет с ним в Вольфенбюттеле. Антонова была очень дружна с своею теткою и просила ее написать родителям, чтобы они отпустили ее к ней. Когда получился благоприятный для нее ответ, родители все-таки хотели помешать и этому, но Антонова смело заявила им, что ни силою, ни проклятиями (которые в то время все еще были в ходу) они не удержат ее более. «Это испугало моих родителей, – говорила она. – Они недели две бранились между собой, и до меня нередко долетал голос отца, который так усовещивал мать: „Да опомнись ты! Ведь из нашего города убежало в столицы учиться уже пять девиц. Вспомни, сколько неприятностей было в этих семьях! А ты своими угрозами хочешь дождаться еще большего скандала. Пойми же наконец, что теперь все старое пошло насмарку и все переменилось, все по-иному, даже справедливость и правду, и ту умудрились перевернуть наизнанку. Родителям волей-неволей приходится считаться с этим. Из ее поездки еще, может, не выйдет ничего дурного, а силой удержишь – достукаешься еще до какого-нибудь ужаса“. И вот меня отпустили с условием, чтобы я недолго погостила в Петербурге у Ермолаевых, а затем отправилась к тетке в Вольфенбюттель. В этом городе есть прекрасные детские сады и знаменитый в Германии педагогический институт, в котором читают лекции по самым разнообразным отделам педагогики и по уходу за детьми, дают практическую подготовку воспитательницам для руководства в детских садах, читают и методы обучения по различным предметам. Вот я и хочу поступить в это учреждение».
На вопрос Тони, как Ольга Ивановна смотрит на семью Ермолаевых, она чистосердечно отвечала, что все ее члены – люди чрезвычайно порядочные. Но покойный муж Елены Павловны отличался простоватостью, и о его глупости в Воронеже до сих пор ходят анекдоты. Его сын Александр Петрович получил в наследство от отца его умственные способности, и хотя он человек честный, даже благородный, но невыразимо скучный и неумный. Его мать, Елена Павловна, несравненно более интересная женщина. Затем Антонова передала Тоне усердное приглашение Ермолаевой приехать обедать в тот же день, и обе они отправились к ней.
По рассказу Тони, когда она возвратилась домой, она была приглашена на обед не без умысла. Кроме домашних, у Ермолаевых никого не было. Когда Тоня собралась уезжать, Елена Павловна упросила ее разделить с нею вечернее одиночество. Чтобы отпраздновать приезд Ольги Ивановны, она взяла билеты в оперу для нее, сына и дочерей.
Как только Тоня очутилась с глазу на глаз с Ермолаевой, та, горячо обнимая ее, со слезами на глазах начала благодарить за успехи своих дочерей. Она теперь спокойна за них; у девочек пробудился интерес к чтению, они говорят, что так стыдно не знать урока у Антонины Николаевны или отвечать его только по учебнику, и усердно читают все, что она им рекомендует. Как она, Елена Павловна, была бы счастлива, если бы бог послал ей такую невестку, как Антонина Николаевна. Тоня молчала. «Спасите Сашу! – вдруг начала Ермолаева умолять Тоню. – Спасите моего сына! Он безумно влюблен в вас! Он тает, как восковая свечка, не спит по ночам… Он так высоко ставит вас, что даже боится сделать вам предложение. Он прекрасно понимает, что вам может представиться более блестящая партия, что вы во всех отношениях выше его! Но верьте мне: вы не найдете более честного, благородного, рыцарски преданного вам сердца! Конечно, при своем скромном чине поручика он получает ничтожное жалованье, но он тогда оставит военную службу. Я могу выхлопотать для него порядочное место». Тут Тоня вскочила как ужаленная, упрашивая Ермолаеву не продолжать: она не только не думает устраиваться на средства мужа, но будет всеми силами добиваться приобрести полную самостоятельность раньше, чем решится на замужество. Что же касается Александра Петровича, она, Тоня, на себе испытала, как он добр, деликатен, какое великодушное у него сердце. Но она совершенно не думает о замужестве. Вероятно, очень скоро ей удастся уехать за границу, и она еще не знает, сколько времени там придется прожить.
Тогда Ермолаева начала предлагать ей то же, что и Манькович: ее сын будет ждать ее сколько угодно, но пусть она даст ему слово, что она выйдет замуж только за него. Это воскресит его. Но Тоня осталась непоколебимой и отвечала ей таким же категорическим отказом, как и Маньковичу. «Я не могла, конечно, сказать ей в глаза, – передавала она мне, – что я только что отказала человеку умному, красивому, интересному, а главное, который мне чрезвычайно нравится. И вдруг я сделаюсь супругою ее сына, с которым, как с мужем, просто стыдно в люди показаться, – такая у него безнадежная физиономия и такой он неумный».
Через несколько дней Тоня показала мне письмо Александра Петровича.
«Высокоуважаемая Антонина Николаевна! Единственный человек, с которым я разговариваю вполне откровенно о своих интимных делах, – это моя мать. Но я никогда не поручал ей передавать вам что бы то ни было. Все сказанное ею должно было показаться вам большою самонадеянностью с моей стороны, даже дерзостью и наглостью. И вы были бы вправе так посмотреть на это, если бы я был в этом сколько-нибудь виноват. Отсутствие же вины перед вами Дает мне смелость обратиться к вам с просьбой: забудьте все, что говорила вам моя мать, и не лишайте меня по-прежнему вашего дорогого для меня доверия, дозвольте, как и прежде, провожать вас после уроков в нашем доме. Если бы вы давали мне какие-нибудь поручения, позволили бы мне вам служить и быть хотя чем-нибудь полезным, как в настоящее время, так и в будущем, я был бы несказанно счастлив.
Ни на что не рассчитывающий и глубоко преданный вам Александр Ермолаев».







