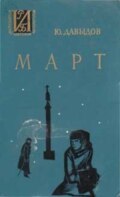Юрий Давыдов
Завещаю вам, братья
7
Батарею Мещерского… Я не запамятовала – первая батарея 14-й артиллерийской бригады, – но я называю ее батареей Мещерского, ибо так, только так, а не номером именовали ее солдаты, что справедливо считалось высшей степенью солдатского признания и солдатской признательности… Так вот, батарею князя Мещерского, а стало быть, и самого Эммануила Николаевича и брата Платона, бывшего на батарее старшим офицером, я нагнала в канун выступления к вершинам горы Св. Николая.
Гора Св. Николая – это, собственно, три главы, три седловины. Дивизионный лазарет расположился за третьей, а за первой поместился перевязочный пункт.
Бои завязались без промедления. Сломив великодушие старшего врача, я отправилась на перевязочный пункт, поблизости от батареи Мещерского, в лесок, где находились лишь санитары и болгары-добровольцы, вызвавшиеся помогать.
На Шипкинском перевале, на горе Св. Николая, я научилась различать какофонию огня. Если картечь, то будто зашаркает веник по мостовой. Бомба басит и повизгивает, а потом, приблизясь, вдруг и взвоет. А пули… Говорили, что опытный военный различает пение пуль еще в полете: какая перевернулась, а какая с изъяном, со свищем. Я знаю только, что удар пули звучит каждый раз по-разному. Если в скалу, в камень, то звук тупой и твердый, будто классная дама пристукнула об стол карандашом. Если в каменистую землю, то слышишь шорох, будто на крахмальную скатерть просыпала сахарный песок. А если угодила, попала, не промахнулась, тогда словно бы кто-то приложил палец к губам и произнес: «Тсс…»
Ненавижу войну, а должна сознаться – в боевом доле есть темный азарт. Ты вроде забываешь, что оно, это боевое дело, несет смерть, несет страдания тебе подобным. Хуже того, перехватывают безумные минуты, когда мстительная мысль, что несешь смерть и страдания, словно бы обдает сухим пламенем, и тебе это приятно.
Подходишь к расположению батареи Мещерского. У коновязей четверики и шестерики. Рядом орудийные передки, зарядные ящики. Часовой не с ружьем, как у пехотных, а с обнаженной саблей. Слышишь грохот, крики, чуешь кислую вонь порохового дыма.
А вот и сама батарея.
Унтер-наводчик вспрыгивает на орудийный хобот, упирается прищуренным глазом в целик, ерзает вправо, влево и слабо, даже как бы капризно, помахивает кистью руки – указывает, куда подавать. Потом наводчик уступает место офицеру, а сам стоит рядом с видом скромным и достойным, как человек, хорошо исполнивший свой долг.
Офицер с биноклем, быстро оценив точность наводки, бойко кричит: «Пли!» И вот уж прислуга отскакивает в сторону. Пушка рявкает, приседает и откатывается, звеня и лязгая. Артиллеристы, вытянув шеи, медленно сгибаясь, чтобы не застил дым, следят, где разорвется. Раздаются возгласы: «Чистая отделка!», «Важно!», «В середку угодила!»
Но война отнюдь не ажитация, когда артиллерийский офицер при сабле и пистолете командует: «Пли!», или генерал, махнув перчаткой, молодецки приказывает: «Музыка, вперед! Развернуть знамя!» Война – ломовая работа. Полк окапывается, вгрызаясь в камень. Батарейные заняты утолщением брустверов. Укрепления требуют ежедневных исправлений. Надо добыть лесной материал – колья, брусья. Надо волочить их на позиции, волочить под выстрелами. Наступают холода, туманы, дожди – необходимы землянки… Бессонные ночи, арестантская зябкость траншей, грязное белье. Лихорадка, дизентерия, мириады вшей, вонь неубранных трупов, вонь испражнений…
Иногда вечерами я заглядывала на огонек к брату Платону и кн. Мещерскому. Эммануил Николаевич, немало повидавший на своем веку, был занимательный рассказчик. В его рассказах открывалась жизнь придворная и дипломатическая. А мы сидели у огня, кто набросив полушубок, кто пальто или шинель, сидели посреди скал, траншей, брустверов, окруженные туманом, тьмой, сыростью, неизвестностью, и с жадностью слушали князя.
Мещерский, пощипывая бородку, говорил о прусском короле, теперешнем германском императоре, о том, как он, Мещерский, ни за что ни про что получил датский офицерский крест и нидерландский офицерский крест, как ездил в Швецию и каков был некий генерал Леббеф, с которым дружил наш рассказчик.
Все это должно было бы здесь, на театре военных действий, представляться донельзя мишурным, пустым, никчемным, а между тем, повторяю, мы слушали с жадностью. Не оттого ли, что все, рассказанное князем, было бесконечно далеким? Не потому ли, что всем нам хотелось забвения, пусть и краткого?
В ночь на пятое сентября я была на биваке, у брата Платона. Только что пришла долгожданная почта, как всегда, разворошила в душах минувшее, невоенное, домашнее, и на биваке там и здесь возникали те особенные доверительные беседы, которые бывают только у военных вблизи неприятеля или у заключенных на долгом этапном пути.
Эммануил Николаевич, тихо светясь, говорил о жене и детях. Летом они жили в Царском Село, зимою – в Петербурге. Жена нашего полковника была урожденной кн. Долгорукой. Она была из тех княжон, что не располагают приданым, ни недвижимым, ни банковским. (Впрочем, таким же был и Эммануил Николаевич). Женился он вскоре после того, как Мария Михайловна вышла из Смольного. Эммануил Николаевич показал миниатюру, изображавшую довольно миловидную блондинку. И вдруг, поскучнев, попросил меня и Платона похоронить его вместе с этой миниатюрой, а медальон с локоном, висевший у него на груди, возвратить Марии Михайловне.
Словом, разговор принял печальный оборот, и, если бы он случился неделею, даже несколькими днями прежде, я бы его вряд ли упомнила, но все дело в том, что происходил он в ночь на пятое сентября.
В эту ночь наступила тишина. Совершенная и удивительная тишина, когда слышишь шорох тумана. И по мере приближения рассвета она не только не нарушалась, а становилась еще глубже и полнее. Мне дали провожатого, и я отправилась в лес, на перевязочный пункт.
Спустя часа полтора турецкая гвардия начала общий штурм горы Св. Николая. Взвизгивая «алла! алла!», турки бешено ворвались в наши передовые ложементы и обрушились на батарею Мещерского.
В самом начале сражения Эммануил Николаевич был убит. Пуля попала в сердце, он не мучился и мгновения. Но солдаты все-таки принесли полковника на перевязочный пункт. Я накрыла его лицо платком. Солдаты постояли, перекрестились, надели шапки и ушли назад, на батарею.
Есть странность, которую испытывают, очевидно, лишь на войне: убьют человека тебе близкого, а ты поначалу не ощущаешь никакого потрясения, разве что тупое недоумение, да и то недолгое. И лишь потом, минет время, заноет, заболит, затоскует сердце.
8
Транспорт – это десятки, сотни повозок. Похожие на громадные сундуки без крышек, с трухлявой подстилкой, гадкой и дворовому псу, с немазаными осями, они издавали невыносимый, бесконечно долгий скрип, который, мешаясь со стонами, наполнял окрестности характерным гулом.
Транспорт приближается к госпиталю. Госпиталь переполнен. Мест нет, медикаментов нет, махорки нет, носилки заняты, самовары распаялись, кипятка нет; хирургический инструмент давно затупился, зазубрился. Доктор, в замызганном платье, небритый, измученный, хрипло осведомляется: «Сколько всех?» Услышав ответ, он с минуту только сопит.
Дождь, ветер, тучи. Из бараков шибает карболкой, испражнениями дизентериков. Не знаешь, который день недели. Куришь, куришь. (Многие, почти все сестры милосердия, я в их числе, пристрастились к табаку.) Впрочем, одно чувство есть: раздражения. И против раненых, и против коллег, и против этого дождя, этих туч, против всего на свете.
В одну из таких минут я увидела щуплого, с жиденькой бородкой человека, одетого в брезентовую епанчу и брезентовые шаровары, заправленные в сапоги. Он орудовал широкой лопатой. То был студент, по фамилии, кажется, Маляревский. После войны, в Петербурге, я спрашивала о нем, но так ничего и не узнала; возможно, он не был питерским студентом.
Маляревский спасал и госпитали и целые городки, переполненные войсками и ранеными, от повальных эпидемий: он добровольно занимался уборкой нечистот. Администрация не давала ему ни подвод, ни рабочих рук, Красный Крест ссужал грошами, но Маляревский как-то изворачивался. И я утверждаю, что поступок Маляревского был поистине героическим, хотя со мною наверняка не согласятся чиновники наградного стола главной квартиры…
Я оказалась в гужевом санитарном транспорте, а затем и в санитарном эшелоне после того, как уполномоченный Красного Креста, посетивший Шипкинский перевал, нашел, что сестру милосердия Ардашеву пора забрать из лазарета 14-й пехотной дивизии.
Я согласилась сразу, согласилась с радостью! Правда, совесть оскалила остренькие зубки, но я сказала этому грызуну: «Послушай, вернусь, ей-богу, вернусь, а сейчас уволь, нет сил, ни телесных, ни душевных». Впоследствии я вернулась на Шипку, это правда. Но, умасливая свою совесть, я ни на волос не верила, что вернусь, это тоже правда.
В начале кампании, двигаясь к Дунаю, наши полки обтекали Бухарест, едва затрагивая окраины. Теперь, доставив раненых в Бранкованский госпиталь, я могла осмотреться. Впрочем, «осмотреться» – звучит как из записок вольного путешественника, лучше сказать – я озиралась.
Было странно видеть собственное отражение в зеркальных стеклах магазинов, фиакры, запряженные свежими и холеными лошадьми, а не загнанными или запаленными, видеть людей чистых и улыбчивых, а не сумрачно-сосредоточенных, слышать речь о каких-то обыденных предметах, ступать по ровной мостовой, меняющей твою походку, вдыхать приятный запах кофейни или глядеть на Дымбовицу, которую не надо форсировать, а можно спокойно перейти по одному из мостов.
При мне в Бухарест вступил полк гвардии, призванной на театр военных действий в качестве панацеи от плевненских и прочих неудач. Какой именно полк, не помню, кажется, гренадеры.
Офицеры рассыпались по городу, эдакие свеженькие, беспечные. Я испытывала неприязнь, даже, пожалуй, легкое злорадство: «Э, погодите-ка, соколы, хлебнете лиха».
Ну, а пока эти сабельки бренчали на улице, слушали повсеместно в Румынии распространенный романсик «Ich bin der kleine Postilon»2 – или, входя в кафешантан, весело осведомлялись у старшего в чине: «Разрешите остаться?»
По-иному вели себя офицеры, командированные по каким-либо делам с театра военных действий. В их кутеже была забубенная торопливость. Они пили жадно, будто задыхаясь, нахлобучивали свои фуражки на случайных подружек, стаскивали с плеч походные сюртуки и оставались в одних сорочках.
Бухарестские дни запечатлелись бы в памяти вот только такими чертами, если бы я не встретила Розу Боград, а она не свела меня с Анной Корба.
Михайлов утверждал, что в целой толпе барышень и женщин нетрудно отыскать участниц революционного дела. Это очень просто, говорил Александр Дмитриевич, стоит только внимательно присмотреться. У наших, объяснял он, другая походка, жесты, движения – энергия, бодрость, особенная эластичность. А все прочие – квелые (он так и сказал: «квелые»), не ходят, а семенят; и главное, у наших одухотворенность, а у тех кисейная экзальтация и жеманство.
Михайлов был наблюдателен, равномерно приметлив и к квартирным хозяйкам, и к кучерам, и к топографии местности или города, и к товарищам, и к недругам. То было врожденное чутье, хотя Александр Дмитриевич и настаивал, что подобное чутье может и должен выпестовать в самом себе каждый нелегальный.
Вот и в этом случае, общее схватил он верно. Однако всех в одни скобки не заключишь. Вздумай Александр Дмитриевич применить свой «закон» к сестрам милосердия на театре военных действий, он бы чуть ли не каждую причислил к революционеркам – обстоятельства, род деятельности придали им как раз те внешние признаки, о которых он говорил.
Принадлежала ли Роза Боград к типическим фигурам – не припоминаю. (Зато помню, как задело меня ее сочувственное: «Ох, и переменилась ты!») Не скажу, была ли она уже тогда женою Плеханова, с которым теперь в эмиграции, но, несомненно, они знали друг друга, как оба знали и Александра Дмитриевича, и меня: мы были, что называется, одного круга.
Увидев Розу Боград, я ощутила, как давно оставила Россию. Минули месяцы, а мне казалось – годы. Есть свойство времени тюремного: быстролетность и вместе неимоверная протяженность. Тоже, как ни странно, на войне.
Об Александре Дмитриевиче Роза только и могла сообщить, что он, как и Жорж Плеханов, где-то на Волге, скорее всего в окрестностях Самары или Саратова. Признаться, я готова была сто раз переспрашивать и сто раз выслушивать все о том же.
Розина комната при старинном госпитале была обыкновенная, даже бедненькая, но разве не блаженство, когда можешь затворить дверь и остаться наедине с собою? Не блаженство ль разуться и ощутить под ногами не острый холод каменистой земли, а чистые половицы? И не блаженство ли пить чай, слушая вполуха неотвязный шум вечернего дождя и зная, что тебя не позовут в темень и непогоду?
Ничего-то мне не хотелось, а только вот так сидеть у этого стола, покрытого скатертью, за столом с чаем, конфектами и печеньем – настоящее пиршество, – сидеть, подперев щеку ладонью, и не прихлебывать чай, торопясь и обжигаясь, а пить мелкими-мелкими «домашними» глотками…
Поздним вечером постучали. Вошла молодая женщина. Роза нас познакомила. Анна Корба, сестра милосердия Благовещенской общины, служила в санитарном поезде, доставлявшем раненых из Бухареста к русской границе.
Дочь статского генерала и супруга инженера Корба, швейцарского подданного, Нюта в ту пору была легальной. Но ее симпатии и антипатии уже определились. Минул сравнительно краткий срок, и она, разорвав с мужем, сделалась нелегальной, заняла выдающееся место в партии. Она пылала таким вдохновением, что у нас говаривали: мы действуем, Нюта священнодействует.
Александр Дмитриевич питал к ней глубокую приязнь. Это давало повод подозревать экстраординарные отношения. Может быть, я еще расскажу…
Я уже писала, что Михайлов чрезвычайно ценил товарищество. Друзья составляли организацию; организация состояла из друзей. Тут была слитность. Но именно Нюте, именно Анне Павловне Корба он открывал такое, чего не открывал и Желябову, уж на что они были близки.
В начале восьмидесятого года Нюта жила неподалеку от Сенной площади, на Подьяческой. У нее хранилась часть «небесной канцелярии», часть паспортного стола «Народной воли», и Михайлов, постоянно озабоченный благонадежным устройством нелегальных, часто наведывался к Нюте…
Было уже за полночь, когда Роза извлекла из чемодана нелегальную литературу. Я удивилась. Это было странное удивление. Война поглотила меня и оглушила, и мне представлялось, что и там, вне театра военных действий, тоже все поглощены войной. А тут – литература, нелегальные издания, нечто из другого мира. И вот – удивление, чувство очнувшегося человека, который не вмиг смекает, где он и что он.
Я должна была бы, кажется, ощутить жажду печатной строки, нетерпение к революционным новшествам. И опять-таки странность! Не апатия, совсем не то, а такое внезапное сознание растраты собственного нервного капитала, что я не нашла в себе охоты к чтению. И лишь на другое утро, когда Роза с Нютой отправились на склад Красного Креста, на громадном дворе которого, заваленном ящиками и тюками, постоянно кипела работа, лишь тогда я принялась за чтение.
Запрещенной, недозволенной была эта литература только для нас и у нас, только для русских и в России, но не в Румынии и не в Турции. Ярмо русского деспотизма давило тяжелее даже ярма турецкого, а уж последнее в целом свете рекомендовалось варварским.
В Румынии расейские жандармы пытались пресечь распространение революционной литературы. Казалось бы, чего проще, если взять в расчет союзничество, а сверх того и присутствие в слабосильной стране русской армии? И однако, «голубым» указали на дверь, заявив, что подобные запрещения противоречили бы конституционным установлениям. (Тут было над чем призадуматься нам, социалистам, в ту пору отрицателям конституций!)
В пределах Турецкой империи «предерзостные книжонки» тоже никто под полу не прятал. В Сан-Стефано, например, их получал каждый посетитель ресторации Боске, популярной у наших офицеров.
Одно плохо, а главное, непоправимо: эмигранты, издатели, и поставщики нелегального, не посылали ничего, предназначенного армейской публике. Правда, солдатская масса, насколько знаю, чуралась печатного слова (исключая Евангелия, особенно в госпиталях), чуралась и спешила предоставить «по начальству», то есть поступала так же или почти так, как и деревенские простолюдины. Это верно. Но следовало бы адресоваться к офицерам, писать о той роли, которую и может и должна сыграть вооруженная сила в коренном обновлении России. Уверена, семена падали бы на благодатную почву; может, еще более благодатную, чем молодое, необстрелянное офицерство, из которого чуть позже рекрутировались наши подпольные военные кружки. Однако никто не заботился ковать железо, когда оно было не горячим, а прямо-таки раскаленным.
Несмотря на явное нежелание румынских властей потворствовать русской жандармерии, мы соблюли некоторую конспирацию, начиняя мой багаж «преступной» литературой.
Я бралась доставить ее на родину в своем санитарном эшелоне. Военные поезда не подвергались таможенному досмотру, однако не следовало наводить «голубых» на след. Тем паче что «хвост» вполне мог увязаться за мною и там, в России, обнаружить наши связи.
Как сестре милосердия, мне полагался бесплатный провоз до трех с половиной пудов багажа. Мое имущество не тянуло и полпуда, и я «по праву» хотела загрузиться нелегальным.
Роза отправилась в какую-то кофейню, куда вечерами наведывался эмигрант, болгарский революционер Любен Каравелов. Вернувшись из кофейни, она сообщила, что Каравелов охотно согласился припасти необходимую нам литературу и что мы получим ее из рук в руки, не привлекая стороннего внимания.
Помню улицу Мошилор, в конце ее – дом; на пороге встретил нас высокий, худой, сутулый, темноглазый человек в просторной синей блузе. В лице, широколобом, с желтизною, мне почудилось отдаленное сходство с татарским типом, и на минуту мелькнул Владимир Рафаилович Зотов, хотя борода у Каравелова, не в пример зотовской, росла пышно.
(13 Петербурге я рассказала о своем впечатлении В.Р.Зотову. Владимир Рафаилович, смеясь, заметил, что у него от предков татар «уцелела» разве что реденькая бороденка, а когда бороду он брил, то даже сам Лафатер не «учуял» бы в нем татарской крови. Что до Каравелова, то Зотов, оказывается, во времена оны состоял с ним в переписке: Каравелов, живший тогда в Сербии, искал заработка и хотел сотрудничать в русских газетах.)
На другой день я перебралась в военно-санитарный поезд. Он состоял из вагонов, которые начальство, со свойственным ему остроумием, называло «приспособленными». Если они и были приспособленными, то для скота, в них скот и возили. Вагоны не сообщались друг с другом, как пассажирские, и врач не появлялся до очередной остановки. Да к тому же всем – и раненым и персоналу – доставалось от крутого произвола начальника транспорта, взбалмошного и пьяного ротмистра.
На границе мы получили депешу, согласно которой эшелон следовал в Саратов, где эвакуированных ждали палаты и бараки земской больницы.
В Саратов! Пусть и две почти тысячи верст, но ведь в Саратов, на Волгу! Я и надеялась, и не надеялась увидеть Александра Дмитриевича. Надеялась, потому что приключаются чудеса. Не надеялась, потому что чудес не бывает.
Глава вторая
1
Вы спрашиваете: что дальше? Продолжение есть, оно будет. Но теперь позвольте мне. А то ведь какая диспозиция получилась? Вас, читаючи, занесло с Анной Илларионной в конец семьдесят седьмого года. А ваш покорный слуга Зотов остался со своим героем в метелях семьдесят шестого. Надобно соединить нитку…
Я говорил, что впервые увидел Михайлова в Эртелевом, у Анны Ардашевой, это в канун ее отъезда было. Особенного впечатления молодой человек на меня не сделал, и я нисколько не держал на уме, что мы еще встретимся. Не то чтобы не хотел его видеть… Отчего? Занятно молодых наблюдать… Нет, просто какая могла случиться докука у него ко мне, а у меня к нему?
Однако случилась. И весьма неожиданная.
Видите ли, Аннушка, чтоб меня, ветхого человека, поднять в глазах своего друга, Анна-то Илларионна возьми да и похвастай моей библиотекой. Вот, дескать, обладатель истинных сокровищ. Оно и верно – обладатель. Сами изволите видеть. А это еще не все, в других комнатах – до потолка. Тут и наследственное, от батюшки, тут и благоприобретенное. Уж на что Благосветлов… (А тот, который поставил «Русское слово» и «Дело».) Уж на что знаток и ценитель, не плоше Лескова, а и Благосветлов, бывало, позавидует: «Библиотека у вас, Владимир Рафаилыч, единственная!»
Скажете: какого черта – ваша библиотека и ваш нигилист? Да и я, я тоже руками развел (мысленно, мысленно), когда он постучался ко мне и сказал об этом. И ведь вправду, они все больше жили сердцем, нежели мыслью. Эго, пожалуй, верно, но сейчас о другом.
Сейчас я внимания прошу, потому что никаких бомб, никаких подкопов. Сюжетами этими многое заслонилось. Нет, хочу, чтоб услышали музыку, которая в его душе звучала, постоянно звучала, хотя и под сурдинку… Впрочем, тороплюсь.
Так вот, он-то, Александр Дмитрич, как раз ради книг и явился. Ради каких? Нипочем не угадаете. Представьте: староверы, раскол!
Ну да, да, да – раскол. Опять-таки: а с какого боку тут я – Владимир Рафаилыч Зотов, православного вероисповедания?
До времени у нас об расколе только и знали, что по романам батюшки моего и романам Масальского, который так ловко строил интригу. Занявшись расколом, отец мой копил кое-какие бумаги, а я – сборники Кельсиева, нелегальное «Общее вече».
Разумеется, Александр Дмитрич обо всем этом не ведал. Он попросту намотал на ус хвастовство Анны Илларионны. Зачем, с какой целью? Он бы, понятно, и в Публичной отыскал, ну, скажем, Аввакумово «Житие», или Субботина, московского, этот его трактат о расколе как орудии враждебных России партий, или, наконец, «Братское слово»… Или вот еще: Ливанова очерки, хотя и мерзейшие, но с фактами, с фактами… Отыскал бы, конечно. Но примите в расчет образ жизни: день-деньской на ногах, глядишь – девять вечера, затворились двери Публичной. А ежели бы книгу на ночь, ежели бы с книгой в полночь, за полночь? Вот он и пришел.
Мне первое на ум: не желаете ли, говорю, книжку многострадального Щапова? (Был такой историк, очень его радикалы уважали.) Благодарит, улыбаясь. Я сказал ему про сборники Кельсиева, про «Общее вече». Он рот разинул. А мне, библиофилу, приятно. Однако, говорю, эти я на руки не дам. Увольте, не дам. Эти, говорю, нынче ни у одного книгопродавца не сыщешь. Понимаю, отвечает, и опять улыбается этой своей приветливой улыбкой, очень, говорит, понимаю, а как быть? Ну, как быть-с? Желаете, присаживайтесь, листайте себе на здоровье.
Не помню, кстати иль некстати, из одного тщеславия, но я ему про Герцена… Стойте, господа, тут все связано. Этот вот Кельсиев был Герцену одно время сотрудником, а листы «Общего веча» выдавали в свет при «Колоколе». Я и брякни, что газета газетой, а я и Герцена знавал. Тут он, Александр-то Дмитрия, даже как будто и растерялся. В глазах, вижу, мольба и вопрос.
Я по себе, господа, знаю. Бывало, сойдутся у батюшки… Мы тогда жительствовали у Львиного мостика, в казенном доме театральной дирекции,. где батюшка служил… Да, бывало, сойдутся. Вино, разговоры, воспоминания. Слышишь: «Государыня изволили…», «А Гаврила Романыч входит…» Слышишь такое – душа мрет. Не от того мрет, чего уж там такое изволила государыня, а от того, что вот этот самый человек, эти вот самые глаза глядели на Екатерину, на Державина…
Должно быть, у Михайлова подобное возникло, когда я о Герцене заикнулся. Не велика моя «причастность» к Герцену, но знавал Александра Иваныча. Знавал!
Сильно я эдак-то в объезд беру. Но, во-первых, Герцен, знаете ли, такая неисчерпаемость, а, во-вторых… Во-вторых, тут и линия наших отношений с Михайловым. Сдается, «причастность» к лондонскому изгнаннику подняла мой кредит в глазах Михайлова. И что самое-то странное, даже смешно, ей-богу… Я ему рассказываю про Герцена, а самому приятно, лестно, даже вроде бы горжусь. А я ведь отчетливо сознавал, что внимание не к моей персоне, а как отраженный свет. Ну, а все равно приятно.
Я видел Герцена: счастливые билеты доставались трижды. Впервые – в сороковых; он приезжал из Москвы, посетил Краевского…
Нет, до «Голоса» еще вечность была; я тогда редактировал «Литературную газету». Краевского я хорошо знал. Он женат был на Анне Яковлевне, урожденной Брянской, удивительная была Дездемона, да-с… Брянский, актер Александрийского, жил в нашем доме, его дочери, Анна и Авдотья, на глазах росли. Так что я будущую Краевскую еще до Краевского знал.
Ну вот, у Краевских в сорок шестом я и познакомился с Герценом. Помню, долгополый сюртук – московский покрой; да и весь Александр Иваныч был, так сказать, московского покроя.
Если бы вы только слышали, как он говорил! Я не о том, что говорил, а именно о голосе, о звучании голоса… У нас, коренных петербуржцев, согласитесь, есть эдакая снисходительность: э, Москва-матушка, большая деревня… Я тоже так. В одном отдаю решительное предпочтение – красоте, прелести московской дикции. Тут уж наш Санкт-Петербург нишкни. В нашем твердом, быстром говоре нет ни отзвуков благовеста, ни отсветов солнца на маковках… А у них – есть. Вот у Герцена-то как раз и была прелестная московская дикция. Голос плавный, льющийся, заслушаешься.
Но слушать – трудно. Это не парадокс: трудно от быстрого полета мысли. Будто гонишься, весь в напряжении, и не поспеваешь, а рядом так и полыхают молнии, так и полыхают… И еще: после Герцена, как он уйдет, у тебя с другими людьми разговор не вяжется. Чувствуешь, нужно «приспособиться», потому что после Герцена всякая иная беседа – колченогая, неказистая…
Теперь – дальше. Текли годы. Александр Иваныч был за границей. Император Николай Павлыч опустил шлагбаум, нас всех – под караул, каждому – свой будочник. «Ох, времени тому!» – как встарь вздыхали… Звука «Герцен» боялись хуже мора. Нынче и не понять, как переменился смысл самого слова: «эмиграция». Вернее, в ту пору говаривали «экспатриация»… При Николае-то как измена, синонимом измены воспринималось, да-да. Ну, в лучшем случае как несчастье. А Герцен доказал право на политическую эмиграцию – моральное право, если ты сознаешь себя гражданином.
Ну-с, жили мы под Николаем. Потом, в шестидесятых, пожимали плечами: господи, да как это мы дышали? И все до точки списываешь на счет всепоглощающего страха. Верно: «и бысть страх велий». Однако все и вся на страх-то свалить – не слукавить ли? Дескать, что тут рядить, все мы люди, все мы человеки. А нет, не только страх, не-е-ет! Было еще одно обстоятельство. На него все тот же Герцен указал: резкое понижение нравственного уровня образованного общества…
Я вспоминаю чувства при известии о кончине Николая Павлыча. Поверите ли, первым было – недоумение. Почему? Да ведь Николай-то Павлыч, грозный царь наш, был, есть и будет. Вот какое гипнотическое состояние: есть и будет, едва ль не во веки веков. Всех нас переживет и детей наших, а то и внуков тоже. И вдруг – преставился, почил в бозе!
Надо было жить в то время, чтобы понять: ей-богу, парить захотелось. Окна настежь! Свет, воздух! Распахни объятия, христосуйся, светлое воскресенье, право.
Многих потянуло в Европу, ездить стали, шлагбаумы поднялись, а будочники головушки повесили. Собрался и я. Надумал заграничные письма писать для «Сына Отечества», хотя сотрудничал в «Отечественных записках» – критическим отделом заведовал. Но главной-то целью, меккой, как и для многих, стоял туманный Альбион, Лондон.
Прямого сообщения через Берлин не было, только еще строилась железная дорога от Кенигсберга до нашей границы. Пришлось часть пути проделать морем, будь оно неладно. (Мой старший – офицером флота, вокруг света плавал; спрашиваю: «Как это ты, Рафаил, такую каторгу терпишь?» Смеется…)
В Лондоне – «знакомые все лица»: Краевский, писатели. Все жаждут видеть Герцена. Да, забыл сказать: в тот самый год на всю Россию загремел «Колокол»… Александр Иваныч пригласил к себе всех нас. Одному Некрасову отказал. Была, кажется, какая-то претензия к Некрасову – за Огарева или жену Огарева, в точности не помню.
Жил Герцен в Путнее. Это от Лондона поездом минут двадцать. Занимал дом, двухэтажный, с садом; в саду зелень нежная и вместе крепкая, как повсеместно в Англии.
Герцен, вижу, мало переменился. Та же подвижность, льющийся голос московского тембра. Ну, несколько статью плотнее. И, может быть, больше открылся лоб, великолепных очертаний лоб у него был. Да, вот еще: как бы впервые расслышал его смех – открытый, искренний, так смеются очень честные люди.
Он радовался нам. Не тому, что мы явились на поклон: позвольте, дескать, засвидетельствовать… Нет, ни тени литературного генеральства. Он радовался русским, землякам. И в этой радости уже таилась глубокая тоска, эмигрантская, от которой защемило мое сердце при следующей встрече, десять лет спустя.
Мне случалось чревоугодничать на многих литературных обедах. Юбилейных и дружеских, городских, загородных, на всяких. Но такого, как в Путнее, не случалось ни раньше, ни позже: необыкновенное настроение покоряющего и общего дружества. Думаю, было сходство с лицейскими годовщинами. Не нашими, не моего выпуска, а первого, пушкинского.
Вот говорят: «пишущая братия», «братья писатели». А я вам по секрету: братия – да, братья – нет. Тут каждый стражником собственного «я». И тяжба самолюбий, то явная, то скрытая. Тут местничество: кто второй, а кто седьмой. Поют добро, а сами недобры. Литератору надобно душевное здоровье. Не только, чтобы выстоять посередь всяческой скверны. Не только. А и затем, чтоб не зачумиться своим тщеславием. А тут еще, смотришь, нечаянно пригреет славой… Именно нечаянно, что чаще всего и бывает… Я думаю, знаменитостей следует жалеть. Да ведь поживи они подольше и – что же? Нечаянная слава истаяла, нету, шабаш. Каково это, а? Сетуй не сетуй на новые поколения, а саднит горечь. А ежели нас взять, которые второго иль третьего разбора? Нам, незнаменитым, надо пережить… лучше сказать – надо изжить бесславие. Всю жизнь изживать. И ничего-то тебя иное не вызволит, одна скромность. Но не казовая, а нутряная. Смиренная скромность нужна. А если есть она – истинное счастье работать…