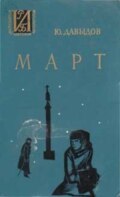Юрий Давыдов
Завещаю вам, братья
Наконец мы прослышали, что лизогубовский поверенный исподтишка приценяется к весьма богатому имению, желая приобрести его в собственность.
Что делать? Александр Дмитриевич не знал. Я негодовала, и только. Положение было оскорбительное, беспомощное. И эта чудовищная подлость Дриги, который пользовался бессилием «обожаемого» Дмитрия Андреевича.
И эта проклятая медлительность почты. Михайлов телеграфировал (разумеется, шифром) в Одессу; одесские товарищи писали (разумеется, нелегально) заключенному Лизогубу; Дмитрий Андреевич бился в своей клетке, изыскивая способы сношения с волей; я бегала на почтовую станцию… А Дриго тянул, пропадал где-то, появившись, мямлил о формальностях, нотариусах, гербовых бумагах и т. д.
Когда Александр Дмитриевич жестко и напрямик выставил, что имущество Лизогуба есть «общественная собственность» и что партия «своих прав не уступит», Дриго побагровел, набычился и выдал себя с головою: он-де не «дойная корова», его-де «на кривой не объедешь», он-де поверенный Лизогуба и претендует на многое.
Никогда я не видела Михайлова в такой ярости.
– Понимаю… Стало быть, подлость? – проговорил он, запинаясь и страшно бледнея. – Стало быть, вы… милостивый государь… предали? Так прикажете понимать? – Он медленно опустил руку в карман.
Дриго смешался, попятился.
Дело происходило в Константиновском саду, в отдалении, публики не было. Я цепенела на скамье, сжимая зонтик.
– Да нет… Вы не поняли… – забормотал Дриго, озираясь. – Но мне, поверьте, необходимо решительное и окончательное слово Дмитрия Андреевича. Это не просто…
Мерзавец, мало ему было прежних писем Лизогуба, ясных и недвусмысленных, и я подумала, что Александр Дмитриевич сию секунду предпримет нечто ужасное, такой он был взбешенный. Но Михайлов ссутулил плечи и отер лоб.
– Ладно, – сказал он, переводя дух, – ладно… Да только зарубите на носу: это уж будет последнее слово.
Наконец было получено письмо Дмитрия Андреевича. Лизогуб называл Михайлова своим вторым «я»: «Аз в нем, и он во мне». Следовательно, все распоряжения Михайлова подлежали неукоснительному исполнению. А далее «милого деда» постигал еще удар: если вы не отдадите моих денег, значит, вы их зажилили (хорошо помню: «зажилили»).
Да, решительное и окончательное слово Лизогуба было произнесено. Но Михайлов не произнес своего последнего слова Дриге: Дриго исчез…
Люди, вкусившие лотос, забывают прошлое. Это мифология. Люди, вкусившие золота, забывают прошлое. Это реальность. Большие тысячи плыли к Дриге; он забыл Лизогуба, забыл порядочность. Мотив вульгарный, но всегда почему-то поражающий.
Предательство, измена… Помню, жалела Гришу Гольденберга: поверил посулам иезуита-прокурора, надеялся, что никого из оговоренных и пальцем не тронут, но убедился, что кругом обманут, и сам наложил на себя руки, повесился в Петропавловской… А Меркулов, Васька Меркулов? Не выдюжила душа одиночного заключения, пустили его на волю – и ну выдавать одного за другим. Простить – никогда, а понять… понять можно. Или Рысаков? Тут страх смерти, необоримый, неподвластный разуму. И это сознавали, стоя на эшафоте, Желябов и Кибальчич: они обменялись с Рысаковым прощальным поцелуем. (Софья Львовна – нет, Перовская уклонилась… Не мне, уцелевшей и благополучной, не то чтобы осудить, но и не мне укорить ту, что погибла на виселице первой изо всех русских женщин, нет, не мне, но какое, однако… Что это? Ведь только она уклонилась от предсмертного поцелуя с полумертвым от ужаса юношей, не Желябов и не Кибальчич – она, Перовская… Величайшая сила презрения? Не знаю, не знаю… Я не очень-то постигаю туманные рассуждения об особенных свойствах женской души. Но что правда, то правда: среди женщин не нашлось ни Гольденберга, ни Дриги, ни Меркулова, ни Рысакова.)
Да, Дриго! Вот где сребреники и только сребреники – алчность звериная. Ведь не голодный бедняга, готовый и ограбить, и убить, и поджечь. И не бродяга, которому негде приклонить голову. У-у, большие плывут тысячи! Хватай, не упусти, а все прочее – гиль! Банальный, извечный мотив, но, понимая, отказываешься понять…
Дриго исчез. Мы терялись в догадках. Так минуло несколько дней. Александр Дмитриевич сбивался с ног, наводя справки. Меня он определил наблюдать за городской квартирой Дриги и, ежели что, хоть в полночь-заполночь, дать знать на постоялый двор, где Александр Дмитриевич ночевал.
Дом Вербицких стоял «ле» – Фросино словцо, означавшее «рядом», – с домом Дриги. Я не упомянула, что все это предместье называлось Лесковица, и отсюда до самого Киевского шоссе тянулся громадный луг. Весною, при разливе Десны, достигавшем десяти верст, луг покрывался половодьем настолько высоким, что к дому Вербицких и Дриги Лизогубу случалось переправляться в лодке. Но теперь полые воды отошли, стояло роскошное луговое разнотравье.
В саду Вербицких удивительный каштан рос: один год цвел с южной стороны, другой год – с северной, и никто не умел объяснить загадочное явление. Вот у этого каштана-уникума и угнездился мой «наблюдательный пункт».
Было бы неправдой сказать, что я увлеченно и прилежно отдалась наблюдениям. Сидя со старыми журналами, где публиковался Вербицкий, прохаживаясь в саду или любуясь лугом и медленными кучевыми облаками, плывущими над ним, я чувствовала и вялую усталость, и недовольство собою, неудовлетворенность, а еще, пожалуй, скуку. Я как бы ощущала: что-то значительное, важное, интересное неслышно и плавно проносится мимо меня, а я точно бы погружаюсь в дрему, бесцельно упуская время.
Должна признаться, недовольство, неудовлетворенность вызывались не вынужденной пассивностью, не жаждой опасности, когда роют подкоп, начиняют динамитом жестянку, похожую на коробку конфект «Ландрин», или погружают итальянский стилет в грудь голубого генерала.
Я вовсе не иронизирую, совсем напротив; готова каяться в отсутствии порыва к яркому, недюжинному, слепящему воображение. Я просто отмечаю тогдашнее свое душевное состояние, которое не умела объяснить, как не умели объяснить в Чернигове, отчего каштан Вербицких каждый год цветет по-разному.
Впрочем, теперь, на склоне лет – мне почти сорок, – могу снисходительно-грустно уличить самое себя: Михайлов был тому причиною, Александр Дмитриевич Михайлов, относившийся ко мне с симпатией и заботливостью, но лишь товарищеской…
Как бы ни было, я вовремя обнаружила Дригу. Он подкатил, нагруженный, как дачник, свертками, и приказал извозчику: «Снеси-ка, братец!»
Я бросилась к Александру Дмитриевичу, думая, что вряд ли застану его в этот дневной час на постоялом. К счастью, он, как из-под земли, вывернулся.
Михайлов был озабоченно-мрачен. Увлекая меня назад, к дому Вербицких, резко отбросив жасмин, свисающий над забором, шепнул:
– Дриго арестован.
– Но… я видела… Вот сейчас, только что…
– Видели? – Он быстро накручивал на палец прядь бороды, как делал всегда в минуту опасности, поглощенный мгновенными практическими соображениями. – Видели? Вот оно что! Ах, подлец…
Мы проскользнули задней калиткой.
– А-а, Фросюшка, здравствуй, голубушка, – беззаботно произнес Михайлов. – Будь добренька, напои молочком: жара-а-а… С погреба, с погреба молочка…
Дриго был арестован.
Дригу выпустили из-под ареста.
Дриго у себя.
И, судя по всему, Дриго весел.
– Кажись, дело пропащее, – сумрачно резюмировал Александр Дмитриевич. – Остается самим не пропасть… Знаете, Анна, давайте-ка на постоялый, там есть один малый, он вас к утру на станцию доставит.
– А вы?
– А я… Я-таки попытаюсь, я его и стенке прижму. А вам-то зачем?
– Ну, увольте. Как хотите, одна не поеду.
Он чуть было не вспылил, но тут к дому Дриги подкатил фаэтончик.
– Пожалуйте, господа! Прошу! – позвал Дриго.
Они там, должно быть, запировали. Донеслись возбужденные голоса, потом песня, причем выделялся довольно красивый тенор.
Вечерело.
Дриго с гостями шумно выбрался на улицу.
– Ну, – поднялся Александр Дмитриевич. – Держитесь поодаль.
Он вышел первым и скоро, со свойственным ему умением надевать шапку-невидимку, затерялся невесть где, хотя и затеряться вроде бы негде было.
А тех-то, «пирующих студентов», я не упускала из виду. Поигрывая тросточками и жестикулируя, они шли к валу над Десной, где черниговский променад, как у нас на стрелке Елагина острова.
На валу уже зажгли керосиновые фонари, свет выхватывал из сумрака старые деревья. За деревьями на мраморных столиках приятно постукивали костяные ложечки любителей мороженого. Знакомые раскланивались, а так как здесь все были знакомы, то светлые шляпы-котелки беспрерывно и словно бы сами собою описывали легкую полудугу.
Я как-то вдруг потеряла моих гуляк. Забеспокоилась, убыстрила шаги… Публика мне мешала… Но вот опять приметила кряжистую фигуру Дриги. Компания рассеялась; рядом с Дригой возвышался на голову Александр Дмитриевич, с заложенными за спину руками и в сдвинутой на затылок белой дворянской фуражке.
Они стали спускаться к Десне. Я тоже.
С реки стекала прохлада. Слышно было, как где-то, за версту, наверное, шлепают плицы…
Было поздно, совсем темно, когда мы с Александром Дмитриевичем направились в город.
Береженые, которых бог бережет, затворяли ставни и, отвязывая на ночь дворовых псов, звучно роняли цепи. Огни гасли, пахло древесным углем, залитым водою, и этот запах почему-то казался сизым.
Мы шли на почтовую станцию ради нового свидания с Дригой. Видите ли, у изножья вала, близ Десны негодяй не счел возможным говорить с Александром Дмитриевичем: «Я только-только из-за решетки, и, конечно, они следят… Меня нынче полицмейстер пытал – а нет ли, спрашивает, в городе одного приезжего господина, не здешнего, и нет ли, спрашивает, барышни, тоже приезжей?»
Тугой завязался узел. «Кажись, дело пропащее. Как бы и самим не пропасть…» Лизогубовское наследство партии не достанется, это уж было яснее ясного. Ну, а полицмейстер? Пугал ли Дриго, желая прогнать нас из Чернигова, чтоб не досаждали своей докукой или, боже спаси, не учинили чего? А может, и вправду жандармы «взяли след»? И если «взяли», то не по указке ли этого мерзавца? Тугой завязался узел. Но как было не повидать Дригу еще раз? Как было уехать, не исчерпав все до дна?..
Поднималась луна. На площади лежали черные тени пирамидальных тополей. Окна станции были освещены.
Дриго просил дожидаться его в станционном помещении. Но мы предпочли схорониться за тополями – пусть-ка первым явится Дриго.
Прошло около часа. Вдруг несколько дрожек катили к станции. Гуськом мелькнули темные фигуры. Послышалось звяканье сабель о чугунные ступени крыльца.
В ту ночь Александр Дмитриевич подрядил на постоялом дворе лихого возницу, и мы полетели что есть мочи к железной дороге. На душе было скверно. Мы молчали.
Наш кучер, молодой русый малый в пестрядинной рубахе и с шапкой за поясом, тоже молчал, по время от времени оборачивался с видом человека, которого так и подмывает не то разузнать о чем-то, не то рассказать что-то.
Наконец Александр Дмитриевич, выйдя из мрачной задумчивости, протянул ему папиросу, и кучер, будто дождавшись разрешения, тотчас заговорил.
– А вот, ваша милость, мужики-то у нас балабонят: распоряжение вышло… Не слыхали, часом?
– Какое распоряжение? – спросил Михайлов и усмехнулся: – Уж чего, чего, а распоряжений хватает.
– Э, не, ваша милость, это от самого царя распоряжение дадено. Запрет! Это чтоб у господ землю исполу нипочем не брать. Ни-ни!
– А как же?
– А так, – пуще оживился малый, польщенный заинтересованностью седока. – А так, ваша милость, чтоб нанимались поденно: мужикам – рупь, а бабам – полтина. И ни копейкой меньше, вот так.
– Гм… Оно будто и недурно?
– Известно! А еще балабонят: ездят-де переодетые начальники…
– А это зачем?
– То есть как «зачем»? А записывают, чтоб те, которые господа не сполняют, наказание понесли. Стро-о-огое наказание: не балуй! Сказано: сполнять, сполняй.
Не докурив папиросу, кучер бережно загасил ее и спрятал. И продолжал:
– Дак вот незадача какая, ваша милость. Мужики-то стали сполнять… Ну, стали, значит, исполу не брать. А коли меньше рубля, а бабе меньше полтины – от господских ворот поворот. И что думаешь? За это вот за самое да в кутузку, за клин, видишь, заклинивают. Даже одного солдата, – ерой, егория имеет, так нет, не посмотрели, что ерой – туда, за клин. Это ведь что? Непорядок?..
– Непорядок, – повторил Михайлов. – Какой уж порядок. А может, парень, и нету указа-то государя, а?
Кучер сплюнул, отер губы рукавом.
– Беспременно есть, да только баре не хотят, ну и супротив царя…
Мы подъехали к железной дороге. Светало, ложилась роса.
Михайлов расплатился. Кучер, довольный, пожелал нам счастливого пути и заговорщицки мигнул Александру Дмитриевичу.
– А ты, ваша милость, тоже из этих будешь.
– Из каких?
– А из тех, которые записывают. У меня глаз-то походный, вижу.
И он стал распрягать лошадь, совершенно убежденный в своей проницательности.
8
Есть малость, которая словно бы подтверждает мое возвращение в Петербург: остренький сладковатый душок светильного газа. Ощутила – значит, вернулась.
Летом семьдесят девятого возвращение не обрадовало. Ну, приехала и приехала. Вот Эртелев с угловой кондитерской, вот ворота, вечный Прокофьич, дворник, снимает картуз, а вот и флигель, щербатая штукатурка… Ну, приехала и приехала… Опять владела мной неудовлетворенность, какое-то нервическое состояние. Будто что-то потеряла, а что именно, не разберешь.
С Александром Дмитриевичем мы расстались на полпути и, как всегда на росстани, был у меня страх за него, и печаль, и смущение, а он поднимался, как отчаливал, легко, свободно, уже весь заряженный своим электричеством, своей жаждой деятельности, и уходил, уходил, уходил.
Осенью я поняла, что некоторое время был он в Липецке и Воронеже. Там свершилось важное, решающее, поворотное, давно назревавшее; уже там, можно сказать, приказала долго жить «Земля и воля», оттуда, собственно, и пошли своими дорогами те группы, что несколько позже стали называться «Народной волей» и «Черным переделом».
Писать об этих событиях не буду. По той причине, по какой не описывала раньше общий ход событий на театре военных действий. Это требует «бархатного воротника» – надо обретаться в генеральном штабе. А я, как говорила, всегда занимала место незначительное. К тому же липецкий и воронежский съезды, где столь явственно отлилась террорная доктрина, достаточно известны, хотя бы по газетным отчетам о судебных процессах. Моя доля – частности. И я пишу о них, сознавая, что и частности необходимы общей картине.
К таким частностям, правда дурным, но из песни слова не выкинешь, принадлежит история с Дригой. Она разъяснилась быстро благодаря нашему бесценному ангелу-хранителю Клеточникову, служившему в Третьем отделении…
Черниговской ночью на площади, укрывшись в тени тополей близ почтовой станции, мы с Александром Дмитриевичем услышали бряканье жандармских сабель. И все-таки я, в отличие от Александра Дмитриевича, медлила признать Дригу полным мерзавцем. Не то чтобы считала его полуподлецом, но не считала и совершенством подлости, если только позволительно так выразиться.
Он, может и не достиг бы «совершенства», если б не арест. Давно за ним присматривали; как человек близкий Лизогубу, он был на заметке; но, думаю, ему не угрожало ничто особенное – улики отсутствовала… Он уже и руки простер – лизогубовские тысячи плыли, а тут вдруг арест, небо с овчинку.
Не ведаю перипетий игры, которую и жандармы затеяли с Дригой, и Дриго завел с жандармами. Известно, однако, что он очутился между двух огней: кара судебная и кара революционная. И предложил жандармам, как впоследствии Рысаков: «Вы – купцы, я – товар». Его и в Петербург привозили, к начальству нашего ангела-хранителя. Дриго выдавал, называл имена. Его то выпускали на волю, то опять – на казенные харчи.
А почти два года спустя после черниговских встреч, когда жандармский подполковник и прокурор тщились доказать отставному поручику Поливанову, что он вовсе не поручик и не Поливанов, а давно разыскиваемый важный государственный преступник, два года спустя кряжистый Дриго возник в сумраке тюремного коридора, по которому нарочно в ту минуту вели Александра Дмитриевича…
Итак, я снова была в Петербурге. Гремели телеги и конки, стучали кровельщики и плотники, а Петербург казался притихшим. Очевидно, в столице такая прорва бездельников, что дачный разъезд «опустошает» город.
Я снова взялась за корректуры, предложенные Владимиром Рафаиловичем. Я нуждалась, конечно, в заработке, но еще в большей мере нуждалась в занятиях, чтобы убить время.
Двукратное путешествие в провинцию – в семьдесят восьмом и в семьдесят девятом – не принесло ничего, кроме горечи: мы не избавили каторжан от централок, мы не выручили лизогубовского наследства.
На литом закате была как вырезана аспидная виселица, назначенная Валериану Осинскому.
В августе кончилась жизнь Лизогуба. «Полоса ль, ты моя полосанька…» – он любил эту песню.
А я жила в Эртелевом переулке, я правила убористые гранки третьего тома зотовской «Истории всемирной литературы», получала гонорар в аккуратной конторе Вольфа и покупала марципаны в душистой кондитерской на углу Эртелева и Бассейной.
Мой брат обитал в другом мире. Капитан и кавалер Платон Илларионович Ардашев пошел в гору: назначенный состоять при генерале Рылееве, коменданте главной императорской квартиры, он оказался в приятной близи к сильным мира.
Государь и двор находились в Царском. Платон звал меня к себе. Я отговаривалась занятостью. Как человек «нигилистический», я не считала себя вправе принять приглашение. Не стану, однако, кривить душой, в моем нежелании крылось и другое, пусть микроскопическое, но оно было: я стеснялась. Стеснительность моя была свойства мелкого, дамского: нет подходящего платья, не знаю, как держаться… А любопытство щекотало, и я сердилась на себя.
Виделись мы нечасто. Наезжая из Царского, Платон восторженно живописал тамошнюю жизнь: верховые прогулки, когда он сопровождал кн. Долгорукую и кн. Мещерскую, катавшихся на одинаковых фаэтонах-виктория; какие-то юбилеи, торжественные крестины великокняжеского дитяти, полковые празднества преображенцев и большие ропшинские маневры. «Громкие» имена произносил Платон почтительно, но с оттенком светской осведомленности о чем-то таком, чего простые смертные не знают и знать не должны.
Это было смешно. И это было печально.
Я убеждалась, что человек, родной кровно, окончательно чужд мне духовно, и это было печально, мучительно, потому что я все равно его любила, догадываясь, что буду всегда любить, как бы ни завершилась его метаморфоза.
Когда мы встретились в Болгарии… О, тогда брат казался внутренне обновленным, иным, не прежним, не петербургским. Та ночь во дворе турецкой школы, где размещался наш госпиталь. Он был задумчив, сдержан, он говорил о товарищах, о солдатах, о страхе смерти и как они с его другом капитаном играли в «прятки». И во всем, что он говорил, и в том, как он говорил, был другой человек, не прежний забияка и собутыльник.
А теперь?
Я вглядывалась в красивое лицо с черными дугами бровей и темно-синими глазами, вглядывалась в этого статного человека в открытом офицерском сюртуке с манишкой – и думала: куда девался тот Платон, который стал мне очень дорог посреди чудовищного безобразия войны? Где тот Платон, который был на горе Св. Николая, – спокойный, дельный, скромный храбрец?
И все-таки сердце подсказывало: Платон пусть и не такой, каким был на театре военных действий, однако и не тот, каким был прапорщиком армейской артиллерии, гулякой и волокитой. Сердце подсказывало: не прежний, другой. Но какой?
Посреди своих восторгов, адресованных Царскому Селу, Платон, бывало, осечется, призадумается и осторожно-вопросительно взглянет на меня, точно в ожидании. А я долго не могла сообразить, чего он, собственно, хочет, и принималась трунить над мишурой дворцового времяпрепровождения. Он скучнел и тяготился, хотя и не защищал и не защищался.
Прозревать я начала, расслышав наконец лейтмотив его рассказов: Платон кружил на маленькой площадке, словно бы отграниченной двумя именами, именами Екатерины Долгорукой-Юрьевской и Марии Мещерской. Но с этой-то маленькой площадки открывалась обширная, как на императорском театре, сцена, где давали царскосельский «балет» со множеством актеров, и потому, должно быть, глаза мои разбегались, не задерживаясь на фигурах двух сестер, одна из которых и оказалась «музыкальной темой», владевшей моим братом.
Мне претят дворцовые тайны, претит писать о них, я б и читать не стала, попадись такой роман. Но, с одной стороны, тут опять-таки частности общей картины, как и истории с Дригой, а с другой, такая частность, которая, сколь ни странно, соприкоснулась с моей жизнью и внесла неожиданную ноту в наши отношения с Александром Дмитриевичем Михайловым.
Дворцовая тайна (о которой ниже), может, и была секретом полишинеля во дворцах, однако долгое время оставалась неведомой даже тем пронырливым петербуржцам, которые питают неодолимую страсть к таинственным обстоятельствам подобного разбора, Я этой страстью не одержима и никогда бы, наверное, ничего не узнала, если б не брат мой. Добавлю, я была бы счастлива остаться неосведомленной, то есть чтобы Платон ничего не знал, а попросту тянул бы где-нибудь батарейным командиром.
Постараюсь кратко, хотя это и затруднительно, ибо тут подобие цепочки, где звенышки сцеплены.
Когда Платон впервые посетил кн. Мещерскую, к ней на минуту приехала сестра вместе с мальчиком в форменном платьице казачьего офицера. Не стесняясь присутствием старших, мальчишка нецеремонно проказничал, а на замечание кн. Мещерской ответил бойко и твердо: «А я с вами, тетя, не говорю!»
Этот мальчик, первенец Юрьевской, был сыном государя. Связь царя с Юрьевской, тогда, повторяю, Долгорукой, началась давно, кажется с институтских балов в Смольном, и была, если верить Платону, обоюдной и подлинной страстью.
А почему бы и не верить? Правда, Александр II был почти на тридцать лет старше, «но поздний жар уж не остынет и с жизнью лишь его покинет». Правда, Юрьевская была почти на тридцать лет моложе, но отчего не вспомнить героиню «Полтавы»?
Нет охоты опровергать скептиков, буде они найдутся, всеми наблюдениями, сделанными Платоном не через бинокль и не в течение дня. Однако вот еще что. В самом начале романа с Юрьевской Александр Николаевич дал обет жениться на княжне, если он будет свободен. Лет пятнадцать спустя государыня преставилась, и он, едва сорокоуст отчитали, встал с Юрьевской пред аналоем. Но это позже.
А пока приходилось осторожничать. Впрочем, по мере угасания императрицы, император все смелее не щадил порфироносную супругу. Юрьевская оставила Английскую набережную и поселилась в Зимнем дворце. Ей отвели флигель в Царском и виллу в Ливадии. Желая любоваться Юрьевской и на придворных балах, царь назначил ее фрейлиной императрицы. Не сомневаюсь, все это было достаточно жестоким испытанием для больной государыни и, очевидно, приблизило ее смерть.
Сколь бы ни упрочивалось положение Юрьевской, а существовала оппозиция – и великосветская, и в Аничковом, где тогда жил наследник с цесаревной, множество недругов, державших сторону государыни, в не все они поступали лишь своекорыстно.
В этой «внутривидовой борьбе» Юрьевская тоже приискивала союзников. У нее был самый могущественный союзник изо всех мыслимых в империи, но как обойдешься без наперсников, наушников, компаньонки? Первой «богатырской заставой» встали, разумеется, ближайшие родственники: два брата Долгорукие и сестра кн. Мещерская. Потом – невестка Софья Шебеко. И сестра ее, незамужняя Варвара Шебеко, которую я имела честь узнать; она не разлучалась с Юрьевской, заменяя ей секретаря, ее детям – гувернантку. (Кстати: нынешний командир корпуса жандармов – из этих Шебеко.)
А союзники Юрьевской в свою очередь озаботились союзниками, создавая партию, до времени подпольную. Тут-то и подвернулся капитан Платон Ардашев. Не бог весть кто, без связей и веса? Да так. Э, а может, оно и к лучшему? Вообще-то человеческая благодарность – ладья утлая, быстро тонет. Однако и по-другому случается, в особенности вот с такими бедными рыцарями, боевыми офицерами.
Но в случае с Платоном был не один лишь голый практический расчет. Платон, красавец собой, сделал известное впечатление на вдову Мещерскую. И тогда, и теперь я ловлю в себе странное, смешанное чувство. Прежние, довоенные похождения брата не вызывали у меня ничего, кроме легкого раздражения и снисходительной иронии, а здесь явилось что-то схожее с ревностью, как бывает у матерей. Однако и другое: обида за Эммануила Николаевича Мещерского, погибшего на позиции, принявшего смерть грудью. Да, обида, хотя я не могла не понимать, что скорбь преходяща, что мы не в Индии и вдов не сжигают на погребальных кострах вместе с мужьями и что любовь самое свободное чувство, не поддающееся ничьей воле.
Но все дело в том, что любви к Платону у княгини Марии Мещерской я не предполагала. Увлечение – да, любовь – нет, решительно нет. Отчего? Литературные реминисценции? Моя «нигилистическая» закваска? И так и не так. Если бы тут не Платон, не мой брат, я бы допустила мысль о любви какой-то княгини к какому-то бедному офицеру. Но главное и не в этом, а в том, что я, увы, оказалась права…
Но Платон, Платон! То не была влюбленность, то была любовь, первая в жизни несчастного моего брата. Вот это-то я и не сразу сознала.
Я помню, как однажды он ворвался ко мне, на рассвете ворвался, поднял с постели; он не кричал, не бегал по комнате, а рухнул на стул, глядел незряче и все повертывал на пальце, будто ввинчивая, отцовский перстень. А я стояла перед ним в одной ночной рубахе и повторяла: «Что?.. Что?..»
Он сказал чужим, незнакомым, но ровным голосом: «К ней сватается Мирский. Святополк-Мирский, князь, старик, и она склонна…» У меня не отлегло от сердца, моя давешняя почти материнская ревность исчезла, его беда была моей бедой, и я тотчас возненавидела этого негодяя Мирского, мне совершенно неизвестного.
Брак с Мирским расстроился. Старик испросил разрешения другого старика – государя, а тот отказал; из каких державных соображений, не знаю, да и неинтересно. Но она была «склонна», и эта ее «склонность» постоянно мучила, терзала Платона.
Не так было бы больно и не так тяжело, если бы все последующее я могла объяснить лишь слепотой любящего человека, полетевшего словно с горы. И все-таки эта подлая лига вряд ли приманила бы брата, если бы он не увидел в ней средство настолько вырасти в глазах государя, чтобы заслужить согласие на брак с Мещерской…
Платону отвели казенное помещение в Мошковом переулке, за Мойкой и бесконечной стеной дворцовых конюшен. У подъезда торчал шишак жандарма: в этом доме жил прямой начальник Платона, генерал Рылеев, комендант императорской квартиры.
Брату было жаль покидать меня, да и жаль расставаться с нашим щербатым флигелем, памятным с детства, и в свободное от дежурств и Мещерской время он приходил в Эртелев. Он ничего не тронул в своих двух комнатах, даже оставил почти весь гардероб, в котором не было статского, зато хранилась старая походная форма, и Платон надевал ее, согласно церемониалу, на ежегодные торжественные обеды в Царском по случаю юбилея форсирования Дуная.
Не сентименты водят моей рукой, а воспоминание о том прозаическом часе, когда я, запасшись нафталином, затеяла борьбу с молью.
И вот в братнином шкапу, как раз рядом с его походным глухим артиллерийским сюртуком, я и обнаружила черное, из крепа одеяние с широкими, как у рясы, рукавами. Удивление мое перешло в изумление, когда я заметила на левом рукаве вышитую золотом звезду с лучами, а посреди крест, похожий на орденский и тоже вышитый золотом. Это не все. На груди означались крупные литеры – «Т. Ас. Л.» из серебряной канители.
Недоумевая, теряясь в догадках, я рассматривала нелепый хитон с кабалистическими знаками, да, так ни о чем и не догадавшись, повесила на место.