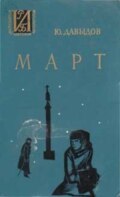Юрий Давыдов
Завещаю вам, братья
4
О, как я была уверена в своей сноровке и как я позорно потерялась…
Да, была уверена: ведь практическому исполнению обязанностей сестры милосердия я обучалась под зорким наблюдением деликатного и вместе неукоснительно строгого автора «Военной гигиены» доктора медицины Кедрина. (Кстати сказать, Дмитрий Васильевич, кажется, находился в родстве или свойстве с присяжным поверенным Кедриным, о котором я еще буду говорить, если закончу свои записки.)
Николаевский госпиталь на Слоновой улице, в ту пору окраинной, я не выбирала. Могли направить и в Морской госпиталь, и в Александровскую или Обуховскую больницы, а вот направили в Николаевский. Это случайное обстоятельство позволило мне сыграть небольшую роль в предприятии, которое наделало шуму летом семьдесят шестого года.
Дело в том, что напротив госпиталя, через улицу, за высоким забором пряталось узкое зданьице тюремной больницы для военных арестантов, заболевших во время следствия. В эту больницу и перевели из Петропавловской крепости известного я у нас и за границей князя П.А.Кропоткина.
Александр Дмитриевич, Марк Натансон и другие народники (в ходу еще не было «землеволец») решили устроить ему побег, спасти от каземата, куда Кропоткина непременно вернули бы после больницы.
В подготовке к побегу участвовали многие. Мне поручили «режим ворот»: я должна была определить, когда, в какие часы и по какой причине отворяются больничные ворота, ведущие на довольно широкий двор.
Палата Николаевского госпиталя, находившаяся на моем попечении в дни визитации доктора Кедрина, выходила окнами на эти самые ворота, да и весь двор был оттуда как на ладони. Наблюдательный пункт оказался и удобным и безопасным.
Из окон я нередко видела П.А.Кропоткина. Обряженный в долгополый халат зеленой фланели, он медленно прогуливался по двору.
Я не была посвящена в общий план, не знала и назначенного срока, зато оказалась очевидцем побега.
В последний день июня или в первый июльский я, как обычно, закончила в четыре часа и вышла из госпиталя. Машинально отметила, что ворота тюремной больницы распахнуты; с удивлением уловила бравурные звуки скрипки, доносившиеся из какого-то невзрачного домика; приметила и щегольские дрожки с неподвижным кучером и небрежно развалившимся господином в военной фуражке. В ту же минуту в глазах у меня ярко, почти ослепительно, вспыхнуло.
Никакой вспышки, конечно, не было, мне померещилось, но померещилось не беспричинно: наискось к воротам бежал Кропоткин, а за ним, почти настигая, мчался караульный с ружьем наперевес.
Когда и как беглец очутился в дрожках, я словно бы и не видела, хотя, несомненно, видела. Вороной рванулся, все исчезло… А вокруг уже толпились зеваки. Все без толку гомонили. Мое лицо, наверное, выдало бы меня, вздумай кто-нибудь обратить на меня внимание. Я пошла к вагону конки. К кондукторам подскочил бледный караульный офицер: «Выпрягай! Выпрягай!» Но кондукторы отказались дать ему лошадей…
Так вот, в питерском госпитале я усердно практиковала, но, когда на берегу Дуная, в Зимнице, у первого моего, так сказать, настоящего раненого внезапно открылось кровотечение, я позорно потерялась и бросилась, как дуреха, будить доктора. А доктором был у нас тогда Орест Эдуардович Веймар, тот самый господин в военной фуражке, который увез кн. Кропоткина на своей молниеносной пролетке.
Орест Эдуардович принадлежал к тем, о ком обычно не без зависти говорят: «Все при нем». Он был молод, собою хорош, богат. Не достигнув и тридцати, Веймар пользовался врачебной известностью, уважением коллег и серьезной практикой. Блестящий и остроумный, он дружил с литераторами. Наш кумир Глеб Иванович Успенский был ему близким приятелем. Жил Веймар нараспашку, весело, а бывало, отличался и совершенно мушкетерскими похождениями.
Короче, он слыл «славным малым». Но все дело-то в том, что Орест Эдуардович щедро тратил свою душу и свои средства не у Донона или Бореля. Достаточная иллюстрация – побег Кропоткина; впоследствии у Веймара скрывалась Верочка Засулич.
На театре военных действий Орест Эдуардович, не в пример многим знаменитостям, не отсиживался в главной квартире, а работал в самых опасных местах, на перевязочных пунктах. За переход Балкан зимою семьдесят седьмого года его наградили орденом, а потом он удостоился и высочайшего подарка – портрета императрицы, украшенного бриллиантами. Но все это не спасло, однако, Ореста Эдуардовича от жандармского возмездия – несколько лет назад Веймар погиб в Восточной Сибири…
В ту ночь, когда матросу Лопатину сделалось худо, а я потеряла голову, на выручку явился Орест Эдуардович. Вид у него был свежий, словно бы минуту назад он не покоился глубоким сном, а готовился к очередной визитации. Быстро и как бы даже мельком освидетельствовал раненого, быстро, изящно, словно играючи, наложил эсмарховский бинт. Переконфуженная и восхищенная, я проводила его. В дверях он блеснул улыбкой и пропел вполголоса: «Мадам, я вам сказать обязан, я не герой, я не герой…»
Дата форсирования Дуная хранилась в секрете, но военные секреты, даже и не сообразишь как, «выпархивают». Мы, конечно, понимали, что нам предстоит, однако до времени жили с бивачной беспечностью.
Но вот вечером тринадцатого июня после пробития зори все затихло будто бы по-иному, не так, как вчера или третьего дня. А в полночь словно бы сползла с места, темная, мохнатая, чудовищная сороконожка: полки двинулись безмолвно, кавалерия мягко пришлепывала по толстой пыли.
Донеслась пальба. Значит, турки заметили наших. Пальба нарастала. Меня окатило дрожью. Где-то мрачно прошумело, потом резко треснуло – разорвалась граната. Мы поспешно разошлись по госпитальным помещениям. Признаюсь, я приняла двойную дозу нервных капель.
Говорили, что форсирование обошлось без больших жертв. Может, и так, но меня поразил наплыв увечных: везут и везут, несут и несут. Совсем немного времени минет, я увижу тысячи несчастных, распростертых на голой земле, услышу стон, зубовный скрежет: «Сестри-и-ица…», увижу и услышу, но уже, слава богу, не испытаю того чувства, какое испытала в то утро.
Искромсанное, очень белое, неприятно белое человеческое тело, обожженная кожа, кровь с ее сырым, острым запахом – они будто багром вытягивали со дна души отвращение, какую-то безотчетную самозащиту, желание отвернуться, закрыть глаза, заткнуть уши. Правда, это отвратительное чувство было быстро побеждено суровой необходимостью немедленно исполнять свои обязанности.
Есть короткое слово: «надо». У нас оно обладает могуществом. Надо перейти балканские пропасти – перешли; надо замерзать на Шипке – замерзали; надо одолевать турку «заикающимися» ружьями и неразрывающимися снарядами – одолевали; надо терпеть голод – терпели…
Власть этого русского «надо» постоянно ощущалась во всем, что делал Александр Дмитриевич. В московском предместье поздней осенью семьдесят девятого года копали галерею, чтобы заложить под рельсами железной дороги мину и взорвать царский поезд. Михайлов работал в галерее. Позже он говорил: «Слыхали россказни о заживо погребенных? В подкопе я восчувствовал, что оно такое. Склизкая глиняная толща, и черви, и вода каплет, и эта физическая тяжесть. Все так и плющит: грудь, череп, руки и ноги. Но я сам себе твердил: раз надо, значит, надо».
В солдатском «надо» есть покорность; «надо» Михайлова заряжалось силой убеждения, как лейденская банка электричеством. Но при всем различии этих «надо» есть и коренное – дедовское, мужицкое. Кто-то из наших, не помню кто, говорил, что дед Александра Дмитриевича был отставным николаевским солдатом.
Я знала отца Михайлова. Мы познакомились в Петербурге после ареста Александра Дмитриевича. Отцу Михайлова было тогда лет семьдесят. Выходит, родился он в годину наполеонова нашествия. Следовательно, дед нашего Александра Дмитриевича никак не мог быть отставным николаевским солдатом, а был солдатом времен Суворова и Кутузова.
Между прочим, я не умею объяснить ошибку, допущенную самим Александром Дмитриевичем в автобиографической заметке. Я перечитала ее совсем недавно в одном нелегальном издании. Михайлов почему-то указывал, что отец его учился в Лесном институте.
В Петербурге, стараясь хоть немного отвлечь и рассеять удрученного горем старика, я завела разговор о давно минувшем. Отец Михайлова никогда в Лесном институте даже и не числился; он кончил «курс наук» в батальоне кантонистов и стал топографом.
А с материнской стороны, как мне рассказывала – тоже после ареста Александра Дмитриевича – его кузина, Катя Вербицкая, были запорожские удальцы полковники, храбрые и стойкие. «И от них, – уверяла Катя, – некоторым в нашей фамилии передается способность всецело поглощаться одной идеей…»
Какие бы госпитальные заботы ни одолевали, я мучилась ожиданием известий от Александра Дмитриевича. Я почему-то вбила себе в голову, что если не получу их на левом берегу Дуная, то уж на правом, за Дунаем, и вовсе не дождусь.
Я первая написала ему. Написала из Кишинева, потом из Бухареста, наконец, как ни крепилась, написала из Зимницы. Полевую почту все бранили. Она и вправду заслушивала нареканий, однако кое-как, через пень колоду, а пробиралась к нам. Да и я получила письма от Владимира Рафаиловича Зотова; в первое мгновение, получив эти дорогие мне письма, я испытала досаду и раздражение: я ждала других…
Нет, я и мысли не допускала, что с Александром Дмитриевичем стряслась какая-нибудь беда. Все беды, казалось мне, отныне приключаются у нас и с нами, на театре военных действий, а там, в мирной России, какие там беды.
Спустя годы, когда жизнь, в сущности, прожита, потому что ничего не ждешь и ни на что не надеешься, спустя годы можешь улыбнуться тогдашним терзаниям.
Да, своим девическим подозрениям, пусть и не лишенным оснований, можно улыбнуться сквозь дымку отошедшего времени. Но не улыбнешься, даже грустно не улыбнешься страданиям Ольги Натансон.
Как сейчас, вижу ее, смуглую, стройную, с голубыми глазами; она была, кажется, обрусевшей шведкой. Ей пришлось вынести больше того и сверх того, что «положено» женщине, однажды и навсегда ступившей на дорогу революции.
Еще совсем молоденькой она добровольно отправилась в ссылку за Марком Натансоном, талантливым апостолом народничества. Они обвенчались. У них было двое детишек. Судьбина нелегальной заставила Ольгу отправить малюток к родителям. Дети внезапно заболели и умерли почти одновременно. Ольга скрывала свое горе. Один бог знает, чего это ей стоило. Никогда не могла она избавиться от гнетущей мысли, что малютки выздоровели бы, будь материнский уход, материнская ласка.
Я встречала Ольгу на квартире Веры Фигнер, где бывали и Лизогуб, и Осинский, и Александр Дмитриевич; встречала в доме на Бассейной (рядом с домом Краевского, где тогда уже жил В.Р.Зотов, да и от нашей квартиры, в Эртелевом переулке, неподалеку). Там, на Бассейной, заседали «распорядители» общества «Земля и воля».
Марк Натансон по праву считается одним из учредителей общества, Ольгу следует признать сердцем «Земли и воли», суровым сердцем, недаром ее называли «наша генеральша».
Ольгу все чуть побаивались. А мы, лица женского пола, правду молвить, немножечко недолюбливали. Но, разумеется, и наши сердца облились кровью, когда Натансон попала в крепость. В каторгу она не ушла, а ушла из жизни, сожженная скоротечной чахоткой.
Ольга Александровна и Александр Дмитриевич были самыми яркими, даже самыми яростными сторонниками организации. Однако я с той прозорливостью, какая свойственна известному состоянию, угадала, что глубокая привязанность Александра Дмитриевича к Ольге Натансон отнюдь не исчерпывается совпадением практических партионных взглядов. И, угадав, ощутила «отклик» вдвойне мучительный, ибо я вдобавок казнилась своей ревностью, как позором, недостойным нигилистки.
Надо сказать, одновременно и без колебаний я уверовала в нравственную невозможность для Александра Дмитриевича и Ольги Натансон перейти, как говорится, границы. Она была предана мужу. Не так, как осуждавшаяся нами «рабыня» Татьяна Ларина, а с последней искренностью. А Михайлов чуть ли не с гимназической восторженностью относился к Марку Андреевичу.
Меня-то не обманывали насмешки Михайлова над всяческими «телячьими нежностями». Люди, мало знавшие Михайлова, даже подопревали его в грубоватом цинизме. Между тем, мальчишески боясь фальши, он как бы затенял собственное рыцарски-нежное отношение к товарищам.
Да, я верила в невозможность «перехода границ» для таких натур, как Александр Дмитриевич и Ольга Натансон, но все это, увы, не избавляло меня от позора, недостойного нигилистки.
В Зимнице я не дождалась от него никаких известий.
5
Война разгоралась пуще. Госпитальные будни (если позволительно назвать буднями сплошной кошмар) забирали все мои силы, физические и нравственные. Я думаю, лазарет близ позиций страшнее самих позиций.
Там, на позициях, в длинных шеренгах идущих в атаку, в этих хрупких линиях, то и дело как бы прогибающихся под напором естественного страха, там люди сцеплены друг с другом, там действует и пример командира, и пример товарища, и еще владеет мысль, что если всем погибать, стало быть, и тебе погибать, чем ты лучше других. Под огнем, в атаке орудует громадная коса общей смерти, и твое крохотное «я» поглощено артельной участью.
Не то в госпитале.
Раненый, увечный оказывается один на один со смертью. И она орудует в тишине, с глазу на глаз. И если под огнем либо вправду отупеешь и оглушен настолько, что пренебрегаешь смертью, либо истинно храбр, то есть умеешь скрыть страх перед смертью, то здесь, в лазарете, иное. Тут лишь ты да она, твоя смерть…
Помню один вечер; это уж после войны, в восьмидесятом году. Александр Дмитриевич жил в доме Фредерикса, на Лиговке. Мы встретились в сквере. Оба не спешили: нас нигде не ждали – случай редкий; решили попросту пофланировать, погулять, как фланируют и гуляют молодые люди, – это ведь потребность молодости.
Недавно отошел ладожский лед. Петербург, как всегда после ледохода, казался огромнее. Уже смеркалось, и сумерки тоже казались просторными и чистыми. Мы шагали молча. Было хорошо и немножко грустно. Такая легкая, как дымок, грусть; она по-моему, непременная спутница полноты счастья.
Потом разговорились. О чем-то, должно быть, незначащем, пустяковом; и опять-таки в самой этой пустяковости присутствовала именно полнота счастья.
Я хоть сейчас укажу тот угловой дом. В первом этаже, уже освещенном, мальчик плющил нос на оконном стекле, медленным пальцем выписывал кривули… Александр Дмитриевич вдруг заговорил о смерти. Не элегически, не мрачно, не философски. И не с беспечностью молодости. Нет, очень спокойно, очень деловито.
Он говорил о смерти тех, кто повторяет латинское: «Умрем за нашу царицу!» (в данном случае «царицей» не Наука, а Свобода). Он говорил, что и нам не избежать мучительной борьбы с могучим инстинктом самосохранения, но каждый из нас обязан подавить его на воле, чтобы в каземате, на эшафоте душа была готова и оставалась лишь телесная материальная борьба.
Я часто думаю об этом теперь, когда Александра Дмитриевича давно нет на земле, и мне кажется, что за его деловитым спокойствием стояло представление о смерти, как о таинстве. Ибо сказано: «Чтобы и жизнь открылась в смерти плоти…»
И все-таки в готовность «вкусить смерть» я не верю. На войне многие умирали стоически. Не равнодушно, не покорно, а именно стоически. Но душа, бедная сиротеющая душа, билась и трепетала во мгле тоски, для которой в языке нашем нет слова страшнее и нет слова проще, чем тоска смертная. В госпитальных бараках последняя материальная, телесная борьба была обыденностью, но к темному, сухому шелесту этой тоски привыкнуть было невозможно.
А к остальному, пожалуй, привыкаешь.
И к тому, что раненые – прикрытые шинелишками, коржавыми от пота и крови, они кажутся обрубками – разражаются воплями, проклятьями, грубой площадной бранью. И к гнойным поражениям, над которыми даже задубелый военный лекарь не в силах склониться без крепкой сигары в зубах, а ты не разогнешься, пока не очистишь, не промоешь, не перевяжешь. И к каторге операционной, когда доктор, без мундира, с закатанными рукавами рубахи, в жилете и кожаном переднике, залитом кровью, как на бойне, выходит, шатаясь и садится, уронив голову и руки, а ты продолжаешь сновать, как челнок, кипятить инструмент, таскать тазы с теплой водой, сносить в сторонку ампутированные руки и ноги.
Захоронение ампутированных конечностей поднимает жуткое, знобящее чувство. Могильная яма, священник в облачении, с паникадилом. В яму вываливают из рогожек почерневшее, скрюченное, крошечное. Человек-то еще жив, a «часть» его уже погребают…
6
Александр II посещал госпитали. Он утешал раненых, крестил, целовал. Лицо его собиралось тяжелыми, нездоровыми складками. Я видела не раз, как он плакал, склонившись над увечным солдатиком. В те минуты он не был самодержцем, властелином, императором, владыкой, а был старым человеком, потрясенным видом страдающего.
Это свое впечатление я высказала впоследствии Александру Дмитриевичу. Глаза Михайлова заблестели мрачно. Он процедил: «Эх, и крепко сидят барские сантименты!»
Но дело не в сентиментальности. Для солдат посещение царя всегда было моментом навечно памятным. Говорю как о непреложном факте, хотя очень хотелось бы подметить иное, если и не совсем противоположное, то пусть бы и в малой дозе иное. Но тут наблюдалась патриархальная, детская, наивная доверчивость и надежды, какие еще долго не избыть нашему народу. Солдат мог ругательски ругать (и ругал) и своего полкового командира, и генералов, кого угодно, включая великих князей, да только не государя. В солдатском представлении царь не был причастен к несчастьям, которые выпали на солдатскую долю. Напротив, царь был единственной надежей. Недосягаемой, почти неземной, но единственной.
Я не разделяла до конца убеждения товарищей в том, что физическое устранение царя непременно вызовет всероссийский бунт, инсуррекцию, революцию, ибо была свидетельницей преданности и восторга, неизменно возникавших при появлении государя не только в госпитальном бараке, но где-нибудь на дороге, перед каким-нибудь полком, идущим на смерть и сознающим, что его ведут на смерть.
Вот от этого-то и нельзя было отмахиваться. А вовсе не «барские сантименты»…
При госпитальных визитах государя сопровождали свитские. Кстати сказать, среди прочих генерал-адъютантов находился и Мезенцев, шеф жандармов. В его бледной физиономии не было ничего инквизиторского, а была, скорее, некая двойственность – и бонвиван и святоша. Удивительно, меньше года минуло, и я, прогуливаясь по Питеру с Александром Дмитриевичем или с Кравчинским, «показывала» им Мезенцева, удостоверяла его личность, чтобы не вышло ошибки…
Однажды в царской свите оказался некий полковник-артиллерист с флигель-адъютантским жгутом на мундире. Обладатель бородки а́ la Наполеон III, он, казалось, выпорхнул из гостиной. Кто-то, обращаясь к нему, произнес: «Послушайте, князь», и у меня но осталось никаких сомнений – столичная штучка.
Государь, задержавшись у койки одного из раненых, подозвал полковника:
– Мещерский, а этот не твой ли?
Его сиятельство поспешно выдвинулся вперед b, несмотря yа тесноту и неудобство, очутился слева от государя, ибо ведь это так принято – держаться по левую руку от важной особы.
– Да, ваше величество, – ответил князь.
Государь кивнул и двинулся дальше, увлекая за собою свитских, а князь сел в ногах раненого, о чем-то расспрашивая и машинально оправляя одеяло.
Потом Мещерский подошел ко мне и с поклоном представился. Я тоже назвалась.
– Позвольте, позвольте… Вы – Ардашева? По батюшке – Илларионовна?
Я подтвердила.
– В таком случае, – с живостью воскликнул князь, – я имею удовольствие служить с вашим родственником!
В тот же день я обняла брата Платона. Разминулись и в Кишиневе, и в Зимнице, разминулись бы и теперь, когда бы не Эммануил Николаевич Мещерский.
Он приезжал по приказанию государя всего на несколько часов. Не знаю, зачем и для чего, вполне вероятно, по некоторым, так сказать, семейным делам: Мещерский приходился государю словно бы родственником, будучи женат на сестре той особы, которая… Впрочем, об этом в своем месте.
Итак, Эммануил Николаевич свел меня с братом Платоном. Платон служил под командой князя Мещерского в первой батарее 14-й артиллерийской бригады. Бригада входила в состав 14-й пехотной дивизии, начальником которой был поныне здравствующий генерал Драгомиров.
Брат внешне не переменился, не исхудал, не осунулся, разве что загорел. Увы, я должна попрекнуть природу в несправедливости; во всяком случае, со мною она обошлась несправедливо, потому что я вышла в нашего покойного батюшку, а брат удался в нашу мамулю. Ну и получился братец на славу, а сестричка так себе.
Платон был красавец. Он это знал и этим пользовался, легко покоряя сердца слабого пола. Он был на три года старше меня; девочкой я любовалась братом, но потом меня стали раздражать его манеры записного сердцееда.
Не изменившись внешне, брат как будто несколько изменился внутренне. Начать с того, что он, хотя и не без гордости, объявил о своем производстве в штабс-капитаны и о Станиславе с мечами и бантом, но упоминание было «скользящим», а гордость приглушенной, словно бы мерцало Платону: «А-а, полноте, все это, в сущности, пустяки…» В этой задумчивой сдержанности было нечто повое, непетербургское.
Дивизия Драгомирова первой форсировала Дунай и первой оказалась лицом к лицу с неприятелем.
– Понимаешь ли, – рассказывал Платон, – под ложечкой-то екало. И во всем теле предательская слабость. Похоже… Нет, ей-богу, будто кадетом накануне экзамена, не смейся. А потом нарастает напряжение, тяжелое и вместе колючее – окаянное ожидание кусочка свинца, предназначенного тебе, именно тебе, а не кому-то другому. А вперемежку с этим – злоба. Эдакое непостижимое чувство озлобления… – он помолчал, покурил и продолжил: – А знаешь ли, у меня с приятелем… это еще в первые дни было… у меня со штабс-капитаном Пестовым завязались однажды «кошки-мышки». Стреляли с левой стороны, так и пришлепывало, так и жужжало. И вот, представь, каждый из нас норовил прикрыться другим, то есть идти с правой стороны. Мы оба, черт возьми, отлично понимаем и стыдимся, а вот никак, хоть убей, не умеем совладать с собою. Когда стрельба кончилась, мы переглянулись да и покатились со смеху… Вот тут и пойми! Но возникает и другое, совсем другое. Я вот о чем. Ты знаешь, у меня в приятелях никогда недостатка не было, я приятелей люблю… Но тут другое, тут, видишь ли, теплое, прямо-таки родственное, всех-то тебе жаль, все тебе близки. Славно, Аня… И не только к своему брату офицеру, нет, и к святой серой скотинке. 3аметь, «святой» – это наш Драгомиров добавил. Признаюсь, бываю крут, вгорячах чего не случится. А ведь прощают. Солдат, он одного не прощает – мелочного педантства. А нас-то, вот таких, как я, все больше на мелочное педантство натаскивали…
Зашла речь о князе Мещерском. Я сказала, что первое мое впечатление было далеко не в пользу его сиятельства.
Платон рассмеялся.
– В бригаде тоже… Ты заметила, как он изъясняется по-русски? Точно бы и не русский. Ему по-французски легче… Назначили его недавно, в прошлом ноябре. Все на него косились, прозвали: «Пале-рояль». А теперь только и слышишь: «О, настоящий русский человек!» Нам каждому поверкой – дело, огонь, позиция. А там-то Эммануил Николаевич не просто храбр, а поразительно храбр. Будто и не гремит, не жужжит вокруг. Да и не это главное… Храбрецов не занимать стать. Нет, он молодцом дело делает, наперед обо всем заботится, обо всем успеет подумать. Духами прыскается? Э, возьми Скобелева, на что генерал, на что воин, а франт из франтов: непременно это он в белом как снег мундире, рыжые бакенбарды волосок к волоску, будто сейчас от куафера…
Оказывается, Мещерский находился в службе с восемнадцати лет. (Когда я его увидела, ему было далеко за тридцать, а может, и все сорок.) Начал он унтером на Кавказе, и там, в кавказских битвах, удостоился самой подлинной из наград – знака Военного ордена. Потом долгие годы был военным агентом в разных миссиях и посольствах. Платон говорил, что Мещерский – обладатель иностранных крестов, а в годину франко-прусской войны получил золотую саблю за храбрость.
Знакомство с Э.Н.Мещерским принадлежит к самым светлым моим воспоминаниям о войне, бедной светлыми воспоминаниями. А знакомство наше не оборвалось первой встречей, потому что я добилась перевода в лазарет, приданный драгомировской дивизии.
Кто был на войне, помнит разительное несходство госпиталей Красного Креста и лазаретов военного ведомства. Они отличались почти так же, как великолепные, но немногочисленные санитарные поезда, снаряженные императрицей или на пожертвования городов, отличались от многочисленных «телячьих» и прочих эшелонов для эвакуации. (Эти слова – «телячий» вагон, «эвакуация», «эшелон» – я впервые услышала на войне.)
Попасть в госпиталь Красного Креста было мечтою всех раненых, мечтою, увы, редко осуществляющейся, ибо при всем старании Красный Крест не мог принять громадного числа «желающих». Госпитали Красного Креста были богаче, лучше, чище лазаретов военного ведомства. Последние вечно мыкались, как приживалки. Да еще и подвергались беспардонному интендантскому грабежу. (От него, впрочем, не было спасу и боевым действующим частям.) Я бы упекла в нерчинские рудники того мудреца, который отпускал для дивизионного лазарета четыре фунта гигроскопической ваты на четыре месяца! Вы только вдумайтесь: по фунтику на месяц! Да одна настоящая перевязка возьмет куда больше. Или вдруг раскошелятся и пришлют несколько пудов рыбьего жира вместо… хлороформа. Или гуляет дизентерия, а ты не допросишься опиума. И так далее и тому подобное. Конечно, Красный Крест, как мог и где мог, выручал казенные лазареты, да ведь на всех не напасешься. Короче, в казенных лазаретах такая была мука и для больных и для медиков, что слов не хватает.