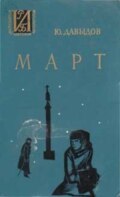Юрий Давыдов
Завещаю вам, братья
5
Вы слышали – он писал: «До нашей смерти включительно»? Это там, где завещает издать документы. «До объявления о нашей смерти включительно». И прибавил: март восемьдесят второго года.
Потому в марте, что в марте приговор обретал законную силу. Какая оглушительная точность – день в день! Всем нам, смертным, неизбежна смерть, истина банальнейшая. Но если – вообразите! – если б открылся каждому из нас именно свой час? Земля бы, наверное, разверзлась. И она сама и все на ней сущее, все, все стоит на спасительной тайне – тайне своего смертного часа. И никто его не ведает, никто и никогда, кроме приговоренного людьми. Кроме человека, приговоренного человеками…
В тетрадях Анны Илларионны страница есть – помните, как ей Михайлов говорил: надо готовиться к гибели, к смерти… Да-а, это уж точно бы монахи одного ордена. Встречаясь, они вопрошали друг друга: «Брат, готов ли ты?»
И вот приспел срок: виселица накренилась над Александром Дмитричем. Приговор объявили и тотчас всех со Шпалерной в казематы Петропавловской: ждите!
Такое ожидание изобразишь ли? Сыщешь ли слова? Может, одной лишь музыке дано. Не словам, не краскам – музыке… Я к тому, что именно музыкальные созвучия, именно они-то и возникли в душе осужденного. До последнею из последних: пределов напряглась душа и отозвалась созвучьями, наполнилась ими… Я не фантазирую, не выдумываю. Не посмел бы. Нет, это он сам, сам Александр Дмитрич об этом написал.
А вечером, в канун казни, снизошел на него покой. И он… он уснул. Понимаете ли, уснул! Спал непроницаемо, без сновидений. Это что ж такое, а? А это, думаю, последняя защита матери-природы, последнее, чем она может одарить свое обреченное дитя.
Теперь вот письмо, слушайте… (Не спрашивайте, пожалуйста, откуда оно взялось, – сторонний человек замешан.) Слушайте.
«Часов в 8 утра, в пятницу, я встал в таком же настроении, как и лег. Обыкновенный дневной порядок одиночного заключения ничем не нарушался. Не изменялось и мое душевное состояние… Часов в 11 1/2 утра вошел в мою камеру комендант в сопровождении какого-то гражданского чиновника и смотрителя. Я в это время ходил и, увидев гостей, раскланялся с ними. Между комендантом и мной произошел следующий разговор: «Вам известен приговор?» – «Да, известен». – «Какой?» – «По отношению ко мне?.. Я приговорен к смерти». – «Ну, так государь высочайшим своим милосердием даровал вам жизнь… Молитесь богу!!» Последние слова произнесены были с большим чувством. Затем комендант быстро ушел, и я остался сам с собою. Первыми мыслями были: рад я или не рад этому важному известию, и если не рад, то почему? Говоря чистую правду, я принял эту, благую для каждого человека, весть совершенно равнодушно. Это произошло потому, что мне не сообщили об участи близких товарищей, а я все время находился в таком настроении, что мог искренне порадоваться только сохранению их жизни. Меня лично смерть не пугала, а иногда даже просто манила, но представление о смерти их действовало тяжело, подавляюще… Своя смерть может приносить удовлетворение, но смерть друга, товарища, просто человека и даже врага вселяет только тяжелые чувства. И меня с первых минут начала мучить неизвестность: что сталось с товарищами?..»
Да, вот оно как обернулось: смерть мгновенную заменили медленной – вечным заточением. Всем смертникам заменили, кроме Суханова… Я уж говорил, Николай Евгеньич встал у столба. И никто не промахнулся, никто не дрогнул…
В день приговора, в феврале еще, Александр Дмитрич написал: виселица много лучше казематного прозябания. Сраженный гладиатор приветствовал смерть мгновенную. И Анна Илларионна, и я, мы оба прочли эти слова. Но в нашем сознании отозвались они не точным их смыслом, а… Ну, положим так: ежели безнадежно больной человек стонет: «Ах, скорее бы конец…» Разве вы ему не поверите? Разумеется, поверите. Но в глубине души будет сознание некоторой риторичности этого призыва. Так приблизительно мы и прочли фразу о предпочтительности эшафота перед медленным убийством в равелине.
А эшафот сменили вечным заточением. Аннушка плакала почти счастливыми слезами. То было воскрешение надежды. Вот так и в первое время его ареста уверовала в чудо возвращения.
Я говорил, как она лихорадочно замышляла несбыточное. Эти ее «воздухоплавательные» проекты; нападения, вызволения, побеги. И обращение за помощью к Николаю Евгеньичу Суханову. Она, кажется, даже и с молодежью в Кронштадте толковала.
Но теперь… О-о, никогда не думал, не предполагал, не догадывался: такое молчаливое, такое фанатичное упорство. И два года ни звука. Два года! Лишь весной восемьдесят четвертого, вон когда открылась. А, собственно, почему молчала? Объяснить не могла, не умела. Так, что-то суеверное, как сглазу боятся. Странно и даже, признаюсь, мне обидно.
А как началось? Она, голубушка, про Ганецкого от капитана Коха услышала… Забыли? Ну, экая память у вас. Приятель покойного Платона Ардашева. Да-да, начальник государева конвоя. Кох был с царем и в момент покушения, все время был – и не задело. А что после с этим Кохом сталось, знать не знаю. Служит ли где, отставной ли, не знаю, да это и десятое. Вы слушайте…
Тут главное вот что: комендант крепости Ганецкий. Она его на войне видела, гренадерами командовал. Он-то ее, конечно, и не примечал. Велика ли птица – сестра милосердия?
Анна Илларионна в своей тетради верно заметила: геройские генералы, вроде Гурко или Тотлебена, после войны славу свою кровью запятнали. Ну, а Ганецкий не дотянул до громадных постов, ему Петропавловская досталась.
Представьте, докторша моя облачается в платье сестры милосердия, надевает знак отличия Красного Креста, жалованный покойной государыней… Да, а письмо с нею. Письмо Александру Дмитричу, в незапечатанном конверте. Разумеется, совершенно частное.
Понимаете цель-то какая? О, ничего от прежнего «воздухоплавания»! Маленький, тоненький лучик туда, в равелин, во тьму. Маленький лучик, и только. Вообразите, однако, что это значило бы для осужденного навечно. Ведь едва приговор вступил в законную силу – ни единого свидания, ни единой весточки. Ни туда, ни оттуда. Глухо. Недвижно. Мир божий вымер.
Нет. Ни вам, ни мне каждой кровинкой этого не прочувствовать… Как бы ни изображали смерть, не веришь. Я даже графу Лёв Николаичу Толстому и то не верю. А вечное заточение не смерть ли?
Уж на дворе весну натягивало; робко, но подступала. И думалось моей Аннушке: первая его весна в равелине, как тяжко. Воробушек чирикнет, запах капели, скоро и Вербное… Старый человек, генералу за семьдесят, он поймет, он все поймет.
На крепостном дворе попался ей старичок военный: шинель потертая, фуражечка выцветшая. Идет, пришаркивает, палкой стучит. Так он ей мил сделался, до жалости мил, она ему улыбнулась и поклон головой отдала. Да и тотчас как осенило: Ганецкий! А тот и ей – честь, а тот и ей – улыбку…
Про Ивана Степаныча Ганецкого я во всю жизнь ни словечка теплого не словил. А он, пожалуйста, выслушал Анну Илларионну. Уверяет, что генерал был тронут… Но письмо-то не взял! Обе руки вместе с палкой за спину спрятал. «Увольте, не могу-с! Я лично двум государям известен, третьему на краю своей могилы присягнул. Не могу-с. Скорблю, весьма скорблю, но увольте».
Анна Илларионна еще что-то, не помнит что, а Ганецкий снял фуражку, перекрестился на собор, да в зашаркал, зашаркал к крыльцу комендантского дома.
Ох, как она заспешила вон, скорее туда, к Иоанновским воротам. Чуть не бежала, будто рушился на нее собор со своим трубачом-архангелом… Выбежала из ворот, силы оставили. Прислонилась к перилам мостика, задыхается, а мыслей, говорит, никаких, только в висках стук: «Скорблю… скорблю…»
Полнейшая неудача. Фиаско. Смирись, не так ли?
Нет! Она ищет! Вот женщина… Если хотите, в революции почти все женщины – перовские. Более или менее. Впрочем, лучше так: Софьи они были – мудростью, своей женской сердечной мудростью умудренные.
Ведь почему Анна-то Илларионна ищет? Нарушает первую заповедь его «Завещания»: не расходуйте силы для нас. Но ищет… Хорошо, есть и оправдание – его последняя заповедь: заботьтесь о нравственной удовлетворенности каждого из вас. Но, уверяю, ей нужды нет в оправданиях. Потому что она…
Вот слушайте: «Пусть останется у меня тончайшая нить, связанная с жизнью, и я готов на самые ужасные ежедневные муки». И поясняет: жизнь – это когда всем своим существом борешься за идею. Так Александр Дмитрич в письме, которое в день приговора писал.
А для Анны Илларионны одно звучит: тончайшая нить нужна… Пояснение-то она, может, и слышит, наверняка слышит. Но как? А так, как я вам пример приводил: стон безнадежно больного человека: «Ах, скорее бы конец…» В равелине, в каземате, заживо погребенному нужна, необходима нить, связующая с жизнью, вообще с жизнью, – вот это она знает, это она постоянно слышит и больше ничего не знает и не слышит.
Здесь стержень: ищет! Не может и не хочет согласиться, чтоб хоть одна-разъединственная душа не блеснула середь петропавловских служителей. Крепость – юдоль слез. Как же именно там не блеснуть хотя бы одной-разъединственной душе.
«Наивность»? Гм… Согласен. А только скажу вам, что такими наивностями мир цветет. Что он без них? Пуст и сир. Как искусство без неточностей.
А теперь, сокращая, спрошу: нашла ли она?
Не буду томить. Если б нашла, тогда бы, пожалуй, Густав Эмар, какое-нибудь из этаких сочинений. А если б не нашла, то, стало быть, ваша взяла – наивность. Ну, а жизнь распорядилась по-своему.
Сдается, неподходящее имя у него было – Вакх. Батюшка – и вдруг: Вакх… Так вот, видите ли, отец Вакх священничал в крепости, в Петропавловском соборе. А прежде – в армии, на театре военных действий. Нет, на войне она его не встречала. А похожих встречала. Он из тех, говорила Анна Илларионна, которые на позициях один сухарь с солдатом ели, а в госпиталях, помогая сестрам, не гнушались черной работы.
Помню, Александр Дмитрич тронул такой сюжет – нравственность революционера. Сюжет у него капитальный. Потому-то, доказывал, и требуется безупречная нравственность, что об идее по ее проповеднику судят. Верно замечено, очень верно.
Не посетуйте на сближение, но разве о религии подчас не судят по тому, каков поп в приходе? А нравственность попов известна. Одно утешение: не только в России… Отцу Вакху не дано было спасти репутацию поповства. Слишком оно, прости господи, вакхическое. Но сам-то отец Вакх был добрым, умным, симпатичным. И «добрый», и «умный», в «симпатичный» – определения Анны Илларионны.
Не вообразите, однако, что сделал он то, чего не сделал генерал Ганецкий. Между нами, не думаю, чтобы отец Вакх решился, предложи ему такое Анна Илларионна.
Единственным вот что было…
С Петербургской стороны много прихожан, а моя Аннушка хоть и не той стороны, стала ходить к службе в крепостной собор. И, как музыку сфер, слышала иногда в исповедальне шепот отца Вакха: «Жив он, жив…» Безумно редко этот благовест, потому что и священника допускали в равелин не чаще солнечного луча.
А в марте… Александр Дмитрич загодя указывал – в марте умру… И совпало, и точно в марте, но уже в восемьдесят четвертом в канун Благовещенья. Отец Вакх говорил: ровно в полдень умер, это уж, значит, куранты играли не «Коль славен», а по-полуденному и полуночному – «Боже царя».
Воспаление обоих легких и никакой медицинской помощи.
Алексеевский равелин убил Александра Дмитрича.
Узников равелина тайком хоронят. Могила неизвестна, вроде и нет вовсе. Но, думаю, зарыли ночью, крадучись, знаете где? Преображенское, слыхали? Да-да, на дальней окраине, у станции железной дороги. Кладбище новое, недавнее, кресты редки. В простонародье зовут – «Безродное»; так и говорят: «К безродным свезли».
Я листок сберегаю, рукою Анны Илларионы: «Земного его жития было двадцать девять лет, два месяца и один день».
А моя рука не поднимается приписать на том листке: «Ее земного жития было…» Нет, не поднимается, все мне мерещится: вернется, приедет, совсем недалеко этот Гдовский уезд.
Я нынче с того и начал: поступила она так, как и суждено было поступить Анне Илларионне Ардашевой.
Вы знаете, есть явление, которое медики определяют «характерным для России», – холерная эпидемия. Я мальчишкой был, но помню, хорошо помню страшный тридцать первый год. Теперь не то, конечно, но тоже радость невелика.
И еще недавно, в девяносто втором, явилась. Здесь, в Петербурге, единицы мерли, а в губернии – сотни. И Аннушка отправилась в глушь. Вот так она и на театр военных действий ринулась. В глушь, в гдовские деревни. Там и сразило. А было ей от роду тридцать семь…
* * *
Странное у меня сейчас ощущение: будто все ушли, вещи вынесли, пусто, а я остался. Рассказ мой окончен. Многое упустил, многое лишь бегло означил, да я вам заранее и честно – власть воспоминаний.
Но литератор, какое бы малое место он ни занимал, должен умереть с пером в руке. И я думаю записать все. Однако успею ли, вот вопрос.
Это почти телесное желание – успеть, ах, если бы успеть! Ведь лучшее – то, что ты еще только задумал. И представьте, здесь сходство меж нами, колодниками чернильницы, и такими, как Александр Дмитрич, мучениками долга.
Но есть и несходство. Пишущий, если не зелен, сознает – достигнешь, совершишь и, увы, не скажешь, как господь бог: «Это хорошо». А вот они, такие, как Михайлов, убеждены: за поворотом дороги – вселенская гармония. И они счастливее нас.
Рассказ кончен, а книга не начата. Слабею и гасну, однако возьмусь. И все, что вы вечерами слышали, положу на бумагу – для типографского станка. Авось дозволят.