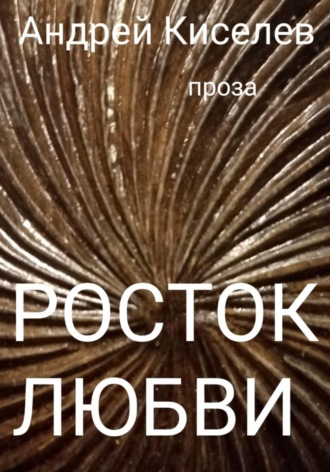
Андрей Егорович Киселев
Росток любви
– Какую дорогу? – не понял я.
– По которой почту шлют!
«Малявами» оказались микро-письма от Ирмы. Где проходила почтовая дорога, меня уже не интересовало, так как я судорожно принялся читать: «Уважаемые бродяги! Здравствуйте! У вас находится мой муж Семёнов Филат. Он очень болен. Помогите ему ради Бога. С уважением Ирма», «Уважаемые бродяги, сообщите мне сразу, как только Филат придёт в себя. Доброго вам здоровья. Ирма», « С наступающим Новым годом, дорогие бродяги. Помогите моему мужу с одеждой, к нам ничего с воли не пропускают. С уважением. Ирма», « Уважаемые бродяги, добрый день. Прошу очень, переложите на нижний ярус шконки моего Филата. Он после двух сложных ранений и семи операций. Ирма».
Было ещё много подобных писем. Моя душа рыдала, читая это.
Мою душу прервал вопрос «спортсмена»:
– Дорога идёт, отправлять будешь?
– Почта? Есть на чём написать и ручка?
– На, пиши. Закрути и подпиши «Ирме», её уже тут все знают.
« С Новым годом, любимая! Я с тобой. Всё будет хорошо!
Люблю и скучаю. Целую. Филат» – написал я, закрутил, подписал и передал на «дорогу».
В праздничные новогодние дни письма шли часто, видимо из-за отсутствия бдительности сотрудников СИЗО. Я быстро вжился в ситуацию и писал «малявы» жене при каждом открытии «дороги».
Наконец-то, пришёл ответ: « С Новым годом, милый! Я всегда с тобой! Я счастлива, что тебе лучше! Люблю и целую! Твоя Ирма», а потом ещё и ещё. Началась переписка в оба конца.
Всё время я размышлял о том, как выйти из создавшейся ситуации, как бороться за своё счастье. Многое вспомнил из того, что со мной происходило, воссоздавая картину инкриминируемого мне действия, узнал от соседей об уголовном кодексе, получил хорошие советы.
Меня почему-то уважали в камере, называемой «больничкой», подкармливали домашней едой, присланной собратьям по несчастью с воли, так что баланду есть не приходилось. Мне ничего не шло в виде передач. Видимо, бесконечный праздник от Нового до старого Нового года вносил в расписание СИЗО свои бюрократические препоны, что я не вписывался в нормы его существования или же мешала следовательская рука.
Моё здоровье поправлялось, хотя не мог съесть в день больше одного обеда годовалого младенца. За время болезни желудок превратился в ссохшийся кусок кожи и ощущался лишним в организме. Мне часто предлагали покурить травки, выпить «чифирчику», но я вежливо отказывался. Блаженствуя во время прогулок в обрешёченном дворике, вдыхая свежий зимний воздух, выполняя помимо ходьбы физические упражнения на установленных там снарядах, я всячески старался почерпнуть как можно больше энергии от неба, являющегося единственным островом природы среди стен в этом каменном мешке. Меня не мучили больше боли, мысли свежели, движения становились твёрдыми, появлялась реакция. Мне не назначали никакого лечения, лишь сокамерники делились витаминами. Я находился на самоизлечении, благо из своего спортивного прошлого было что вспомнить полезного.
У меня интересовались моим «погонялом», но в его отсутствии нарекли «худым», отмечая тем самым мой воробьиный вес, ведь я весил ровно столько, сколько во мне было костей, кожи и мозга. Руки просвечивались без подставленной лампы при естественном освещении. Зато мне было очень легко передвигаться уже через пять дней после пробуждения.
Как-то меня угостили большим жёлтым яблоком. Раскусив его, я обнаружил в центре проросшее каким-то образом зёрнышко. Меня посетила идея посадить его в почву и попробовать вырастить. Найдя подходящую баночку, сделав грунт из чайной заварки и сигаретного пепла, я нежно воткнул в него зерно и поставил на подоконник, где через мелкие отверстия проступал солнечный свет. Пока шла вся эта процедура, сокамерники участливо подбадривали и помогали советами, каждый заглянул в баночку, порекомендовал способ полива. Не проходило дня, чтобы зернышко оставалось без внимания. Всех интересовало его будущее. Даже курения в камере стало меньше, а если кто-то курил, то отгонял дым подальше от зарождающейся яблони. Лишь «спортсмен» сказал однажды:
– В этой тюрьме только человек может выжить.
– В добрых руках всё живёт, – заметил сосед с верхнего яруса.
– Это твои что ли руки добрые? Вот у Худого что надо, видишь? Тебе с людьми бы так, как он с яблоней обращается.
– А что я? Ну, украл немного, а он-то убил.
– Если б не он, там бы всех убили наверняка.
– А ты откуда знаешь, я же ничего не рассказывал? – удивился я информированности «спортсмена».
– Все давно в курсе, Худой. И про следака твоего, что под олигархом ходит. Ты смотри, что у того, кого ты грохнул, родственники есть, а у них кровная месть. Понимаешь? Его убьёшь, защищаясь, а потом от братьёв ещё отстреливаться надо.
– Да, жизнь прекрасна! Только прелести лезут со всех сторон.
– Здесь они тебя вряд ли достанут!
– А что у родственников в голове опилки? Им не понятно, что за дело я убил?
– Худой, ты чудак! Да им по барабану!
– Спасибо, успокоил.
– Да ты не печалься. Может, всё образуется. Яблоня растёт?
– Листок один прорезался.
– Думаешь, вырастет?
– Надеюсь.
***
До меня не было никакого дела из сотрудников СИЗО и медперсонала до тех пор, пока не закончилось всероссийское празднование. Четырнадцатого января меня вызвали к врачу, который сказал, что мне нечего лечить и отправил к медсестре на прививку. Та попыталась сделать мне укол в предплечье, но шприц выпал из её трясущихся рук. Она подула на него, подняв с пола, на котором валялись два наркомана, пытающиеся найти друг у друга вены где-то на ногах вместо «несмогающей» с похмелья медсестры, и вонзила в моё плечо, после чего потёрла место укола сухой ваткой.
Я был переведён в другую камеру без возможности попрощаться с друзьями по «больничке», так как вещей у меня не было вообще, кроме надетых подарков с чужого плеча, даже не дали забрать свою яблоньку, распустившую второй листок.
Странно, но в СИЗО никто не называет номер камеры нормальным числом, а цифрами. Например, пятидесятую называют пять-ноль, восемьдесят первую – восемь-один.
Встретили меня на новом месте без объятий, но, узнав статью уголовного Кодекса, применяемую ко мне, предложили располагаться поближе к окну, где ютилась «элита» камеры. В этот же день ночью были проведены «маски-шоу», поэтому отдохнуть кому-либо по-человечески не удалось. Так называют рейды ОМОНа, который периодически развлекается, вытаскивая в коридор посидельцев, лупцуя их резиновыми дубинками, выкидывая из камер всё лишнее из вещей. Если есть более одной футболки, то это уже нарушение режима, и вторая летит прочь. Вдруг кто-то глянет на омоновца не так, как бы хотелось, сразу же в ход идёт дубинка. Мой чахлый вид, видимо, сработал, как защитный механизм, и из жалости меня не били с обычной яростью, а лишь слегка задели по ногам под колени. Такая вот тюремная романтика!
На следующий день я встретился с Волковым, вызвавшим меня в комнату для допросов. Лоснящийся, с грубыми чертами лица, с хитрыми глазками, в которых зрачки напоминали доллары, следователь молча сунул мне пачку отпечатанной бумаги.
– Подписывай! – своеобразно поздоровался он.
– А что тут? – захотел узнать я.
– Твоё признание и описание преступления.
– Может, я почитаю?
– Здесь что? Читальный зал? Я пять дней печатал! Может, тебе дать недельку на чтение?
– Пока не прочитаю, подписывать ничего не собираюсь.
– Понятно! Тогда вызываю понятых, чтобы зафиксировать отказ от подписи, – сказал Волков, нажав на кнопку вызова караула.
В комнату сразу за грохотом открываемого замка заглянул конвоир:
– Увести? – спросил он Волкова.
– Нет! Подписывать не хочет, понятым будешь! Зови ещё одного.
– Да я с ним один справлюсь, – хлопая себе по ладони дубинкой, расплылся в зловещей улыбке сержант.
– Да ладно, что время тратить, давай второго, распишитесь, а потом ваше дело, – успокоил его следователь.
Тот вызвал ещё одного сержанта. Оба расписались под текстом, от руки приписанным Волковым, что я отказался от подписи.
– Вот урод, из-за него теперь по судам ходить придётся! – посетовал новенький конвоир, водя дубинкой у моего лица.
– Ничего, походишь, дело громкое, может, по телевизору покажут. Уводите, – похлопал его по плечу следователь, уходя с бумагами.
– Да я телезвездой вроде не записывался! – ударив мне по плечу, заорал сержант.
– Дурак! Сдохнет ведь дохляк, – остановил его второй.
Я чувствовал себя спасённым. Мне и раньше доводилось слышать о всевозможном произволе в органах законопорядка, но испытывать это на себе было совсем не интересно. Человеку достаточно лишь попасть в жернова государственной машины, чтобы перестать быть им. Кто-то в результате ломается, кто-то становится инвалидом, но уже совсем ненадолго, кто-то «стукачом», кто-то осваивается, имея вес, и отдыхает. Я не знал, что меня ждало впереди, но мне казалось, что инвалидность уже приобретена, к побоям я стал относиться равнодушно, ожидая их в любое время с любой стороны. Когда-то услышанная пословица: « Видишь, идёт мент? Гадость жди в любой момент!» приобрела особый смысл.
Хотя от уголовного мира я тоже не ждал поблажек, но проблем не возникало. Меня кормили, делясь присланной с воли едой, не заставляли делать чего-то отвратительного. Всё было вполне пристойно. Телевизор, чтение книг и газет, совместное разгадывание сканвордов, прогулки в дворике, разговоры, времяпрепровождение, ожидание – вот и все дела. Даже мата не было слышно. Кое-кто баловался «чифирчиком», но без лишней рекламы.
Меня угнетала неопределённость из-за отсутствия связи с внешним миром и писем от Ирмы и родственников. Некоторые «коллеги» по несчастью имели сотовые телефоны, но не в нашей камере. Хотя «дорога» работала, мне ничего не приходило от моей жёнушки. Лишь единственный ответ я получил на своё письмо, и то от её сокамерников, что её увели, и она не возвращалась.
***
Однажды, ближе к концу зимы, меня повели куда-то конвоиры. Здесь никто не докладывает направление вызова, бывает лишь два варианта: с вещами или без. Я шёл и думал: «Что в этот раз?», прислушиваясь к командам сержанта: «Стоять, лицом к стене! Вперёд! Руки за спину! Стоять!»
Наконец, я вошёл в кабинет начальника СИЗО. Конвоир доложил о моей доставке, и мне приказали сесть на стул подальше от стола, за которым сидел полковник, указавший жестом сержанту выйти.
– Семёнов Филат Ильич? – спросил он.
– Да, – лаконично ответил я, осматривая кабинет, заставленный поделками, изготовленными явно не в фабричных условиях.
– Статья?
– Я не знаю, – ответил я, удивляясь мягкому тону вопросов.
– Как это? – удивился полковник.
– Наверное, убийство.
– Тебе обвинение предъявляли?
Зазвонил телефон, перебивший вопрос, и начальник поднял трубку.
– Хорошо, пусть заходят.
В кабинет вошёл папа, держа в руке огромную сумку, за ним Георгий Николаевич и Иван Матвеевич. Мы обнялись с отцом так, как никогда в жизни. В моих и его глазах стояли слёзы. Отец выглядел постаревшим и похудевшим, лицо было бледным и усталым. Тесть тоже обнялся со мной. В его облике так же произошли перемены не в лучшую сторону. Генерал смотрелся бодро в своём парадном костюме, но не весело. Ощущалось его неуютное состояние, какое возникает у просителей чего-то неудобного для вопроса.
Поочерёдно пожав руку полковнику, они присели к его столу.
– Вы пока пообщайтесь с парнем, а я тут кое-что организую, – сказал начальник и пошёл к холодильнику, стоявшему в углу кабинета.
– Давай помогу! – поддержал его обрадованный генерал.
– Вот посуда в шкафу, ставь на стол, – указал на стеклянные полки полковник.
Началась мужская сервировка стола на военный манер.
– Ну, как ты? – спросил отец.
– Нормально! Как мама, где Ирма, как остальные?
– Да мы-то в порядке. Ирма в гинекологии на поддержании. Её ведь выпустили. Знаешь?
– Ничего не знаю, записки шли и резко прекратились. Что с ней?
– Всё будет хорошо. Стресс ведь ничего хорошего не означает. Ребёнок тоже понервничал, но теперь успокоился. Лишь бы здоровым родился после всех передряг.
– Слава Богу! – успокоился и я.
– Вот тебе тут куча писем от дочери, – достал из пиджака Георгий Николаевич стопку конвертов.
– Она не злится на меня? – дрожащим голосом спросил я.
– Нет! Что ты? Ждёт тебя. На вот, поговори с ней, – достав сотовый телефон из другого кармана, нажав на кнопки, сказал он и протянул мне трубку.
– Алло! Папа? – услышал я её голос.
– Ирма, это я, любимая!
– Филат! Привет родной, ты как? Теперь всё будет хорошо. Я так соскучилась! Быстрее б этот кошмар кончился! Мы всё сделаем, чтобы он кончился! Ты выдержи только!
– Ирма, я всё выдержу, не волнуйся! Ты успокойся, не нервничай.
– Я крепкая, лишь бы малыш не волновался!
– Я тебя люблю и скучаю страшно!
– Филатушка, любимый, мы скоро увидимся, обязательно! Я как из больницы выпишусь, сразу к тебе приеду, если тебя не выпустят. Потерпи немного. У меня здесь Инга с Прохором, трубку рвут. Целую тебя, родной! Позже созвонимся. Передаю трубку.
– Филат! Здорово, братишка! – услышал я голос Прохора.
– Привет, родимый! Как дела?
– У нас всё хорошо! Лишь бы у тебя всё в порядке было, нам тут на воле проблемы, как сахар по сравнению с твоими. Давай, держись! Инга тоже хочет сказать!
– Филат, привет! Рада тебя слышать! Как твои раны?
– Привет, Инга! Слава Богу!
– Ну, смотри не подкачай!
– Постараюсь!
– Мы с тобой! До встречи!
– Пока!
Послышались короткие гудки, и соединение отключилось. Я чувствовал себя счастливым и ошарашенным одновременно. То сплошной кошмар, то сразу масса положительных эмоций.
Пока я был увлечён телефонной свободой, четверо подогретых коньяком мужчин вели приятную тихую беседу. Это был разговор друзей:
– Жора, ты пойми, я пока мне не придёт бумажка, остаюсь кем? – пытался доказать полковник что-то.
– Говорю тебе, завтра лично привезу следователя с бумагой, – втолковывал Георгий Николаевич.
– А я лично выпущу твоего зятя отсюда, как только ты их привезёшь.
– Ну, пойми! Решение принято, осталась мелкая формальность. Завтра всё будет, слово офицера! Илья, доставай! – приказал он моему отцу, показывая на сумку.
Папа вынул очередную бутылку коньяка и поставил на стол.
– И пить я больше не буду! – сопротивлялся начальник.
– Слушай меня, товарищ полковник! – вмешался генерал, китель которого красочно валялся на стуле. – У тебя сауна работает?
– Конечно!
– Веди нас в сауну, будем до завтра париться! Парня отмоем, накормим, переоденем, чтобы человеком вышел отсюда, когда привезут отказ от возбуждения.
– Помыть могу, а отпустить просто так не имею права.
– Вот и ладно. По рукам! Будем парить парня до утра! – успокоился генерал.
– Филат, что застыл? – обратился ко мне раскрасневшийся тесть, словно он только что из парилки вышел.
– А что делать? – ответил я вопросом.
– Иди сюда, садись с нами, выпей коньяка, курочки поешь. Совсем ведь отощал на баланде.
– Я баланду не ел, её тут никто почти не ест, – сказал я, усаживаясь за стол к протянутому мне стакану коньяка.
Отец, глядя на мою худобу, едва сдерживал слёзы и молчал. Если б он открыл стиснутый рот, желваки которого торчали побелевшей от напряжения кожи, то не смог бы справиться с собой и удержаться, чтоб не зареветь.
– Всё хорошо, пап! – поддержал я его, чокаясь с ним коньяком, положив руку ему на плечо.
Он прижался головой к моей груди и заплакал навзрыд. Его не стали успокаивать, чтобы выплакался. Мужчины молча выпили, лишь произнёс одну фразу Георгий Николаевич:
– Чтобы сдохли эти Волковы и Бородовские в своём Лондоне!
Посидели немного молча. Я ел курицу, хотя желудок сопротивлялся с непривычки от такого количества, но не останавливался, словно растягивая запах ещё неполученной свободы. Мне не верилось, что завтра покину эти стены. Ещё не будучи на свободе, я чувствовал себя в этом тюремном кабинете вновь родившимся на нормальный свет или на трамплине перед прыжком в него.
Отец успокоился, вытер платком лицо и тихо сказал начальнику:
– Слушай, друг, надо. Понимаешь?
– Понимаю…
***
Есть ситуации и поступки, которые возможны только в России. Мы зачастую ругаем свою родину за отсутствие должной культуры, за грязь и бездорожье, за темноту в мозге и на улицах, за преступный бюрократизм, за отсутствие уважения к человеку со стороны государства, но только здесь есть безудержное душевное тепло, вносящее в жизнь неподдающееся разуму широкое безволие и силу одновременно.
Иногда это сродни преступлению, так как законы не руководят душой, а чаще противоречат ей. Ну, кто в России ездит по избитой трассе с лишь разрешённой скоростью девяносто километров в час? Только иностранцы, да и то в первые дни. Не родился ещё такой россиянин, чтобы на «Мерседесе» или «Жигулях» соблюдал правила дорожного движения, как и большинство непонятно для кого сотворённых законов. Как может депутат выжить на свою официальную зарплату, имея столько недвижимости и другого имущества, записанного на моментально разбогатевших родственников? Ему её на алкоголь не хватит! Как может чиновник прожить на свой оклад без подработки таксистом или без афёр и взяток? Хотя сколько им ни дай, всё равно не хватит. На Кавказе или на Севере вообще неписанные законы сильнее конституции. Вся страна живёт не по принятому депутатами документу, хотя все пытаются прикрыться официальными бумагами, а по купюрной значимости, желательно в иностранной валюте, по должности, которая поближе к казне и народной власти над народом. Естественно, что не для народа.
Это всё наша душа. Только её фибры делают нашу жизнь такой, какая она есть. Кто этого не понимает, тот нервничает, впадает в депрессию, а кто понял, тот любит свою родину и восторгается ею такой, какая она есть. Но при всём сказанном выше, наша душа способна на такие бескорыстные поступки, что иностранцы впадают в шок от них и слагают легенды. Весь мир шепчется про Россию в барах и офисах, ругая нас и восторгаясь нами. Проклиная русских, тянутся вести с ними бизнес. Ругая русское швыряние деньгами, молятся, чтобы к ним на курорты приезжало больше россиян. Просто их сервис рассчитан на скучных, скованных культурой людей, спрятавших свою душу с детства за деньги, в отличие от широких душой выходцев из России.
Вот эта душа и вытащила меня из СИЗО самым неожиданным образом.
Сначала была обещанная сауна, где все ухаживали за мной, подкармливая, подпаивая, паря дубовым веником в ароматах парилки, намыливая меня мочалкой в душе, шутя со мной в бассейне о моей худобе, дабы всячески подбодрить. Отец, глядя на мои шрамы, лишь покачивал головой.
– Ты знаешь, почему нас так долго не было? – задал он мне долгожданный вопрос, когда шутки неожиданно кончились.
– Почему?
– Мы, как и ты, время проводили за решёткой. Тебя и Ирму сюда, а нас возле больницы всех разом забрали. Я с Викой, Прохор с Ингой в Подольске сначала. Потом меня и маму этапировали в Томск.
– Зачем? – перебил я вопросом.
– Откуда я знаю! Это Волков трудился изо всех сил, чтобы жути нагнать.
– Даже маму?
– А что ему стоит-то, он не таких людей гноил.
– А Прохор с Ингой?
– Их в Тулу загнал. А Жору и Катю аж в Йошкар-Олу.
– Да ты что? Их же с генералом на пенсию отправили?
– Волков такого наворотил! Генерал под домашним арестом сидел.
К разговору присоединился Георгий Николаевич:
– Хорошо, что в Йошкар-Оле начальник нормальный оказался!
– Нам в Томске тоже повезло, дома всегда проще! – продолжил отец.
– Как же вас всех освободили-то?
– Чиновник один есть в Кремле, которому ты информацию о Бородовском давал, начал тебя искать, вот и нашёл. Хотя тебя в последнюю очередь отыскали. Прятал данные бывший начальник СИЗО. Этот-то полковник только вчера назначен, вот мы и пришли за тобой, да и должность ему обмыть, как старому приятелю.
– А вас раньше нашли?
– Волков узнал, что тебя ищут, время тянул, но на нас оформил освобождение. А тебя скрывал до последнего. Сам-то он уже в Лондоне, во многом замешан, сейчас его делишки в генпрокуратуре, хотя, говорят, что собирается вернуться, но на другую работу. Вроде как ускользнул от правосудия. Я и Вика на самолёте вчера прилетели. Тут документы за сегодня не успели нам подготовить по твоему освобождению, поэтому-то спорим с полковником. Он про всё в курсе, а без бумажки никак.
– Может, не стоит подводить его, вдруг волокита начнётся? Снимут ведь, дело заведут.
– Спрятать тебя здесь предыдущий смог, а этот волокиты боится! Он уже дал согласие, что-нибудь придумает. Ты, давай, ещё поешь хорошенько, может, хоть на полкилограмма поправишься.
– Желудок усох.
– Растягивай! Надо.
– Надо, надо! – поддержал отца Георгий Николаевич.
– И коньячку обязательно! – вставил начальник, наливая из бутылки по стаканам.
– Абсолютно верно, без коньяка желудок не растянуть! – добавил Иван Матвеевич генеральским тоном.
Выпили. Подумали обо всём, что на душе, в тишине. Лишь слышалось лёгкое журчание проточной воды в бассейне, напомнившее мне ручей в лесу возле Селюково и Ирму.
Сердце сжалось от желания скорее увидеть её, обнять, поцеловать, любить, как только это возможно. Слишком тяжкое было это расставание с ней. Хотелось скорее уйти из сауны на свободу и мчаться куда угодно, в больницу, на край света, чтобы вновь быть со своей любимой.
Я ничего не мог сказать этим родным и близким людям, сидящим рядом со мной за столом в банных простынях, о своих чувствах. Я не мог торопить полковника выпустить меня из этой ненавистной зловонной тюрьмы, но душа рвалась выпрыгнуть наружу.
– Полковник, пора действовать, – поддержал мои мысли Иван Матвеевич.
– Да, да, – подтвердил, словно чувствуя, что творится в моей душе, тесть.
– Пока за моё новое назначение не выпьем, никаких действий не будет! – твёрдо заверил начальник и добавил в стаканы коньяка.
– Дорогой друг! Как хорошо, что ты есть, и как хорошо видеть тебя в новой должности! – произнёс торжественно отец.
– Поддерживаем и одобряем! – вставил Георгий Николаевич.
– Дай, Бог, твоей жене хорошего любовника! – добавил, хихикая, генерал.
– Ну, вы дали, мужики! Дай, Бог, чтобы после вас, меня самого не посадили! – добавил изумлённый последним пожеланием полковник.
– Дай, Бог! – это было хором.
***
Моя новая одежда висела на мне, словно на колу. Я не был пьян, но плохо помню, как оказался на свободе. Сначала была заминка с паспортами, оставленными у дежурного, верхней одеждой, повешенной в приёмной, с выговором команд у полковника, с выбором автомобиля для выезда. Мне паспорт вообще не дали. Затем мы долго впихивались в чёрную «Волгу» начальника, где я оказался на коленях у отца. Наконец, перед нами раскрылись тяжёлые ворота, и мы оказались на спокойной ночной улице с одноимённым СИЗО названием. Повернули в сторону центра, где в моей квартире нас ждали мама, Инга, Прохор.
– А можно в больницу заехать? – скромно спросил я сидящего на переднем сидении полковника.
– Ночь давно на дворе, ты что?
– Она всё равно ждёт, хотя бы в окошке увидеть, – сказал я более твёрдо.
– Ой, ё! Вот повязали-то! – и обратился к водителю: – Давай через магазины сначала, а то без цветов и провизии не хорошо.
И жене цветы покупать придётся, а то домой не впустит и заведёт хорошего любовника.
– Коньячком заодно затаримся, а с любовниками разберёмся в одну секунду, – добавил генерал.
– Хорошая мысль насчёт коньячка! – подтвердил Георгий Николаевич.
До больницы я оставался всё время в машине. Генерал и полковник закупали продукты с цветами и передавали всё это ко мне, чтобы держал. Так весь в букетах, наслаждаясь благоуханием, я, сидя на отцовских коленях, ехал по сверкающей огнями витрин и реклам зимней Москве. Любуясь её красотой, чувствуя воздух свободы, окрылённый скорой встречей с Ирмой, подкоркой мозга я ощущал парадокс происходящего. Казалось невозможным всё окружающее,
когда ещё недавно был только ад. Казалось невероятным, что граница между тем, где был и куда попал, заключалась в чьём-то желании, интересах. Достаточно было просто поставить подпись, чтобы меня и близких посадить за решётку, просто набрать телефонный номер, чтобы поиздеваться.
– Как страшно устроен мир! – вырвалось у меня вслух.
– Смотри, красота-то какая! – не согласился со мной полковник.
– Здесь красиво, зато там было не очень.
– Это чтобы не хотелось туда.
– Хорошим людям туда и так не хочется.
– Богу виднее.
***
Больница давно спала. Лишь в нескольких окнах горел свет, в том числе ультрафиолет. Ясно было, что там операционные. В приёмный покой ушёл генерал уговаривать своей формой на встречу. Наконец, он вышел вновь на улицу и махнул рукой, чтобы мы следовали за ним. Нас нарядили в халаты и бахилы и завели в ординаторскую на втором этаже, постоянно шикая нам, чтобы соблюдали тишину.
Меня трясло от волнения. Ноги подгибались в коленях, стоять было сложно, но я не мог сидя ждать свою Ирму. Она тихонько вошла и, лишь прикрыв дверь, сразу кинулась ко мне, уже рванувшемуся навстречу в распростёртые объятья. У меня кружилась голова от счастья, я забыл про всех присутствующих. Сейчас в моей жизни существовала только она и тот клубочек под её сердцем, который прижался с нею вместе ко мне. Лицо Ирмы было в слезах, и я не знаю точно, в чьих больше, моих или её. Счастье переполняло нас. Я целовал солёные губы и щёки, живот, спрятанный под ситцевой сорочкой, и не мог остановиться. Мы сели, обнимаясь, на мягкий диван, разглядывая друг друга. Она была прекрасна.
– Я так тебя ждала!
– А я, я не знаю даже, мне было так плохо без тебя! Любимая моя, я так соскучился!
– Так, голуби наши, дайте вмешаться! – перебил нашу идиллию полковник.
Мы повернули головы в его сторону.
– Я хочу Вам, Ирма, срочно вручить эти цветы и витаминчики с углеводами, чтобы откланяться и не мешать своим присутствием. Вы тут одни поворкуйте, а мы в машине подождём, – сказал полковник, передавая цветы и пакеты с продуктами.
– Да, дочь, не будем вам мешать, у нас там коньячок киснет.
Завтра мы тебя навестим. Но вы смотрите недолго, – целуя её щёку с причмокиванием, попрощался Георгий Николаевич.
– До встречи, Ирма, – тоже поцеловал, но скромно, мой папа.
– Спасибо вам всем, а за Филата особенно.
– Не за что, дочка, – ответил генерал, удаляясь.
Как только дверь закрылась за ними, мы вновь страстно прижались друг к другу. Я совсем забыл про свою худобу и слабость после болезни, всё ещё не прошедшую. Мной владела страстная любовь, утроенная долгожданной встречей после столь многочисленных страданий.
Но нам не дали долго пообщаться. Зашла врач и строгим голосом предупредила:
– У вас полминуты на всё, мне нужна моя ординаторская. Вы, молодой человек, можете прийти завтра с шестнадцати часов.
– Хорошо, спасибо, – это было всё, что я мог ей ответить.
Расставаться не хотелось ни на секунду. Только встретились и надо вновь ждать. Ведь это так долго – до шестнадцати часов.
Ирма проводила меня до выхода из приёмного покоя. Мы не могли покинуть объятья друг друга.
– Как ребёнок? Что за проблемы?
– Да ничего страшного. Сейчас ему вообще замечательно! С тобой побыл и успокоился. Были боли, а сейчас нет, словно рукой сняло, волшебник ты мой!
– Что тебе привезти завтра?
– У меня столько всего, что на месяц хватит. Ты отъедайся там, а то сил не будет ребёнка носить.
– Отъемся, и тебя носить хватит сил.
– Сейчас нас прогонят, поэтому не будем доводить их до грубости. Ты езжай, я завтра тебя буду ждать.
– Хорошо, родная, – с прискорбием ответил я и начал целовать на прощание.
– Так, это что тут творится? – послышался голос дежурной.
Пришлось с позором убежать, успев сказать:
– Пока, любимая!
– Пока!
***
Дома хорошо. Белая чистая простынь и душистая подушка на родной кровати – это что-то фантастическое. Мама навела здесь настоящий уют. Проснувшись, я не хотел вставать, хотя на часах было уже двенадцать. Мне было приятно сознавать, что, когда выпишут Ирму, мы будем вместе валяться в этой кровати, нам будет очень хорошо.
– Так, Филат, мы тебя долго будем ждать? Вставай!
– Привет, мам!
– Привет, сыночек! Ну, правда, все собрались, ждут. Приедешь из больницы и спи, сколько заблагорассудится.
– Всё, иду!
– Ну, хорошо, ждём.
Проведя санитарно-гигиенический моцион, я вошёл в зал,
где накрытый стол выглядел одиноким в связи с отсутствием за ним едоков.
– Добрый день всем!
– Привет, – послышалось со всех сторон.
– Поздравляю тебя, сын, вот твой паспорт, вот справка об освобождении!
– Пап, откуда? Ты хоть спал? – удивился я оперативности отца.
– Я, Филат, кую, пока горячо, так что теперь ты свободный человек!
– Как это? Кто свободный? Он женатый! – возмутилась с весёлой интонацией Екатерина Ивановна.
Всем стало смешно. Как ни странно, но они и ночью все меня встретили с шутками, словно у них за плечами не было тех же проблем, что у меня, за исключением ранений. Мама, конечно, сначала всплакнула на моём плече, но быстро взяла себя в руки. Хорошее настроение окружающих напитало меня энергией. Глядя на себя в зеркало во время бритья, я удивился посвежевшему собственному лицу. Неужели это возможно за одну ночь? Вот ведь что делает встреча с любимой, с родственниками в хорошем настроении, плюс свобода и сауна.
– Да уж! Это сладкое слово свобода! – подчеркнула Инга.
– Филат, а ты помнишь, когда твой день рождения? – спросил, на что-то ещё намекая, Прохор.
– Конечно, помню… Ой, сегодня!
– А какой лучший подарок ты бы хотел?
– Пока Ирма в больнице, дня рождения не будет! – заявил я.
– А вот и главный подарок! Мы его специально для тебя выписали! – объявил Прохор.
Из соседней комнаты вышла Ирма, красивая и счастливая.
Это был идеальный подарок! Мои абсолютно сумасшедшие родственники уговорили врача отпустить её, поскольку ей стало лучше, причём без обещания вернуть. Они специально не будили меня до тех пор, пока не привезли Ирму из больницы, прятали, пока я был в ванной и когда вошёл в зал, привели её в роскошный вид, а теперь представили во всей красе, от которой у меня не было слов.
– А вы говорите всякие глупости! Свободный! Как бы не так! Вот как целуются и обнимаются! – не могла угомониться Екатерина Ивановна, глядя на нас.
– Все к столу, пожалуйста! Милости просим! – пригласила мама.
– Вика, а можно я с Ильёй рядышком сяду? Ты не против? – поинтересовалась кокетливо моя тёща.
– Вместо меня?
– Да нет ведь, ты с одной стороны, а я с другой. Он так красиво ухаживает, не то, что мой Жорка.
– Ой, Господи, садись ради Бога, – решила вопрос мама.
– Спасибо, Вика. Я когда замуж выходила, была уверена в офицерской обходительности, но потом убедилась, что после третьей рюмки, начинается всё наоборот, и приходится за ним ухаживать.
– Ты не ухаживаешь, а не даёшь выпить – это разные понятия! – возразил Георгий Николаевич, уже наполнивший рюмки.






