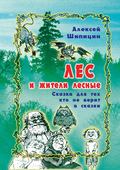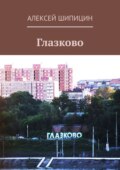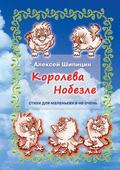Алексей Шипицин
Девушка 2.0
– А травки все сама собираешь?
– Сама, сама. Кто же еще? Пока шевелюсь малмало, хожу в поле, в лес. Но недалече, за реку уж никак. Умру я скоро, Аленушка. И все, что знаю, уйдет со мной. Пожила бы с полгодика-годик, все тебе расскажу, все покажу. Все будешь знать. В книжках ваших да в энтерете этого нет. Мне бабка моя все передала, а ей – ее. А мне – некому…
Алена подумала: «В самом деле, пожить бы тут с полгодика. Хорошо бы. Просто пожить. Воду носить, блины печь, бабушку слушать».
А вслух сказала:
– Баба, мне бы с дядей Мишей встретиться.
– С отцом Михаилом?
– С ним.
– Какой он тебе дядя Миша.
– С отцом Михаилом встретиться, – согласно повторила Алена.
– Исповедаться, поди, хочешь?
– Ну, не совсем, – замялась она. – Поговорить.
– А что, завтра и пойдем. Я свечки поставлю, а ты и поговоришь. Я тоже давненько не была в храме.
– Где не была? В храме?
– Ну да, в храме, – гордо повторила баба Гутя. – Храм теперича у нас. Повезло нам с батюшкой. Богоугодный человек. Его стараниями храм и восстановили. Ты еще не видела?
Алена вспомнила, как, выйдя из автобуса на центральной площади – хотя какая это площадь, так, пятачок у магазина, – она заметила сверкающий купол на горке, на месте старого клуба, куда еще девчонками она бегали на дискотеки.
– Вот завтра и увидишь…
Дядя Миша был для нее таким же родным человеком здесь, как и баба Гутя. Кем именно он ей приходился по родственным линиям, она точно и не могла сказать. Но очень много времени тогда, в детстве, проводила в его семье.
Она, конечно, знала, что он священник, но тогда смутно представляла, что это такое. Думала, что это обычная работа, как, например, тракторист или почтальон. И ее очень удивляло, что совершенно посторонние люди обращались к нему «отец Михаил» и «батюшка».
«Какой же он ей отец, какой батюшка, он ей во внуки годится!»
Только много позже она поняла, что священник – это не работа, это служение, образ жизни. А по тому, с каким уважением односельчане обращались к дяде Мише, она чувствовала, что он полностью соответствует своему призванию…
Его жена, матушка Наталья, любила и привечала Алену. У них было две дочери, ровесницы Алены, одна, Ксения, чуть постарше, другая, Оля, – чуть помладше. И каждое лето Алена почти все время проводила с сестренками. Она их и считала своими сестрами. Потому-то и часто бывала в их доме. Стала как будто третьей дочкой, третьей сестрой. Она учила девчонок сначала танцам, потом карате, а они ее – ловить рыбу, доить корову, разжигать костер. Это было счастливое время.
Иногда они втроем уплывали на пароме за реку, на другой берег – по ягоду да по грибы. Там были бесподобные нетронутые земляничные поляны и огромное количество маслят. Подальше шла черника-голубица, еще дальше – брусника. Но туда они не заходили. Ей очень нравилось плавать на пароме. Сначала наблюдать, как на него загружаются машины. В первую очередь – тяжелые тягачи-лесовозы. Мужики-водители суетятся, бегают вокруг, матерятся. Руководят. Лесовоз тихо-тихо, медленно-медленно заползает на паром, мужики подкладывают доски под колеса, и вот… Паром проседает, ухает, накреняется.
«Тонем?!» Нет, выравнивается, только по реке пошла волна.
Дед Егор, паромщик, иногда, когда паром легкий был, без машин, давал им подержать весло – огромное, тяжеленное, неповоротливое. И они, пыхтя и обливаясь потом, изо всех сил держали это непослушное гигантское весло, раздуваясь от чувства собственной важности.
Однажды они заблудились там, за рекой, и к парому вышли уже в сумерках. Им не повезло – паром был на другом берегу. Они перепугались – вдруг дед Егор уже ушел домой, и им придется здесь ночевать… Как они тогда кричали! Все трое потом охрипли и несколько дней разговаривали только шепотом. Но кричали не зря – дед Егор еще недалеко ушел и услышал их отчаянные вопли. Вернулся, перевез их уже в темноте, потом даже проводил к дому дяди Миши. Она там и ночевать осталась тогда…
Бабушка просыпала муку и ругалась сама на себя:
– Это прямо не бабушка, а како-то горе. Руки как крюки, вот все и валится… Так ты что же, специально приехала, чтобы с батюшкой встретиться?
– Ну-у, – смутилась Алена. – Не только. Тебя попроведать.
«И самой успокоиться…»
Но какое тут «успокоиться»! Она вдруг сообразила, что не привезла никаких подарков – ни бабе Гуте, ни дяде Мише, ни матушке Наталье, ни сестренкам своим названным, Ксении и Ольге. Занятая только своими мыслями и своими проблемами, она совсем забыла об этом. Ой, неудобно-то как! Хоть мелочи какие-нибудь, ведь не подарок дорог, а внимание…
– Баба, извини, я подарков-то никаких не привезла. Замоталась совсем, – извиняющимся тоном сказала Алена.
– Ой-е, – всплеснула руками бабушка. – Еще чего! Сама приехала – вот и подарок. В кои-то веки. И не надо ничо боле.
– Так и дяде Мише тоже ничего, – хоть ты тресни, не поворачивался у нее язык называть его «отцом Михаилом» или, тем более, «батюшкой».
– И ему ничего не надо. Он тебя увидит, душа возрадуется, вот и подарок.
– А девчонкам?
– Евойным-то? Ксюхе с Олькой?
Бабушка призадумалась:
– Им-то надо бы. Вы ж, молодые, любите это дело, подарки всякие да сурпризы.
Теперь уже задумалась Алена.
Она достала из рюкзака томик Есенина, пересчитала деньги. Одно время Есенин был ее любимым поэтом, тогда она постоянно таскала эту книжку с собой в сумочке. А так как с кошельками ей паталогически не везло, она их то сама теряла, то у нее их вытаскивали, она стала хранить деньги в Есенине. У нее менялись интересы, появлялись другие книги, другие поэты и писатели, потом вообще перешла на планшет. Но томик Есенина так и был с ней. Она только вклеила в него бумажный конвертик, чтобы деньги не вываливались. А мелочь по-мужски таскала в карманах.
Денег было достаточно много – все последние месяцы, пока еще работала, она откладывала с каждой получки. Мама давно заявила, что в выпускном классе запретит ей работать – надо сдавать ЕГЭ, готовиться. Хотя сама Алена никуда поступать и не собиралась. На бюджет с ее учебой попасть было нереально, а о платном обучении можно было и не мечтать. Маме пока ничего не говорила, чтобы не расстраивать. Да и с одноклассниками поддерживала разговоры насчет факультетов, специальностей, проходных баллов…
Она положила книжку с деньгами назад, в рюкзачок. Что она сможет здесь купить? Да и когда?
И тут решила: «Отдам девчонкам планшет. Он им наверняка пригодится, тоже ведь выпускницы. И удалять ничего не буду. Если у самих есть планшеты, так „внутренностями“ пусть пользуются. А мне… Он вряд ли в ближайшее время понадобится».
И, довольная принятым решением, спохватилась: «Я же на речку собиралась!»
– Ну все, я побежала, – уже из сеней, гремя ведрами, крикнула Алена.
Вдогонку услышала:
– Только быстро, а то к блинам опоздаешь.
«Ну, уж нет. К бабушкиным блинам – ни за что». Но тут же вернулась, сняла кроссовки:
– Босиком пойду, как раньше.
– Что ты! – охнула баба Гутя. – Холодно. Сентябрь ведь, осень. Да и дождь прошел. Одевайся-ка ладом.
– Ничего, я не долго.
– Вот поперешная…
Все лето она наравне с деревенскими носилась босиком, и сейчас просто не представляла, как будет идти по травке-муравке Тополиной поляны в кроссовках. Кощунство!
Она пошла не в огород, а через калитку, по дороге. Правда, сначала пришлось помучиться на острых камнях гравийки, зато потом, когда свернула на влажный прохладный песок проселка, ведущего через Тополиную поляну к реке, босые ноги сразу вспомнили детство. Она даже запрыгала на одной ноге. Это было одно из их любимых развлечений – в жаркий-жаркий день бегать босиком по раскаленному песку этой самой дороги. Подпрыгивать то на одной ноге, то на другой – до того обжигает! Соревновались – кто дольше продержится. А потом заскочить на прохладную мягкую травку. Верх блаженства. И всей толпой – на протоку, купаться!
Сюда, на Тополиную поляну, приезжали отдыхать со всей округи, даже из города – уж очень было место замечательное. Прямо как в сказке – ровная мягкая травка без сорняков, семь огромных тополей, разбросанных по всей поляне, и больше ни одного деревца, ни одного кустика. А сразу за поляной, под высоким обрывом – песчаный пляж и речка. Мечта! Все лето на поляне стояли машины, палатки приезжих. А они, местные, деревенские, черные от загара, важные и деловые, проходили мимо, всем видом показывая – а нам-то повезло, мы живем здесь!
Пологий спуск к воде был только в одном месте, туда и вела дорога, по которой сейчас прыгала Алена. По ней за речной водой ездили деревенские. Артезианская, из скважины, многим не нравилась, как, например, и самой бабе Гуте.
Посреди реки, напротив поляны, был остров, и берег от него отделяла мелководная протока, вода в которой прогревалась до состояния парного молока. Вся деревенская ребятня целыми днями плескалась в протоке. Только в одном месте было достаточно глубоко, и старшаки устроили там нырялку-прыгалку из длинной упругой доски. А весь верх глинистого обрыва был утыкан черными отверстиями ласточкиных гнезд.
Те, кто постарше, переплывали через протоку на остров и там загорали среди низкорослых кустов. Ребятня шепталась, что девушки там загорают и купаются совсем голыми. А самые отчаянные рисковали переплывать и через всю реку на другой берег.
Но река была очень опасна, особенно когда вода поднималась. Немало жизней унесла. Им же, малышне, хватало развлечений и удовольствия плескаться на песчаном мелководье под обрывом.
Они затаскивали на самый верх обрыва ведерки и плошки с водой и заливали «летнюю горку», скатываясь по мокрой скользкой глине прямо в воду. А по соседству с ласточкиными гнездами рыли норы и целые пещеры, где прятались от летнего зноя. Откуда потом, перепачканные песком и глиной до самых макушек, с визгом летели вниз, в теплый «лягушатник»…
Алена с Ксюшей и Олей часто уходили подальше от протоки, от шума и гама, и вместе с пацанами ловили рыбу – так, гольянчиков да прочую мелочь. Кошке на радость.
У нее было много в деревне двоюродных-троюродных сестер и братьев, они все вместе собирались на протоке, а после, ближе к вечеру, умаявшись, шли к Алене. То есть к бабе Гуте – дом-то ближе всех был. А там – воды попить, или молока, если было, да по куску мягкого белого хлеба – и на черемуху. Или за горохом.
Каждое лето они «воевали» с приезжими. Проблемы было две. Во-первых, мало кто из «чужих» был настолько предусмотрительным, что привозил с собой дрова. А на месте их взять-то было негде! Доходило до того, что самые «отмороженные» покушались на святая святых – на тополя. Или пытались воровать дрова в деревне. Малышня-то малышня, но они тогда решили проблему – договорились с родителями и стали таскать всем желающим дрова за небольшую плату. Всем хорошо – и тополя целы, и у «дровоносов» деньги на мороженое-лимонад-конфеты появились.
А, кроме того, приезжие разжигали костры, причем кто где захочет. Нет, чтобы на старом кострище – так каждый раз на новом месте. Скоро вся поляна оказалась изуродована черными проплешинами. И как-то в начале лета они за несколько дней оборудовали стационарные места для биваков – с лавочками, столиками. Конечно, не без помощи взрослых, но идея-то была их, детей.
Она расстроилась, обнаружив сейчас лавочки разломанными, обшарпанными и облезлыми. Подошла, присела на остатки одной из них. Видимо, кто-то когда-то предпринимал попытку облагородить поляну, покрасил их лавочки. Даже кострища обложили кирпичами и большими гладкими булыжниками, тоже раскрашенными в разные цвета. Но потом все забросили. И получилось только хуже. Краска на лавочках почти вся облезла, и сами они стояли покосившимися и полуразбитыми уродами. Столиков вообще не было, остались только одинокие пеньки. Приезжие вандалы их, наверное, на костры пустили. Кирпичи и камни валялись, в беспорядке разбросанные по траве.
Но Тополиная поляна будто доказывала всем, что есть вещи на свете вечные, незыблемые. Проплешины зарастали, травка-муравка восстанавливалась. Шрамы на тополях затягивались, и они по-прежнему возвышались неземными великанами, создавая драгоценную тень во время летнего зноя. Алена была уверена – так всегда будет…
Была и еще проблема – приезжие частенько порывались машины свои в речке помыть. Спускались по «водовозной» дороге к реке, заезжали прямо в воду. Но с этим разбирались уже не дети, они просто бежали в деревню и звали на помощь взрослых…
Алена бродила в ледяной воде, закатав джинсы, но ей не было холодно. Она с трудом сдерживала слезы. Она вдруг так ясно, каждой своей клеточкой поняла, что она уже взрослая. Детство закончилось и никогда не повторится. Там, тогда была «та», совсем другая жизнь. А здесь и сейчас – «эта». Взрослая… И проблемы теперь у нее тоже… взрослые. «ЭТОГО не может быть…»
Стоп! Только не сейчас.
Она огляделась – ни на поляне, ни на дороге никого не было. Она впервые оказалась здесь осенью. В разгар лета всегда вокруг было много народу. А сейчас – никого. Ну и хорошо. Она только порадовалась. Разделась и нагишом поплыла в холоднючей воде. Недолго совсем, пару раз нырнула с головой и выбралась на берег. Попрыгала для согрева, сделала несколько движений из ката, быстро оделась, набрала воды в ведра и побежала домой, к бабушке. Ей стало жарко – так всегда было после ее утренних обливаний. Купание очень хорошо взбодрило ее, голова стала спокойной и ясной, во всем теле чувствовались легкость и свежесть. Хоть взлетай!
Обливаться она начала несколько лет назад. Поневоле. Когда она бросила карате, организм ее, привыкший к постоянным нагрузкам, начал возмущаться, бунтовать, а в конце концов совсем расклеился. Да и смерть отца основательно надломила ее жизненные силы. У нее обнаружилась хроническая ангина. Чуть что – ветерок там или под дождь попала – и сразу горло начинало болеть, потом сопли, температура. И все – постельный режим.
– Гланды у нее слабенькие, – объясняла маме участковая врачиха.
– И что же делать?
– Закаливаться…
Потом появилась аллергия. Неизвестно на что. Мама избавилась и от собаки, и от кошки. Водила ее по врачам, диагностическим центрам, но причину аллергии так и не обнаружили. А тут еще началась гормональная перестройка организма – она вступила в переходный возраст. И стало совсем плохо. Ее спас Порфирий Иванов. В интернете она наткнулась на его систему. Попробовала. Помогло. И с тех пор каждое утро начиналось для нее с молитвы и обливания холодной водой, по возможности – стоя босиком на земле, впитывая ее силу, пополняясь ее энергией. Она изменила его систему, «подогнала» ее под себя. Спускаться вниз на улицу, на газон у подъезда с двумя тяжелыми ведрами с водой, а там обливаться, стоя в одном купальнике на глазах у спешащих на работу соседей… Это ее очень напрягало, особенно зимой. Нет, не морозы ее смущали, а косые взгляды прохожих, готовых покрутить пальцем у виска. Она стала обливаться дома, в ванной.
Кому она молилась, она бы не смогла сказать. Крестик она не носила, в церковь не ходила. Так, была пару раз на экскурсиях. Молилась Богу. Своему. Она знала историю Иисуса Христа, читала Евангелие и самые интересные главы из Ветхого завета. Верила ли она в Иисуса? Да она сама не знала! И даже не задумывалась об этом. Просто молилась Богу, который есть. И это она знала точно. Не верила, а именно знала – есть. Она не помнила ни одной молитвы, даже «Отче наш». Но у нее постепенно составилась своя собственная молитва, в которой соединились все ее желания, помыслы, мечты. С течением времени ее молитва видоизменялась, дополнялась. Но никогда и никому она не произнесла бы ее вслух. Это была только ее молитва, и это был только ее Бог.
Вообще-то сама для себя она слово «Бог» не использовала. Она не называла «Это» богом или еще как-нибудь – «вселенским разумом» или «информационным полем», модными нынче терминами. Она вообще «Это» никак не называла. Просто бывала «Там», приобщалась к «Этому»… И была счастлива.
Ну, а раз люди придумали для «Этого» название «Бог», что же – пусть так и будет. Бог так Бог.
Система «работала» – болячки ее отступили, но прекратить обливания она уже не могла. Во-первых, она чувствовала, что тут же организм снова расклеится, причем будет гораздо хуже, чем раньше. А, кроме того, эти ее обливания стали для нее как допинг – такая свежесть, бодрость, такая жизненная сила появлялись и в теле, и в голове! Она была уверена, что именно обливания помогали справиться ей с тяготами последних лет.
Но самое главное было даже не в этом. Время от времени во время молитвы она вдруг начинала испытывать те самые непередаваемые ощущения, которые в свое время давали ей ката – разрывалась на миллионы кусочков и уносилась в манящую бесконечность, в вечный свет. И – ощущение счастья. Только не того, полудетского, неясного, какого-то легкомысленного и веселого. А нового – глубокого, насыщенного, чуть-чуть грустного. Взрослого. Как будто приоткрывалась «калиточка» в другой мир – далекий и светлый. И в эти мгновения она чувствовала, что Бог, которому она молится, ее слышит, понимает и принимает. Поэтому она так уверенно и знала, что Он – есть. Ей не надо было верить в него, ей достаточно было просто иногда общаться с Ним.
Почему это происходило и от чего зависело, она не знала, да и не очень задумывалась. Но ей было очень нужно хоть иногда, пусть и редко, иметь возможность обращаться к Нему. И ей казалось, что и Ему это тоже нужно. Поэтому Он и приоткрывает время от времени свою калиточку, запуская ее к Себе. И она продолжала молиться и обливаться.
Как бы она не была занята, какой бы напряженный и насыщенный день не предстоял впереди, сколько бы дел не было запланировано – в первую очередь у нее была утренняя «процедура». Не выполнив этот свой ежедневный «ритуал», она просто не могла ничего делать. Мало того, что физически чувствовала бы себя совершенно разбитой, но, главное, не простила бы себе «упущенной» возможности – а вдруг именно сегодня один из тех дней, когда ей в очередной раз приоткроется заветная «калиточка»…
Ей приходилось ради этого раньше вставать, жертвовать самым сладким утренним сном, но она без сомнений шла на эту жертву. Да это и не жертва была вовсе. Взамен она получала несоизмеримо большее – здоровье, бодрость и, хоть и редкие, но бесценные мгновения общения с Ним.
В городе был клуб «ивановцев», приверженцев системы мудрого старца. Она несколько раз там побывала, но бросила – не нужны ей были все эти собрания, семинары, совместные чаепития. Да и некогда было. Так и осталась со своей собственной «помогаевской» системой…
Когда она вернулась, бабушка уже вовсю воевала со сковородками, будто и хвори все прошли. На столе, как обычно, блюдце с растопленным маслом и сахаром. Рядом – стопка горячих блинов, толстых, поджаренных, ароматных. У Алены буквально слюнки потекли. Она же весь день ничего не ела, а тут – бабушкины блины. Успела! Она поставила ведра и не удержалась – схватила верхний блин. И чуть не обожглась. Вытащила из стопки другой, подостывший, свернула, как в детстве, в куколку. И тут же услышала:
– А руки мыть?
Она рассмеялась – так было всегда. Тогда, в «той» жизни.
– Я в речке вымыла.
Алена макнула куколку в масло с сахаром:
– Откуда это?
– К соседке сходила. К Наталье, – бабушка разбегалась, расшевелилась, даже как будто помолодела. – Надо же гостью привечать. Ой, спасибо, Аленка, хоть приехала, слава тебе, Господи. Не охота мне самой… Одной-то. Да че не охота – не могу раскочегариться сама-то. На меня сделали порчу каку-то. Вот лежу, и все. Другой раз нога болит. А другой раз и не болит, а все лежу. Одно слово, порчу сделали. Ну, хватит, бабушка, балаболить. А то бабушка может гутарить да гутарить… А ты, робятишка, молодец, и на речку сбегала, поглядела. Промялась.
Алена наслаждалась. Покоем и умиротворением. Сидела бы так и сидела. Она ела блины, слушала бабушку, не особо вникая в смысл слов, и чувствовала, что засыпает.
Блины были бесподобны. Как всегда у бабушки. Раньше она пекла их в печке, шуровала длинным ухватом, задвигая сковородки на раскаленные угли. Ну, и блины получались особенные, с неповторимым ароматом и вкусом – такие можно испечь только в русской печи. Алена помнила, как они, дети, отыскивали запеченные в блины уголечки – к счастью…
А бабушка все болтала:
– Я-то даже численник не купила нынче. Как дурочка, так и живу, ни численника, ни радио. Вот дни теряю, и все тут. Какое ноне число, доча? Знаю, что сентябрь…
– Седьмое сентября, баба.
– Ой-е! А ты как приехала? Учеба-то началась, сентябрь уж неделю. Школу бросила, что-ль?
– Нет, баба, я отпросилась, – не моргнув глазом, соврала Алена. – Вернусь, догоню. Я же ненадолго.
«А вернусь ли? Все к экзаменам начинают готовиться, к ЕГЭ. Выпускной класс. А я вот здесь. У меня свой экзамен. И что с ним делать?»
Бабушка вовремя тормознула ее мысли:
– Ну, ты ешь, ешь. Да спать иди, умаялась, поди, в дороге. Автобус-то до города уж сколько лет не ходит.
Прямой рейс отменили несколько лет назад – нерентабельный был.
– А завтра рано вставать, к отцу Михаилу с утра надо идти. Или вечером пойдем? Суббота завтра ведь, да? Вечером всенощную служить будут, батюшка исповеди принимать. Может, тогда и пойдем?
– Нет-нет, с утра. Пораньше.
– Ой, милая, а крестика-то на тебе нету. Как пойдешь? Ой, беда.
– Да так и пойду. Не преступление же это, – Алена о такой проблеме и не думала.
– Крещеная-то ты крещеная, знаю. Мать еще младенцем окрестила, хоть тут сообразила. Как там она? – вспомнила наконец она про дочку, Аленину маму.
– Работает, – коротко ответила Алена. Она знала о взаимной неприязни бабушки и мамы. Удивительно, но своего зятя, Алениного папу, баба Гутя любила больше, чем родную дочь.
– Все робит и робит, грешница. Эх, Люба-Люба, всех денег не добудешь, – тут же начала недовольно ворчать бабушка.
Алена не знала причин их старой-старой размолвки. Но на ее памяти мама ни разу не была здесь, в деревне у матери. Алена приезжала сюда только с папой. Даже смерть отца их не примирила. Еще девчонкой краем уха она как-то слышала, то дело было в каком-то мужчине, что якобы в молодости мать вела не очень праведный образ жизни… Но и мама, и папа были для нее непререкаемыми авторитетами, образцами для подражания, она их искренне любила и видела, как они любят друг друга. И не хотела даже слушать какие-то деревенские сплетни, тем более – «дела давно минувших дней». Но очень хотела, чтобы мама и бабушка помирились. Или хотя бы встретились. Много раз после смерти папы она уговаривала маму съездить сюда, в гости к бабушке. Та вроде бы уже и не отказывалась, но так и не получилось. Алена даже сама ни разу не побывала здесь с тех пор…
Обычно папа привозил ее сюда в начале лета, несколько дней жил, сколько успевал – помогал по хозяйству своей теще, то есть бабе Гуте. И уезжал, оставляя ее на все лето под присмотром бабушки. Его работа была как-то связана с геологией, и отпуск был у него только зимой. А с бабушкой было хорошо! Вообще, она была уверена, что бабушек придумали для того, чтобы у детей было детство. Нет, бабушка ее не баловала, не сюсюкала с ней. Она общалась с ней, как с взрослой и вполне самостоятельной. Давала ей полную свободу. И, странное дело, Алена совершенно добровольно и естественно, без всяких просьб, напоминаний и уговоров, как обычно бывало там, в городе, помогала бабушке чем могла – и посуду мыла, и грядки полола, и воду таскала…
– Ой-е, да ты спишь совсем, – спохватилась бабушка. – Погоди, посиди здесь, поешь еще. Постелю тебе. Где будешь спать, на кровати или на полу?
– На полу, конечно. Как раньше, как в «той» жизни, – еле ворочая языком, ответила Алена. Вкуснейшая сытная еда, купание в холодной речке окончательно сморили ее.
Едва живая, она прошла в комнату, разделась. Залезла под теплое лоскутное одеяло и тут же утонула в мягкой перине. Бабушка подоткнула ей одеяло со всех сторон, как ребенку, перекрестила на ночь и ушла на кухню. Сейчас будет шарашиться там полночи. Но встанет, как всегда, рано утром – деревенская привычка. Сама баба Гутя жила в закуточке за печкой, там стояла ее кровать, маленькая тумбочка – и все. Больше ничего бы и не вошло. Свой закуточек она «квартирой» называла – «пойду в свою квартиру», «посмотри в моей квартире»…
А комната, чистая, всегда убранная, с разноцветными половиками и крахмальными салфеточками – для гостей. Бабушкина «квартира» соединялась и с кухней, и, через дверь, с комнатой. Получалось, что можно было свободно обойти вокруг печки. Этим и любила заниматься маленькая Алена в «той» жизни. Только у нее получалось не «обойти», а «оббежать». И очень быстро.
– За ставни уж не беспокойся, сама затворю, – бабушка кряхтела, собираясь на улицу.
В комнате стоял телевизор, но он давным-давно не работал. Так, для интерьера. На окнах, за тюлевыми занавесками, вечный куст алоэ и постоянно цветущая герань, еще какие-то цветы…
Напряжение последних дней отступило. Срабатывало бабушкино правило «трех Т» – чтобы хорошо спалось, должно быть тепло, темно и тихо. «Нет, не зря я сюда приехала». Алена улыбнулась сама себе и провалилась в целебный спасительный сон…
Суббота, 7.00
Утренний сон прервался быстро и неожиданно. Денис проснулся от голоса телевизионного диктора. Телевизор в палате работал непрерывно, с утра до вечера. Прапорщик, едва проснувшись, первым делом нажимал кнопку на пульте, а потом уже шел умываться, бриться и так далее. Он сам смотрел все спортивные передачи без разбора, Олег иногда переключал на новости, рискуя спровоцировать постоянно всем недовольного Геннадия на бесконечное ворчание и бесконечные споры. А Бортник-Пасечник и еще парочка более-менее адекватных пациентов благосклонно допускались на вечерние сериалы…
Денис взглянул на часы – еще только семь утра. Покрывало с двери было уже снято.
Он встал и, как обычно, начал делать зарядку.
– Да ты спортсмен, что ли? – наблюдал за ним Геннадий.
– Сейчас уже нет. А в молодости было дело.
– А чем занимался? – спросил проснувшийся Олег.
– Хоккей с мячом.
– Ух ты! – обрадовался Геннадий. «Понятно – болельщик же».
Денис, чтобы избежать его нудных и дотошных расспросов, быстренько убежал умываться.
В коридоре столкнулся с Кириллом:
– Ты что, ночевал здесь, что ли? – удивился Денис.
– Нет, конечно. Просто завтра воскресенье.
– И что?
– У нас будет общее богослужение. Вот мне и надо объяснить желающим, куда и как ехать.
– Слушай, Кирилл, я в инете вечером посмотрел эти ваши апостольские церкви. Оказывается, их много. «Краеугольный камень», «Любовь Христова», «Слово жизни», «Мировая жатва», «Дом жизни». Всех и не упомнишь. А вы кто?
– Мы «Благая весть». Благая весть – это Святое Писание, это Библия, которая есть основа всей церкви.
– Так зачем вас столько? И чем вы отличаетесь?
– Знаешь что, Денис, завтра тоже приходи, там все поймешь. На все вопросы получишь ответы. Знаешь Дом Культуры у Заречного рынка?
– Видел, знаю. Много раз мимо на автобусе проезжал.
– Вот туда и подходи к пяти вечера.
– А здесь как? Потеряют…
– А что здесь? Я же говорю – завтра воскресенье. Врачей не будет, только сестра. А ей что – лишь бы таблетки выдать и уколы поставить. Тебе уколы еще ставят?
– Ставят.
– На ночь?
– Ну да.
– Это успокаивающее, чтобы спал хорошо. Таблетки утренние заберешь, после обеда тоже. Служба до семи, к ужину еще успеешь.
– К ужину-то никак…
– Ну и ладно, мужикам скажешь, в палату принесут, потом поешь. А к уколу в любом случае вернешься. Все так ездят.
– Даже не знаю…
– А что тебя смущает? Все равно просто лежишь, ничего не делаешь. А так хоть время с пользой проведешь. Не понравится, никто тебя держать не будет – уйдешь. Двое парней из третей палаты тоже поедут. Можешь с ними. Пойдем, познакомлю.
– Из третьей? Нет, я уж лучше сам.
– Ну и ладно. Значит, договорились. К пяти. Приезжай пораньше, я тебя встречу.
Когда Денис вернулся в палату, Геннадий уже пил чай:
– Садись, чай попьем, пока завтрак не привезли. Вон, печенье есть.
Расписание столовой было плавающим. Завтраки, обеды и ужины привозили на машине из «головного» диспансера, а здесь, в филиале, только разогревали. Ехать было далеко, из центра города, на дорогах пробки, старенькая «Газель» часто ломалась, так что когда будут кормить, никто не знал. Но кормили, на взгляд Дениса, неплохо. Он, совершенно непривередливый в еде, был доволен вчерашним ужином.
– Тебя что, опять этот Кирилл из церкви обрабатывал? – спросил Олег, наливая чай себе и Денису.
– Да не обрабатывал. Так, поговорили немного.
– На службу приглашал?
– Ну да. Завтра.
– Поедешь?
– Не знаю даже. Вроде интересно.
– Нет там ничего интересного, – вдруг с какой-то злостью сказал прапорщик. – А Кирилл этот вообще пройдоха и обманщик.
Он взял опустевший чайник, запасную банку и вышел – воды набрать.
– За что он его так? – спросил Денис.
– Кого, Кирилла? Это еще цветочки, – усмехнулся Олег. – Тут до тебя полковник один лежал…
– Полковник? – удивился Денис.
– Ну да. А чему ты удивляешься? Они что, не люди?
– Просто странно…
– Да они пьют еще побольше гражданских. Так вот, лежал он здесь…
– Здесь? – Денис показал на свою кровать. История ее прежнего хозяина не выходила из головы.
– Это еще до Кольки было. Вот уж кто воспитывал бедного Кирилла. Тот у полковника и по стойке смирно стоял, и чуть ли не строевым ходил.
– А чего добивался?
– Полковник-то? За православие горой стоял. Сам некрещенным был, но истинно русской верой только православие считал. Вот и ополчился на всех этих католиков-протестантов. А тут Кирилл…
– И что?
– Да ничего. Закодировался полковник, укол поставил и ушел. Хороший мужик был, с Бякой все играл… А Кирилл, как видишь, остался. У прапора нашего кишка тонка оказалась с ним справиться. Да и зачем, собственно говоря?
– Вот именно, от них же и польза есть, – согласился Денис. – Реабилитационный центр…
– «Ребик», что ли? – спросил вошедший Геннадий.
– Как?
– Да они так сокращенно его сами называют. «Ре-а-би-ли-та-ци-он-ный» не выговоришь, барракуда. Тем более, когда язык плохо ворочается.
– Чем они там занимаются?
– Библию изучают.
– И все?
– Нет. Не только. Еще работают.
– Работают? Где?
– Кто на стройке, кто по хозяйству. Они же в частном доме базируются. Дом снимают в Костино.
Денис знал этот район – деревня в черте города, сплошной частный сектор. Как-то, еще на первом курсе, он с несколькими одногруппниками, подрабатывая грузчиками, разгружал там машины с дровами. Впечатление осталось крайне неблагоприятное – грязь и запустение.
– Небольшой домишко, две комнаты. Но хороший, добротный, чистенький.
– Ты что, был там?
– Был, конечно. Пожить хотел.