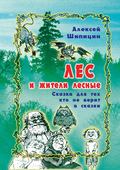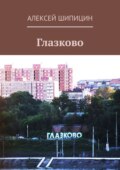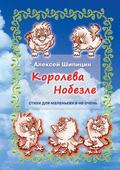Алексей Шипицин
Девушка 2.0
Автобус сильно тряхануло на очередной рытвине, да так, что Алена подлетела на своем заднем сиденье. Она уже пожалела, что села сзади – тут трясло гораздо сильнее. Но, с другой стороны, примостившись в своем уголочке, она как будто спряталась от всего окружающего мира. У толстой соседки разлетелись все ее сумки и пакеты, и она еще долго возилась и пыхтела, собирая их и снова пытаясь втиснуться. Компания на передних сидениях затихла, видимо, решив проспаться перед основным мероприятием. Школьники уже где-то успели выйти. Алена плотнее закуталась в куртку и отвернулась к окну.
Их, всех пятерых финалистов, вызвали на татами. Алена стояла последней – такой порядок в карате, построение всегда по поясам. Она представила, насколько необычно, может быть даже смешно, смотрится она со своим белым поясом рядом с этими четверыми темнопоясочниками. Но она нисколько не стеснялась – она просто делала то, что ей нравилось. И ей очень хотелось хотя бы еще разок выйти на татами.
Их по очереди представляли зрителям. Вызвали Александра Воробьева. Зал взорвался аплодисментами. Еще бы – знаменитость, известная личность, явный фаворит. Остальным тоже хлопали.
– Помогаева Алена!
Она сделала шаг вперед и тут же чуть не упала на татами. Она не ожидала такой овации – зал просто взревел от восторга. Она затравленно озиралась, не зная, что делать. Но тут их, к счастью, распустили готовиться к финалу. Она, чуть не плача, бросилась к Кирьякову и Сергею. Те что-то бурно обсуждали. Кирьяков приобнял ее:
– Успокойся. Сейчас ты им покажешь.
– Что покажу?
Сергей сел перед ней на корточки, заглянул в глаза:
– Басай-дай помнишь?
– Конечно.
– А сделать сможешь?
– Смогу, – она даже удивилась. Для нее не было никакой разницы – делать эти простенькие хейяны или более сложную басай-дай. Даже не так – ее она бы выполнила сейчас с гораздо большим удовольствием. Тем более что все хейяны она уже показала.
Она обрадовалась:
– Сейчас басай-дай делать буду?
В финале каждый участник выполняет ката уже по своему усмотрению – естественно, ту, которую лучше всего знает. Ну, и максимально сложную.
– Сергей, но это риск, – задумчиво сказал Иван Петрович.
– Она сделает, я ручаюсь, – возбужденно остановил его Сергей.
– Может, все-таки годан? Или сандан?
– Да она их всех сейчас порвет! – было видно, что Сергей завелся. Он как будто сам был сейчас на татами.
Иван Петрович только вздохнул и кивнул головой – давайте. Алена выступала первой. Какой же это был шок и для судей, и для соперников, и для зрителей, когда она вышла на татами, встала в стойку и в тишине зала звонким голосом объявила:
– Басай-дай…
Это была одна из самых длинных ката в шотокан-карате.
Зал загудел, главный судья с недоумением посмотрел на Кирьякова. Тот показал ему: «Все нормально». Судья пожал плечами и скомандовал Алене «начинай»:
– Хаджиме!
Пока она делала, в зале стояла мертвая тишина, но с последним движением началась овация – на трибунах сидели сведущие и понимающие люди, которые сразу могли понять и оценить происходящее. Судьи в финале уже не флажки поднимали, а таблички с оценками. В итоге она получила наивысший балл и стала чемпионкой. Это была ее первая победа.
Уже уходя в раздевалку, Алена услышала, как кто-то из судей расспрашивал Кирьякова:
– Где вы отыскали эту звездочку?
«Звездочку? В „Звездочках“ и отыскали!» – про себя рассмеялась она.
Домой они ехали на автобусе, она оглядывалась на отца, видела его счастливое лицо с неисчезающей улыбкой, и только сейчас до нее начало доходить, что она победила.
По дороге отец купил большой торт, и дома они устроили праздник. Мама никак не могла поверить, что Алена выиграла. Отец взахлеб рассказывал ей, как все это случилось. Алена, вдруг почувствовав страшную усталость, едва добралась до кровати и, с трудом раздевшись, завалилась спать. Уже сквозь сон услышала тревожный вопрос мамы:
– Ты думаешь, она сможет выдержать это?
А что ответил отец, она уже не слышала…
Бедный пазик затрясло еще сильнее. Алена взглянула в окно и поняла, что свернули на проселочную дорогу. «Значит, скоро приедем. Хорошо хоть дождь прошел, пыли нет».
Теперь она включила рок-попурри собственной сборки. Она сделала его однажды в подарок папе на день рождения – из лучших вещей «PF», «DP» и других повырезала соло на гитаре и соединила в одну цельную композицию. Папа был на седьмом небе – он сам пытался сделать что-нибудь подобное, но с компьютером ему трудно было общаться. Попурри получилось почти на полтора часа.
На следующий день было кумите. Она приехала в ранге чемпионки, вокруг нее шептались, на нее показывали пальцем. Ей приходилось поневоле привыкать к этому.
В кумите мальчишки и они, девочки, выступали отдельно. Она проиграла в первом же бою. Кто стал чемпионом среди девчонок, она даже не запомнила, а у мальчишек победил Санёк. В тот раз он, уже достаточно опытный каратист, понял, что в ката с ней тягаться бесполезно.
С этим Саньком они потом подружились, не раз вместе выступали на соревнованиях. Так и делили – она побеждала в ката, он – в кумите. Позднее выступали в одной команде в групповой ката, когда три спортсмена все делают одновременно и синхронно. И Санёк, и Женька Славский, который был третьим, конечно, уступали ей в классе. Она была лидером, они подстраивались под нее, и их команда почти всегда побеждала.
На соревнования в другие города, и тем более на международные, она не ездила – было слишком дорого. И на черный пояс сдавала дома – ей просто повезло, что знаменитый японский сенсэй проводил международный семинар по шотокану именно у них в городе. Пожилой японец с редкой седой бородкой восхищенно цокал и что-то бормотал непонятное на своем японском, пока она показывала ката на черный пояс. Потом попросил подозвать ее к нему. Она подошла, поклонилась. Он тоже встал и поклонился ей. Потом по-европейски пожал её руку и что-то долго говорил Кирьякову через переводчика.
– Он приглашает тебя к себе на обучение. В Японию.
Она была шокирована.
– Но это же дорого! У нас нет денег…
– Все бесплатно, за счет его школы.
– А когда?
– Он приглашение вышлет. Так что, Алена, учи японский язык, – улыбнулся не менее чем она ошарашенный Иван Петрович.
Через полгода Кирьяков получил официальное приглашение для Помогаевой Алены. Но к тому времени она уже бросила карате. Тренер приезжал к ним домой, разговаривал с матерью. Но никто ничего изменить уже не мог…
Автобус загудел сильнее – начался длинный спуск с горы, водитель тормозил двигателем. В наушниках пытался улучшить ей настроение гитарный супер-проигрыш из знаменитой «Money».
…Она выходила на татами всегда с такой спокойной уверенностью, от нее веяло такой силой, такой мощью, что соперники просто терялись еще до начала ката. Всем своим видом она словно говорила: «Я сейчас могу сделать все. И то, что сделаю, будет сделано фантастически». Судьи будто гипнотизировались ею и поневоле начинали ждать и от других участников чего-то подобного. Но не дожидались.
Начиная выполнять ката, она словно попадала в другой мир, в другое измерение. Окружающее переставало существовать, оставались только она и ее карате. И она была готова расплакаться, когда это заканчивалось. Как-то она услышала в разговоре судей:
– Ее ката – это с другой планеты.
Она научилась копить эмоции и силы, расслабляться и концентрироваться. И все вспоминала, как еще в самом начале их занятий Сергей рассказывал ей:
– Тысячу раз, десять тысяч раз сделаешь ката, доведешь до полного автоматизма, и ты почувствуешь, как во время исполнения ката ты исчезаешь, уносишься, «покидаешь тело». Это своего рода медитация, релаксация.
Она не понимала тогда этих мудреных слов, но была зачарована тем необычным, сказочным, что ее ожидало.
– Это парадокс – в ката ты напрягаешься, выкладываешься до последней клеточки тела и мышц. А разум и душа расслабляются, освобождаются. Поэтому именно ката – основа карате. У всех происходит по-разному. Кто-то видит сам себя как бы со стороны, кто-то просто впадает в транс, кто-то, наоборот, предельно концентрируется… Ката – это состояние души. Ты как будто теряешь себя и находишь. Ты пока еще не знаешь этого, но скоро узнаешь.
Да, теперь она это знала…
Если бы кто-то попросил ее описать, что она чувствует на татами, она бы просто не смогла это сделать – таких слов не существовало. «Нечеловеческие эмоции»? «Удовольствие»? «Счастье»?
Она, веселая и жизнерадостная девчонка, всегда улыбающаяся, на татами становилась серьезной и сосредоточенной. Но в уголках губ продолжала прятаться чуть заметная счастливая улыбка. И все – судьи, зрители, даже соперники – тоже поневоле начинали улыбаться.
– Ее выступление – это всегда праздник, – однажды кто-то так оценил ее выступление. И она была с этим совершенно согласна. Во всяком случае, для нее это точно был праздник.
В ката для нее звучала музыка, причем в каждой – своя мелодия, со своим ритмом, непохожая на другие. Поэтому она никогда бы не смогла перепутать одну с другой. А когда делала ката с закрытыми глазами – добавлялся еще и цвет.
Это происходило не каждый раз, но вот иногда…
Все вокруг становилось ярким и разноцветным, все цвета и оттенки чудным образом перемешивались, а потом эта фантастическая картина рассыпалась на части, как в гигантском калейдоскопе. И она сама тоже разрывалась на миллионы маленьких осколков, миллиарды молекул, триллионы атомов, и все они, сначала беспорядочно разлетаясь в стороны, потом каким-то чудом, закрутившись безумной спиралью, собирались вместе где-то в бесконечности, где-то там, где был только один свет. Теплые, мягкие облака и много света. А потом, когда это заканчивалось, и она возвращалась назад, в свой привычный мир, в глубине души на долгие дни оставался гореть кусочек того бесконечного света – ощущение непередаваемого счастья. Покоя, безмятежности, блаженства. И хотелось повторить это снова и снова…
Тогда она и начала понимать слова Сергея, почему отцы-основатели карате именно ката считали основой основ всего.
Музыка остановилась. Она посмотрела – зарядка закончилась. Все… Вытащила наушники, спрятала в рюкзачок. И тут вспомнила, что зарядное-то она не взяла. «А зачем? Музыку слушать? Боюсь, теперь будет не до музыки…»
Те соревнования проходили в выходные, в субботу и воскресенье. А в понедельник утром она пришла в школу и тут же чуть не убежала домой. Прямо в фойе, со стены возле гардероба на нее смотрела… она сама. Там висел большой плакат с ее фотографией: «Поздравляем Алену Помогаеву, ученицу 3 „Б“ класса, с победой в чемпионате города по карате!»
Вокруг толпились ученики, учителя. Тут ее заметили.
– Алена, ты почему ничего не говорила?! Ты что, карате занимаешься? – подлетела к ней Ксюша Егерева, которая считалась тогда ее подружкой.
Алена пожала плечами:
– А никто не спрашивал…
Она на самом деле не то чтобы скрывала от всех одноклассников свои занятия карате, просто сама не рассказывала. Зачем? Что, подойти и просто сказать: «А знаешь, я карате занимаюсь»? Хвастать? Чем угодно, но не этим. Это было слишком дорого для нее.
Тамара Петровна, их классная руководительница, обняла Алену:
– Ты, оказывается, чемпионка у нас? Молодчинка! А ведь никто не знал… Героиня просто! Слов нет…
Алена совсем засмущалась.
– Аленка, а ты кирпичи разбивать можешь? – окружили ее мальчишки из класса.
– А у тебя какой пояс? Черный?
Она едва успевала отвечать на вопросы.
– Кирпичи не пробовала.
– Нет, пока только белый.
Разочарованные мальчишки отстали от нее. Но чуть попозже подошел Артем:
– А к вам можно записаться?
– На карате?
– Ну да.
– Конечно. Тренировка сегодня. Приходи полседьмого к школе, вместе и пойдем.
– А где тренировки, куда пойдем?
– В сорок первой школе. Знаешь, где она? Рядом совсем, десять минут идти…
…Она так и не узнала, кто повесил тот плакат у раздевалки. Сначала думала, что отец, но он сам очень удивился, когда она ему рассказала. Кирьяков? Сергей? Их она не осмелилась спросить.
Вечером у школы ее ждал Артем и еще трое мальчишек из класса. С ними была и Ксюша. Алена растерялась:
– Вы все на карате пойдете?
– Да. А можно?
– Наверное, – не очень уверенно сказала Алена. – Пойдемте.
Кирьяков рассмеялся, когда Алена объяснила ему ситуацию:
– Вот что значит стать чемпионкой. Удивительно, что не весь класс привела. Ладно, пусть занимаются.
Но через месяц остался только Артем, а к лету и он перестал ходить.
Когда дядя Гриша начал делать для нее досточки, она как-то принесла в класс парочку и на перемене разбила. Просто чтобы больше не приставали.
Несколько раз Тамара Петровна просила ее выступить на школьных мероприятиях, фестивалях, конкурсах с показательными номерами. Она выходила в кимоно и показывала ката, причем очень сложные ката. Но особого впечатления это не производило. Карате для всех – это бой, схватка, удары ногами в прыжке, Джеки Чан, Ван Дамм… А этот полутанец в кимоно, набор движений, пусть и красиво выполненный – так себе. Это не карате…
– Девушка, просыпайтесь. Приехали.
Она открыла глаза, посмотрела в окно. Автобус стоял, в салоне уже никого не было. Водитель внимательно смотрел на нее. Она так и сидела, расплывшись в широченной глупой улыбке до ушей. Не наркоманка ли?
– Спасибо, – она подхватила рюкзачок, куртку и выскочила из автобуса прямо в большую грязную лужу.
Огляделась. Вот она и приехала…
ТЕРН
Санни вообще играла непредсказуемо. Или она специально и сознательно «запутывала» весь стол, играя максимально разнообразно. Или просто «веселилась» в свое удовольствие по принципу «как получится». Но она могла зайти в игру рейзом с абсолютно бросовой картой, а в следующей раздаче только коллировать с двумя тузами. Могла играть очень лузово, то есть сверхактивно, не пропуская ни одной раздачи, совершенно не обращая внимания на собственную руку. А потом пропустить круг или два, непрерывно пасуя.
Поэтому он просто не мог предположить, что у нее может быть, с чем она играет.
На столе появилась четвертая карта – десятка. Еще одна десятка в дополнение к той, что выпала на флопе.
«Борд спарился» – то есть на столе лежала пара. В данном случае пара десяток.
И это значило, что его сет дам превратился в фулл-хаус, гораздо более сильную руку. Теперь он мог пойти и ва-банк.
А банк, после их агрессивной игры на префлопе и флопе, стал уже очень большим. Таким большим он еще не был за весь час игры.
Все игроки за столом напряженно следили за происходящим, понимая, что вот-вот на центр стола будут задвинуты все фишки. Кто-то пойдет ва-банк, соперник, естественно, ответит.
Его слово было первым. Только он не стал объявлять «ва-банк», предоставляя это право Санни. Просто сделал ставку, причем не очень большую. Сейчас она переставит его рейзом, это и будет фактически «ва-банк». Судя по количеству оставшихся фишек.
Но она снова улыбнулась ему и только заколлировала…
Пятница, 20.30
Дом бабы Гути стоял на окраине, за ним была большая поляна, прозванная народом Тополиной, а там уже речка. Разбитый асфальт центральной деревенской улицы заканчивался как раз напротив бабушкиного дома, переходя в не менее разбитую пыльную грунтовку. Дорога шла дальше, до парома. И заканчивалась. Там, на другом берегу, жилья уже не было, так – несколько заимок и зимовьюшек. Раньше был деревни, колхозные фермы, деляны леспромхоза. Но все это пришло в запустение, жители поразъехались.
За рекой начиналась тайга, глухая и бесконечная. До горизонта и дальше, до гор. Дорога была тупиковая. А переправлялись летом на другой берег местные на сенокосы и пастбища, за ягодой, грибами да орехом. В последние годы еще много туристов повадилось те края посещать – модным стал экологический и экстремальный туризм. Рыбалка, сплав по рекам и прочее.
Алена остановилась перед бабушкиным домом. Ставни закрыты. Дома ли? Она открыла покосившуюся калитку палисадника, пробралась через заросли крапивы до ближайшего окна.
«Хорошо, что в джинсах. Вот бы запрыгала в юбке!»
Постучала в ставню. Прислушалась. Дома! Хлопнула дверь, она услышала бабушкин голос во дворе:
– Ну-ка, идите отсюда! Прочь идите! Щас собаку спущу!
И баба Гутя стала колотить какой-то палкой по крыльцу:
– Вот я вам! Прочь отсюда сейчас же!
– Баба, это я, Алена!
– Кака-така Алена?! Сказала, идите отсюда!
Алена выбралась из крапивы, оказалась перед воротами:
– Бабушка, открывай же. А-ле-на.
– Алена? С города приехала? Ой-е…
Зашлепали бабушкины калоши по лужам, загремел засов, заскрипели навесы. Наконец открылась калитка в воротах. Баба Гутя нисколько не изменилась – такая же маленькая, скрюченная, в своем стандартном белом платке. В руке палка.
– Ты кого гоняешь, бабушка? – вместо приветствия спросила Алена.
– И точно Аленка. Надо-сь. Как ты здесь?
– Соскучилась, – совершенно искренне ответила Алена, обняв бабушку. – Я поживу у тебя немного?
«Какая же она маленькая и худенькая. В чем только душа держится…»
– Да живи ради бога, – бабушка потащила ее в дом. – А то я все одна да одна, ни поговорить, ни послушать. И готовить одной не с руки. Живи, милая. Сколько ж тебя не было?
В доме все было по-прежнему. Алена как будто попала в детство. Подумала: «Хорошо-то как!»
– Разувайся пока, а я молочка тебе налью. Свежее, утром Наталья приносила. Отдыхай с дороги, умаялась, чай. Да ты сама достань молоко с погреба, мне сгибаться-то тяжко. Помнишь, где?
Алена помнила все. Ей казалось, что она только вчера уехала из этого дома – все было такое родное и знакомое. Она села на деревянную, покрашенную коричневой краской лавку-диван со спинкой и подлокотниками, стоящую у самой двери. На этой лавке она иногда спала в детстве, когда в доме собиралось много народу.
– Так сколько же ты не приезжала? – продолжала бабушка. – Петька наш, грешник, уже четыре года как сидит. А вы с ним в прошлый раз вместе черемуху собирали, на дереве сидели. Лет пять, видно?
«Если не больше». Алена никак не могла сосредоточиться, чтобы посчитать. Да и зачем? В детстве она каждое лето проводила здесь, у бабушки в деревне. Но, чем старше становилась, тем реже тут появлялась. А после смерти отца вообще не приезжала…
– Тебе сколько сейчас?
– Семнадцать весной исполнилось.
– О, так, поди, школу кончила?
– Нет, еще год остался, в одиннадцатый только перешла.
– Раньше-то десять было.
– Теперь все одиннадцать лет учатся.
– Ты молоко-то доставай, сама попьешь. Вы ж там, в городе, молоко пьете, которое не скисает, да масло едите, которое не тает. Химия одна. А я блины заведу. Гостья ведь у меня. Одна-то не буду шарашиться, а тут сделаю…
О боже, бабушкины блины! Алена чуть не завизжала от восторга. Ура! Тут же открыла тяжеленную крышку погреба («и как бабушка одна ее открывает?»), достала трехлитровую банку молока («как всегда, на верхней ступеньке, чтобы вниз не спускаться»). Сразу налила себе полную кружку («значит, держат еще коров, оказывается»).
– Так на кого ты все-таки ругалась?
– А-а, мальцы хулиганят. Постучат, да убегут. Я пока обуюсь да оденусь, да выйду. Шибко долго. А их и след простыл. Схоронятся и подглядывают. Развлекаются. Издеваются над старухой, – добродушно рассказала баба Гутя.
– Так ты родителям пожалуйся!
– Да почто? Пускай. Им весело, да и мне не скучно.
Алена рассмеялась.
– А ставни почему не открываешь?
– Одной-то мне на что? Да и хвораю я. А ты поди, открой.
– Так вечер уже, стемнеет скоро.
– Ништо, потом и закроешь. Тебе на минутку делов, это мне на час.
Алена вышла во двор.
Никакой собаки, которой баба Гутя пугала юных хулиганов, во дворе не было. В собачьей будке был сложен какой-то хлам. Заржавевшая цепь сиротливо свешивалась с гвоздя в заборе. Сколько себя помнила Алена, у бабы Гути всегда жила какая-нибудь собака, обычная дворняга. Были разные – рыжие, черные, пестрые. Куда они исчезали и откуда брались новые, Алена не знала. Но все они были Шарики. Кличка была неизменной. А теперь Шарика не было…
Двор зарос травой, бурьяном, по углам – высоченная крапива. У ворот – тоже. Видно, что их уже много лет не открывали. Колодец совсем разрушился. Им давно не пользовались – вода там стала плохая. Ворота, ведущие в огород, висели вместо шарниров на каких-то проволочках. Кругом разруха и запустение.
А дом был еще крепкий, хотя и немного перекосился – просел один угол. И крыша местами прохудилась. Дому было больше ста лет, и дом этот был особенный. Чем именно, Алена не знала, но помнила, как однажды летом из города приезжала целая бригада архитекторов, краеведов и еще каких-то мудреных специалистов. Приезжали специально ради бабушкиного дома – измеряли, фотографировали, что-то зарисовывали, что-то бурно обсуждали. Алена поняла только, что построен он как-то по-особому, не как другие дома, бревна в стыках не так сложены. И для их старинного сибирского села это было необычно. Она слышала от ученых смешные слова: «в лапу», «косой замок», «ласточкин хвост», и удивлялась – солидные люди, а такой ерундой занимаются. Они тогда сфотографировали и бабушку с Аленой на фоне дома. Говорили, что напечатают в каком-то журнале, потом пришлют. Но так ничего и не прислали…
Она заглянула в баню. Дверь сорвалась с петель и сиротливо стояла рядом, прислоненная к стене. «Бедная банька, сколько ж лет тебя не топили?» В глубине бани виднелись подвешенные для просушки пучки трав. Алена улыбнулась: «Вот баба Гутя! Ста рая-то старая, хворая-то хворая, а травки свои не бросает».
Бабу Гутю в деревне любили и уважали. А если кто и не любил, то все равно уважал. Она была известной во всей округе травницей и целительницей. Не знахаркой – она лечила не заговорами, а травками. Сама собирала лечебные травы, сушила, сортировала по холщовым мешочкам, составляла специальные сборы. Алена с детства помнила запах этих лечебных трав – в бане, в сарае, на чердаке висели и сушились пучки с разными вкусными ароматами.
– Кишки крутит или во внутренностях послабление, ты курильский чай заваривай, да покруче. А чтоб не было впредь, если склонность организма такая, пей постоянно заместо чая да кофе. А коли простуда, так чтоб ночью пропотеть и утром легче стало, тогда череду прямо перед сном, – поучала бабушка очередную посетительницу, передавая пакетики со спасительными лекарствами.
Она не брала денег за свои травки и советы. Но ей приносили кто молоко, кто сахар, кто дрова приходил поколоть, кто воды принести. Так и жила…
Баба Гутя знала все народные приметы и практически стопроцентно предсказывала погоду.
– Ежели на медовый спас заморозков нет, то и весь пост до Успения не будет.
– В Ильин день сухо, так и дальше сушь стоять будет, а мокро – к дождям. И так шесть недель.
– Каков день в яблоневый спас, таков и Покров будет.
«Ходячий гидрометцентр», – называла ее Алена.
И председатель колхоза, и главный агроном не считали зазорным заехать к бабе Гуте:
– Августа Федоровна, что скажешь, когда сенокос начинать нынче?
И все оправдывалось!
А потом как отрезало… Приметы перестали «работать». Баба Гутя предсказывала, а ничего не совпадало. Она сокрушалась:
– Посмешищем стала под старость лет. Понастроили комбинатов да заводов, погоду попортили. Вон какое водохранилище отгрохали, море целое, заливы по всей тайге расползлись. Сивилизация… Как погода не поменяется? Поменяется… Ой-е…
Однажды в детстве Алена наблюдала, как в конце лета бабушка выкапывала корни… полыни. Она рассмеялась тогда:
– Баба, зачем тебе полынь? Кушать будешь?
– Ты не смейся, не смейся. Вот смотри – корни толстые нынче, следующий год дородный, урожайный будет. А были бы тонкие, хлипкие, так и мы голодовали бы. Природа, она все тебе расскажет, подскажет. Надо токо смотреть внимательно, да знать, куда смотреть-то…
Бабушка ей как-то рассказывала, что свекр ее, который тоже и травником, и лекарем был, сучок в амбаре под сеновалом привязывал, в тенечке и в сухом месте. Обычный еловый сучок на бечевке. А, может быть, и не совсем обычный. Так этот сучок у него вместо барометра был. Слов таких мудреных тогда, конечно, никто не знал – но погоду сучок предсказывал исправно. Вроде вёдро стоит, и на небе ни облачка, но сучок вниз наклонился – ненастье будет. Дождь идет, а сучок вверх пошел – жди солнечной погоды, на покос собираться можно. Он рассказывал, что можно и сосновый сучок взять, но у того ход поменьше, не так явно видно. А вот пихта или кедр – не работают… Алена тогда взяла и привязала еловую веточку в сарае. Каково же было ее удивление, когда веточка «заработала»!
…Алена нашла в сарае старый проржавевший серп, пару дырявых верхонок, вышла за ворота. Уже начинало смеркаться. Весь день она провела в дороге – сначала на электричке до райцентра, потом на этом стареньком пазике. Напрямую от города на машине можно было доехать часа за три-четыре с учетом разбитой вдрызг дороги. А вот так, на перекладных, с пересадкой – уходил целый день. Она уже вторые сутки не спала, и с ужасом думала о том моменте, когда все-таки придется лечь в кровать. И она снова останется наедине с навязчивым: «ЭТОГО не может быть. Просто потому что не может быть». Она пыталась уснуть в электричке, но, как только начинала дремать, тут же вздрагивала и открывала глаза, всеми силами души пытаясь вытолкнуть из распаленного мозга: «ЭТОГО не может быть». Хотела достать планшет, почитать что-нибудь легкое, чтобы отвлечься. У нее много чего было туда закачено, и не только учебники. Но в голову ничего не лезло… Так и мучилась в полудреме между сном и явью. Хорошо хоть в автобусе нашла спасение – воспоминания. И музыка.
Но вечно же так продолжаться не могло!
Она скосила в палисаднике полынь и крапиву, поправила как смогла покосившуюся калиточку, наконец открыла ставни, посмеиваясь про себя: «Соседи увидят, подумают – совсем старая спятила, на ночь ставни открывает». А, возвращаясь домой, не удержалась – заглянула в огород. Он всегда поражал ее воображение, казалось, у него не было конца-края. Она не знала, сколько в нем соток или гектаров, не разбиралась в этом, но даже сейчас, уже почти взрослая, поразилась масштабам – дальний край огорода, загороженный жердями, едва виднелся в наступавших сумерках. Какое же впечатление он производил тогда на детей! Сейчас огород зарастал сорняками, баба Гутя даже картошку не посадила. Только в уголочке было несколько относительно ухоженных грядок – морковка, свекла, чахлые помидоры. И горох. Бабушка всегда его садила для них, для детей. Вот и теперь посадила, наверное, по привычке. Детьми на речку они всегда бегали через огород – так было короче. Перелез через жерди дальнего забора – и ты уже на Тополиной поляне, а там и речка. А еще в дальнем углу огорода росла черемуха, целые заросли.
Там, среди черемуховых кустов, нет – не кустов, настоящих деревьев, было всегда прохладно, даже в летнее пекло. А в самой середине, где никогда и трава не росла, – темно и даже холодно. Они залазили наверх и сидели там часами, объедаясь на удивление крупными и сладкими ягодами. Спускались с черными руками и губами только когда рты схватывало так, что и говорить не получалось…
– Ты где так долго вошкалась? – бабушка уже заводила тесто на блины, просеивала муку. Эту жутко интересную работу в детстве всегда делала Алена. Она и сейчас хотела было забрать у бабы Гути сито, но передумала.
– Баба, я пока на речку сбегаю.
– Ладно, Аленушка, сбегай.
«Аленушка». Ее редко кто так называл. Бабушка в детстве, мама иногда. Да так, кто-нибудь в шутку. А ей очень нравилось. Ей вообще нравилось ее имя – Алена. И ласковое, и звучное, и сказки напоминает. Она не знала точно, исконно русское ли это имя по происхождению, но считала, что это так – иначе откуда бы оно взялось в сказках? Модные современные имена типа Кристина, Анжелика, Снежана и подобные им, как ей казалось – для дискотек, ночных клубов, тусовок.
А, главное, это имя очень подходило именно для нее – не к ее внешности, а к характеру, к образу жизни. Она, всегда веселая и жизнерадостная, с неисчезающей улыбкой, излучающая оптимизм и положительные эмоции и заражающая ими других, идеально соответствовала имени – Алена. И оно нисколько не казалось ей старомодным, устаревшим. Она была благодарна маме за это имя…
А мама в детстве частенько называла ее «мой Аленький» или «моя Аленькая», в зависимости от ситуации – возможно, из-за ее рыжих волос. Ох уж эти ее рыжие кудри, сколько она натерпелась из-за них! Но и была готова сказать им спасибо – ведь в карате она попала из-за той самой драки, когда мальчишки в школе вздумали в очередной раз обзывать ее: «Рыжая – рыжая, рыжая – бесстыжая». Или еще что-то такое же безобидное, но у нее тогда лопнуло терпение. В результате все случилось как нельзя лучше – она нашла свое карате, а обзывания, естественно, постепенно прекратились. А в старших классах она поняла, что иметь свои природные, натуральные рыжие волосы – это круто. Модно, вызывающе, привлекательно. Но в седьмом классе, замученная комплексами, решила втайне от мамы покраситься в черный цвет. Это, наверное, было бы ужасно! Но, тем не менее, она, не думая о последствиях, уже и краску купила, и даже инструкцию изучила. Хорошо, что мама вовремя обнаружила и отговорила…
А вот отчество ей не очень нравилось. Вернее, даже очень не нравилось. Она любила отца и уважала, его смерть стала для нее настоящей трагедией. И понимала, что не сам он так себя назвал – Серафим. Родные и друзья сокращали до просто Фима. Или Сима, кому как больше нравилось. А она, таким образом, была Алена Серафимовна. «Если вдруг стану учительницей, как же кошмарно это будет звучать!»
Она всегда удивлялась – о чем думают родители, давая имена детям. Ладно девочкам, а вот мальчишкам – их-то имена ведь потом превращаются в отчества! Нет, она понимала, что в принципе у ее отца нормальное имя. Его родителей, своих бабушку и дедушку, она не знала – они умерли еще до ее рождения. Наверное, они оба были верующими людьми. Ведь серафим – это кто-то типа ангела. Что ж в этом плохого? У Пушкина где-то было, она по школе помнила: «И одинокий серафим на перепутье мне явился…» Нет, не «одинокий», а «шестикрылый», она тогда все пыталась представить себе существо с шестью крыльями… Так она сама себя уговаривала, но отчество все равно смущало…
– Ты на речку пойдешь, тады и воды принеси речной, – вернула ее к жизни бабушка. – Ведра в сенцах. А эта, привозная, не та. Спасибо, что привозят, слава богу, но не могу без речной. Привыкла за жисть-то.
Чувствовалось, что баба Гутя соскучилась по человеческому общению и болтала без умолку.
– Баба, а что Шарика не держишь?
– Ой-е, милая. Его ж кормить надо. А мне куда, хворой. Летом еще кое-как, а зимой так совсем плохо. В лежку лежу. Мурка вот только живет. Скучно, конечно, без Шарика. Тот хоть потявкает, когда кто чужой. Но что поделаешь…