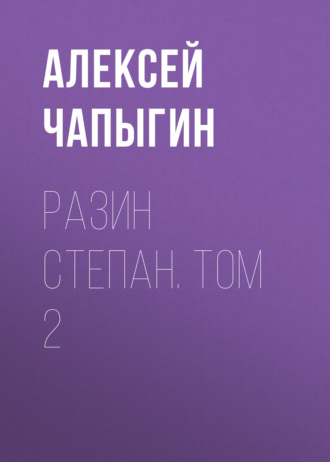
Алексей Чапыгин
Разин Степан. Том 2
– Хорошо наш московит знает по-перски?
– Карашо, есаул. Очень карашо!
– Тогда он будет шаху сказывать, ты пожди да поправь, ежели кто солжет про нас… У тебя, вишь, язык по-нашему не ладно гнется, нам же надобны прямые словеса.
– Понимай я! – ответил толмач.
10
Шах сидел спиной к фонтану в белом атласном плаще. Голубая чалма на голове шаха перевита нитками крупного жемчуга, красное перо на чалме в алмазах делало еще бледнее бледное лицо шаха с крупной бородавкой на правой щеке, с впалыми злыми глазами. По ту и другую сторону шаха стояли два великана-телохранителя с дубинами в руках. В стороне среди нарядных беков слуга держал на серебряных цепях двух зверей – породы гепардов. звери гладкошерсты, коричневы, в черных пятнах, морды небольшие, с рядом высунутых острых зубов, лапы длинные, прямые – отличие быстроты бега…
Рыжий шепнул Серебрякову, поняв, что он недоверчиво относится к нему:
– Зрите в лицо шаху! Шах любит, чтоб на него как на бога глядели…
– Чуем, парень!
Было очень тихо. Шах начал говорить, но обернулся к бекам:
– Зачем даете шуметь воде?
Шум воды прекратился. Фонтан остановили.
Шах, обращаясь к толпе, заговорил ровным тихим голосом:
– Бисмиллахи рахмани рахим! Люди мои, разве я не даю вам свободу в вере и торге? Я всем народам царства моего даю молиться, как кто хочет! У мечетей моих висят кумиры гяуров – армян, русских и грузин, разве я разбиваю то, что они называют иконой? Нет! Правоверным даю одинаковое право – шиитам и суннитам. Пусть первые исповедуют многобожие, другие единобожие, они сами враждуют между собой. Мне же распри их безразличны!.. Я не спрашиваю у вас, посещаете ли вы мечеть, как творите намаз? Я знаю, что вы платите при разводах абаси на украшение моих Кум[39]. Того мне довольно. Или вам в торге мной не дана свобода? Торгуйте, чем хотите. Я не мешаю, если вы жен своих продадите в рабство, – то ваше право. А вот когда вас шах призывает играть грязью и водой – игру, которой тешились еще предки мои, властители Ирана, мой дед Аббас Первый – победитель турок, завоеватель многих городов Индии, и я, шах Аббас Второй, тогда вижу, что иные из вас приходят играть в худом платье, боясь, что их разорят… Так вы жалеете для шаха тряпок? Берегитесь! Я буду травить собаками или давать палачу всякого, кто пришел играть в старой одежде. Помните лишь: шах прощает наготу и нищету только дервишам, но не вам! Также есть, кто говорит со мной грубо, не преклонив колени, – того казню без милосердия.
Толмач тихо переводил слова шаха Серебрякову.
Мокеев, прислушиваясь, сказал:
– Вишь, Иван, наш московский сказал всю правду про шаха. А мы таки запылились в пути.
– Перво все же пущай наш толмач говорит, Петра! – Серебряков, обратясь к рыжему, прибавил: – Паренек! Наш толмач скажет, а там уж ты.
– Ныне, козак, как захочу: шею сверну или с дороги поверну… хо!
– Нам спокойнее – наш!
– У вас сабли востры – у меня язык. – Рыжий, шмыгнув по толпе глазами, сказал: – Ужли Акимко дьяк зде?
– Кто таков?
– То не вам – мне надобно! Без сатаны место пусто! Пришел курносой…
Бывший дьяк был в толпе, но на вид не выходил.
– Выйди ближе – я тя обнесу перед шахом!
– Ты и нас обнесешь? – спросил Серебряков.
– С чего? Я узрю, как лучше.
Серебряков выдвинул вперед толмача, сказал:
– Молви – послы от атамана!
Толмач, выйдя, преклонил колено, прижал руку к правому глазу:
– Великий шах! К тебе, солнцу Персии, с поклоном, пожеланием здоровья прислал своих козаков просить о подданстве атаман Степан Разин.
– Тот, что разоряет мои города? Беки! Отберите у них оружие!
Два бека вышли из толпы придворных, сказали толмачу:
– Пусть отдадут сабли, и, если есть, пистоли тоже передай нам!
Серебряков и Мокеев, вынув, отдали сабли.
– Пусть тот отдаст дубину! Он – посол, дубина надобна только великого шаха слугам.
– Не дам! Паду без батога – скажи им, толмач.
Толмач перевел слова Мокеева, шах спросил:
– Чего тот в доспехах кричит?
– Хвор он! Сказывает, падет без палки.
– Пусть подходит с палкой!
Мокеев, Серебряков и толмач вышли вперед. Серебряков, как указал толмач, преклонил левое колено.
– Приветствуем тебя, шах!
Толмач перевел, прибавив слово «великий».
– Много вы разорили моих селений и городов?
– Те разорили, кои на нас сами нападали, – ответил Серебряков.
Шах метнул больными глазами на Мокеева, крикнул:
– Зачем не преклонил колен и головы?! Он знает мою волю.
Толмач перевел. Серебряков ответил:
– Шах, ему не подняться с земли преклонив колени, он – хворобый.
– Пущай лежа сказывает, что надо ему. Зачем шел хворый? – заметил шах, мотнув головой, сверкая алмазами пера скороходам.
– Поставьте козака на колени, не встанет – сломайте ему ноги, он должен быть ниже!
Великаны, оставив посохи, подошли к Мокееву.
– Што надо?
Толмач перевел есаулу волю шаха.
– Хвор я, да кабы ядрен был – не встал, оттого царя на Москвы глядеть не мог – не в моем обычае то…
Видя, что Мокеев упорствует, скороходы шагнули к нему, взялись за плечи. Мокеев двинул плечами, рукой, свободной от палки, оба перса отлетели, один упал под ноги шаху.
Толпа замерла, ожидая гнева повелителя. Шах засмеялся, сказал:
– Вон он какой хворый!.. Каков же этот козак был здоровым и много ли у Разина таких?
Толмач быстро перевел. Мокеев крикнул:
– Все такие! И вот ежели ты, шах, не дашь нам селиться на Куре, не примешь службы нашей тебе головами, то спалим Персию огнем, а жителей продадим турчину ясырем!
Серебряков сказал тихо:
– Петра! Так губишь дело – не те словеса твои…
– Вишь, он нахрапистой – все едино, что говорить!
Серебряков приказал толмачу:
– Переведи шаху вот, а не его слова: «Много нас, шах, таких, как я. Будем ему служить верно и честно, если даст место на Куре-реке».
Толмач перевел.
Шах ответил:
– Погляжу еще на вас. Может быть, прощу разорение Дербента и иных селений… Я верю, знаю, что они храбрый народ! Такие воины нужны Персии.
Из толпы вышел седой военачальник гилянского хана, преклонив колено, приложив правую руку к глазу, заговорил торопливо:
– Великий шах Аббас! Эти разбойники в Кюльзюм-море утопили, сожгли корабли и бусы повелителя Гиляна; его убили, взяли сына в плен – держат до сих пор. Благородный перс томится на своей родине в неволе у грабителей.
Шах нахмурился, сказал строго:
– Встань, Али Хасан!
– Чашм, солнце Персии! – Старик встал, склонив голову.
– Скажи мне, визирь моего наместника, сколько повелителей в Персии?
– Един ты, великий шах! – ответил старик.
– Да, только я один, шах Аббас Второй, – повелитель! Убитый козаками наместник присвоил себе имя повелителя, и горе ему! Вас всех приучил к этому слову… Завел двор, жил хищениями. Он так зазнался, что стал самовластным. Не дожидаясь моего указа, кинулся в море на них! – Шах указал рукой в сторону Серебрякова. – И думаю, хан мешал тебе, старик? Ты вел корабли, позорно бежал от сечи.
– Великий шах Аббас, хан перед битвой отнял у меня власть, он сам приказывал битве. Я же, усмотря, что гибель кораблей неизбежна, увел три бусы, спасая людей.
– Али Хасан, что еще сказать о хане? Меня замещал словом повелитель? Тебя, старого военачальника, сместил? За гордость свою был достойно наказан. И еще: он без моего ведома сносился с горцами – он опасен.
Смутно понимая, что говорят о гилянском хайе, Серебряков склонил голову и левое колено.
– Шах, гилянский хан сам напал на наши струги.
Также прибавив слово «великий», толмач перевел.
– Козаки, за хана гилянского не осуждаю вас.
Выступил рыжий.
Преклонив перед шахом оба колена, сняв мурмолку, затараторил по-персидски:
– Великий государь всея Русии, великая, малыя и белыя, самодержец Алексий Михайлович послал меня, холопа своего, к величество шаху Аббасу челом бить, справиться о здоровье и грамоту от государя передать!
– Встань и дай! Что пишет царь московитов ко мне, повелителю Ирана?
– Погубит нас тот! – тихо сказал толмач Серебрякову.
Мокеев услыхал.
– Тебя, парень толмач, зависть берет?
– Петра! Толмач правду молыт, я это чую…
Шаху подьячий читал; бумагу по-персидски, начиная с величания царя:
– «А чтоб не было розни между государствами и многой помехи торгу, то пишу я тебе, брат мой величество шах Аббас Второй: изымай ныне шарпающего твои городы вора атамана Стеньку Разина, дай его мне на расправу на Москву… Грабитель оный, Стенька Разин, столь же опасен как нашему русскому царству, такожде и тебе, величество, шаху подданным…»
Шах накрыл бумагу; прекращая чтение, сказал:
– Кто опасен мне – знаю, а что торговля падет, то не моя о том печаль! Мои подданные исправно платят подати, а иное – купцов заботы… Думаю я взять козаков в подданство; куда их селить – увижу!.. Хочешь, то передай это своему царю да скажи: указать мне не волен никто!
Рыжий, свертывая бумагу, подумал:
«Сей же день отписку: «В Посольском-де приказе дьяки нерадиво пишут – на письмо шах зол».
Он поклонился, не надевая мурмолки, и не уходил. Шах был гневен:
– Хочешь говорить? Скорей. И уходи с глаз!
Рыжий ткнул свернутой грамотой в сторону Мокеева:
– Величество, шах Аббас! Вот тот вор, дознал я, убил в Дербени твоего визиря Абдуллаха, братов его и сынов, а дочь, зовомую Зейнеб, имал ясырем, дал необрезанному гяуру, атаману вору, в жены!
– Как, Абдуллах убит? – Шах повернулся к бекам.
Те, склонив головы, молчали.
– И вы до сих пор не известили меня о его смерти? Да… Теперь я знаю, беки, как ненавидели вы его, – он был горд с вами! Тот убил? Эй, вы! – Шах ткнул рукой в сторону Серебрякова с толмачом. – Отпускаю, мира с атаманом не будет! Того – гепардам. – Шах погрозил кулаком Мокееву и, крепче сжимая кулак, махнул слуге: – Спускай!
Слуга, отстегнув цепь, гикнул, бросил к ногам Мокеева кинжал – знак, кого травить. Гепарды рыкнули, кинулись: один спереди, другой сзади впился есаулу в шею. Переднего Мокеев ткнул дубиной – гепард отполз, скуля, роняя на песок из носа кровь. Другой висел, сжимая пастью, царапал кошачьими когтями колонтарь.
– Посулы от сотоны?..
Кинув дубину, Мокеев согнулся, по шее спереди текла кровь, не давала дышать. Есаул достал гепарда рукой, с кусками тела сорвал и, перекинув через голову, стукнул о землю, придавив ногой. Нагнувшись, поднял животное, кинул к ногам шаха:
– Тебе, черту, на воротник!
– Гепардов дать! – Шах вскочил. Лицо его из бледного стало серым, на щеке синим налилась бородавка, красное перо замоталось на чалме.
Серебряков сделал шаг вперед, склонив колено:
– Шах, товарищ хвор! Его обнесли, не он зорил – много козаков зорило Дербень!
Толмач быстро перевел, а на песке издыхали любимые гепарды шаха. Шах был гневен: поверив одному, ничему больше не верил. Он взвизгнул, потрясая кулаками:
– Хвор – ложь! Дать гепардов! Во всем моем владении нет человека, кто бы таких могучих зверей задавил, как щенков. Ложь! Берегись лгать мне!
Беки с оружием придвинулись к шаху, охраняя его и давая дорогу. От рычания гепардов толпа шатнулась вспять.
Четыре таких же рослых гепарда, молниеносно наскочив, рвали Мокеева. Не устояв на ногах, он обхватил одного гепарда и задавил. Шах сам гикал визгливо гепардам, топал ногой. В минуту на песке, дрыгая, подтекая кровью, сверкал на солнце замаранный колонтарь: у есаула не было ни ног, ни головы. Недалеко вытянулся задушенный силачом гепард с оскаленными зубами да валялась смятая запорожская шапка…
Затрещал рог – гепарды исчезли.
– Видел?! Скажи атаману, как я принял вас. Пусть отпустит дочь Абдуллаха, или я отвезу его в железной клетке к царю московитов. Бойся по дороге обидеть людей, или с тобой будет то же, что стало с тем.
Голова с седой косой военачальника гилянского хана низко склонилась:
– Непобедимый отец Персии, вели сказать мне.
– Говори!
– Не надо отпустить живым этого посланца: он, я по глазам его узнаю, – древний вождь грабителей, имя его «Нечаии», его именем идут они в бой…
– Того не знаю я, Али! Он вел себя как подобает. Мое слово сказано – отпустить! А вот если хочешь быть наместником Гиляна – тебе я даю право глядеть, как будут строить флот. Вербуй войско и уничтожь или изгони козаков из Персии.
Толмач опасливо и тихо перевел слова шаха Серебрякову.
– Чашм, солнце Ирана!
– Нече делать – идти надо, парень!
От фонтана толпа медленно шла на шахов майдан; в толпе шел рыжий, желтея атласом, пряча под пазухой бархатную мурмолку, чтоб не выгорала. Лицо предателя было весело, глаза шмыгали.
Он, подвернувшись с левой руки к Серебрякову, крикнул:
– Счастливы воры! Мекал я, величество всех решит!
– Кабы пистоль, я б те дал гостинца, да, вишь, и саблю не вернули, – громко ответил есаул.
– Толмач, поучи черта персицкому, пущай уразумеет, что сказал шах: «За обиду – смерть!»
Шутил, удаляясь, рыжий:
– «Эх, Гаврюха, ловко сказал, лучше посольской грамоты!..»
Скоро идти в толпе было трудно. Подьячий шел в oтдалении, но в виду у казаков. Справа из толпы к Серебрякову пробрался бородатый курносый перс, шепнул:
– Обнощика спустили! Стыдно, козаки!
– Да, сотона! От руки увернулся, пистоля нет.
– А ну, на счастье от Акима Митрева дьяка – вот! Заправлен! – Курносый из-под полы плаща сунул Серебрякову турецкий пистолет с дорогой насечкой.
– Вот те спасибо! Земляк ты?
– С Волги я – дьяк был! Прячь под полой!
– То знаю!
Бывший дьяк исчез в толпе. Серебряков, держа пистолет в кармане синего балахона, плечом отжимал людей, незаметно придвигаясь к подьячему. Рыжий был недалеко. Не целясь, есаул сверкнул оружием, толпа раздалась вправо и влево.
– Прими-ко за Петру!
Рыжий ахнул, осел, роняя голову, сквозь кровь, идущую ртом, булькнул:
– Дья… дья… дья… – сунулся вниз, договорил: – Дьяк!..
Из толпы кинулись к рыжему. Серебряков придвинулся, взглянул:
– Несчастный день пал! Да, вишь, собаку убил, как надо.
– Иа, Иван! Иншалла… Дадут нас гепардам, боися я…
– Дело пропало, Петру кончили, – я, парень, никакой смерти не боюсь.
Серебрякова с толмачом беки привели к шаху. Кто-то притащил рыжего. Он лежал на кровавом песке, откуда только что убрали Мокеева. Серебряков бросил пистолет:
– Хорош, да ненадобен боле!
– Тот, седые усы, убил!
Шах сидел спокойный, но подозрительный. Военачальник гилянского хана сказал:
– Теперь, солнце Персии, серкешь исчезнет в Кюльзюм-море, как дым.
– Али Хасан, этот старый козак – воин. С таким можно со славой в бой идти. – Спросил Серебрякова, указывая на рыжего: – Он ваш и вам изменил? Я верю тебе, ты скажешь правду!
– Шах, то царская собака – у нас нет таких.
Толмач перевел.
– Убитого обыщите!
Беки кинулись, обшарили Колесникова и, кроме грамоты, не нашли ничего.
– Может быть, убитый – купец!
Из толпы вышел седой перс в рыжем плаще и пестром кафтане, в зеленой чалме, преклонив колено, сказал:
– Великий шах, убитый не был купцом – я знаю московитов купцов всех.
Шах развернул грамоту подьячего, взглянул на подписи.
– Здесь нет печати царя московитов! Ее я знаю – убитый подходил с подложной бумагой. Беки, обыщите жилище его – он был лазутчик! – Взглянув на Серебрякова, прибавил: – Толмач, переведи козаку, что он совершил три преступления: мое слово презрел – не убивать, был послом передо мной – не отдал оружия и убил человека, который сказал бы палачу, кто он.
Толмач перевел.
– Шах, умру! Не боюсь тебя.
– Да, ты умрешь! Эй, дать козака палачу. Не пытать, я знаю, кто он! Казнить.
Серебрякова беки повели на старый майдан.
Есаул сказал:
– Передай, парень: умерли с Петрой в один день! Пусть атаман не горюет обо мне – судьба. Доведи ему скоро: «Сбирают-де флот, людей будут вербовать на нас, делать тут нече, пущай вертает струги на Куру-реку или Астрахань».
– Кажу, Иван! Иа алла.
11
Много дней Разин хмур. Неохотно выходил на палубу струга, а выйдя, глядел вдаль на берег. Княжна жила на корабле гилянского хана. Атаман редко навещал девушку и всегда принуждал ее к ласке. Жила она окруженная ясырками-персиянками. Разин, видя, что она чахнет в неволе, приказывал потешать княжну, но отпустить не думал. На корабле, в трюме, запертый под караулом стрельцов, жил также пленный, сын гилянского хана; его по ночам выпускали гулять на палубе. На носу корабля, где убили хана, сын садился и пел заунывную песню, всегда одну и ту же. Никто не подходил к атаману; один Лазунка заботился о нем, приносил ему вино. Разин последние дни больше пил, чем ел. Спал мало. Погрузясь в свои думы, казалось, бредил. Утром, только лишь взошло солнце, Лазунка сказал атаману:
– Батько, вывез я на струг дедку-сказочника, пущай песню тебе сыграет или сказкой потешит.
– Лазунка, не до потехи мне, да пущай придет.
Вошел к атаману скоро подслеповатый старик с домрой под пазухой, в бараньей серой шапке, поясно поклонился.
Подняв опущенную голову, Разин вскинул хмурые глаза, сказал:
– Супротив того как дьяк бьешь поклоны! Низкопоклонных чту завсе хитрыми.
– Сызмала обучили, батюшко атаманушко…
– Сами бояра гнут башку царю до земли и весь народ головой к земле пригнули! Эх, задастся ли мне разогнуть народ!
– Сказку я вот хочу тебе путать…
– Не тем сердце горит, дидо! И свои от меня ушли, глаз боятся; един Лазунка, да говор его прискучил. Знаешь ли: сказывай про Бога, только чтоб похабно было…
– Ругливых много про божество, боюсь путать… Ин помыслю… что подберу. Да вот, атаманушко: «Жил, вишь, был на белу свету хитрый мужичонко. Работать ленился, все на Бога надею клал… И куда ба ни шел, завсе к часовне Миколы тот мужик приворачивал, на последние гроши свечу лепил, а молился тако: «Микола, свет! Пошли мне богачество».
Микола ино и к Богу пристает:
– Дай ему, чого просит, не отвяжется!
Прилучилось так – оно и без молитвы случается – кто обронил, неведомо, только мужик тот потеряху подобрал, а была то немалая казна, и перестало с тех пор вонять в часовне мужичьей свечкой.
Говорит единожды Бог Миколе:
– Дай-кось глянем, как тот мужик живет?
Обрядились они странниками, пришли в село. Было тогда шлякотно да осенне в сутемках. Колотится божество к мужику. Мужик уж избу двужирную справил с резьбой, с красками, в узорах. На купчихе женился, товар ее разной закупать послал и на копейку рупь зачал наколачивать.
– Доброй мужичок, пусти нас.
Глянул мужик в окно, рыкнул:
– Пущу, черти нищие, только чтоб хлеб свой, вода моя. Ушат дам, с берега принесете; а за тепло – овин молотить!
– Пусти лишь, идем молотить!
Зашли в избу. Сидит мужик под образами в углу, кричит:
– Эй, нищие! Чего это иконам не кланяетесь, нехристи?!
– Мы сами образы, а ты не свеча в углу – мертвец!
Старики кое с собой принесли, того поели; спать легли в том, что надели. Чуть о полуночь кочет схлопался, мужик закричал:
– Эй, нищие черти, овин молотить!..
Микола, старик сухонькой, торопкой, наскоро окрутился. Бог лапоть задевал куды, сыскать не сыщет, а сыскал, то оборки запутались… Мужику невмоготу стало, скок-поскок – и хлоп Бога по уху:
– Матерой! Должно, из купцов будешь? Раздобрел на мирских кусках!..
– Мирским-таки кормимся, да твоего хлеба не ели!»
– Смолчи, дидо! Чую я дально, будто челн плещет? Давай вино пить! Должно, есаулы от шаха едут… али кто – доведут ужо…
– От винца с хлебцем век не прочь…
На струг казаки привезли толмача одного, без послов есаулов. Лазунка встретил его.
– Здоров ли, Лазун? Де атаман? Петру шах дал псам, Иван – казнил!
– Пожди с такой вестью к атаману – грозен он. Жаль тебя… ты меня перскому сказу учишь и парень ладной, верной.
Толмач тряхнул головой в запорожской шапке:
– Не можно ждать, Лазун! Иван шла к майдан помереть, указал мне: «Атаману скоро!»
– Берегись, сказываю! Спрячься. Я уж доведу, коль спросит, что козаки воды добыли… Потом уляжется, все обскажешь.
– Не не можно! И кажу я ему – ихтият кун, султан и козак[40]; шах войск сбирает на атаман… Иван казал: «Скоро доведи!»
– Жди на палубе… выйдет, скажешь.
Лазунка не пошел к атаману и решил, что Разин не спросит, кто приплыл на струг. Ушел к старику Рудакову на корму, туда же пришел Сережка, подсел к Рудакову:
– Посыпь, дидо, огню в люльку!
Рудаков высыпал часть горячего пепла Сережке в трубку, тот, раскуривая крошеный табак, сопел и плевался.
– Напусто ждать Мокеева с Иваном! Занапрасно, Сергей, томим мы атамана: може, шах послал их на Куру место прибрать. Эй, Лазунка, скажи-кось, верно я сказываю?
– Верно, дидо! Прибрали место.
– Ну вот. Ты говорил с толмачом – что есаулы?
Лазунка ответил уклончиво:
– Атаман не любит, когда вести не ему первому сказывают! Молчит толмач.
– То правда, и пытать нечего! – добавил Сережка.
Рудаков, поглядывая на далекие берега, думал свое:
– Тошно без делов крутиться по Кюльзюму… Кизылбаш стал нахрапист, сам лезет в бой.
– Ты, дидо, спал, не чул вчера ночью, а я углядел: две бусы шли к нам с огненным боем. Да вышел на мой зов атаман, подал голос, и от бус кизылбашских щепы пошли по Хвалынскому морю…
– Учул я то, когда все прибрано было, к атаману подступил, просил на Фарабат грянуть…
– Ну, и что?
– Да что! Грозен и несговорен, сказал так: «Негоже-де худое тезикам чинить без худой вести о послах». А чего чинить, коли они сами лезут?
– Эх, дидо! Я бы тож ударил, только тебе Фарабат, мне люб Ряш-город… Шелку много, ковров… арменя живет – вино есть.
– Чуй, Сергей, зверьем Фарабат люб мне… в Фарабате шаховы потешны дворы, в тых дворах золота скрыни, я ведаю. И все золотое, – чего краше – ердань шахова, и та сложена вся из дорогого каменья. Издавна ведаю Фарабат: с Иваном Кондырем веком его шарпали, а нынче, знаю, ен вдвое возрос… Бабра там в шаховых дворах убью. Из бабровой шкуры слажу себе тулуп, с Сукниным на Яик уйду – будет тот тулуп память мне, что вот на старости древней был у лихого дела, там – хоть в гроб… Бабр, Сергей, изо всех животин мне краше…
– Ты ба, дидо, атаману довел эти свои думы.
– Ждать поры надо! Я, Сергеюшко, познал людей: тых, что подо мной были, и тых, кто надо мной стоял. Грозен атаман – пожду.
Разин, оттолкнув ковш вина, сказал старику:
– Ну, сказочник дид! Пей вино един ты – мне в нутро не идет… Пойду гляну, где мои люди. Лазунка, и тот сбег куды!
Стал одеваться. Старик помог надеть атаману кафтан:
– Зарбафной тебе боле к лицу, атаманушко, а ты черной вздел…
– Черной, черной, черной! Ты молчи и пей, я же наверх…
Наверху у трюма толмач.
– Ты-ы?!
– Я, атаман!
– Где Петра? Иван где?
– Атаман, Петру шах дал псу, Иван казнил… Тебе грозил и казал вести на берег дочь Абдуллаха бека – то много тебе грозил…
– Чего же ты, как виноватый, лицом бел стал и дрожишь? Ты худо говорил шаху, по твоей вине мои есаулы кончены, пес?
– Атаман, я бисйор хуб казал… Казал шах худа лазутчик царска, московит…
– Ты не мог отговорить шаха? Ты струсил шаха, как и меня?!
Толмач белел все больше, что-то хотел сказать, не мог подобрать слов.
Разин шагнул мимо его, проходя, полуобернулся, сверкнула атаманская сабля, голова толмача упала в трюм, тело, подтекая, на срезе шеи, инстинктивно подержалось секунду, мотаясь на ногах, и рухнуло вслед за головой.
Разин, не оглянувшись, прошел до половины палубы, крикнул:
– Гей, плавь струги на Фарабат!
На его голос никто не отозвался, только седой без шапки Рудаков перекрестился:
– Слава ти! Дождался потехи…
– На Фарабат! – повторил атаман, прыгая в челн.
– Чуем, батько-о!
Два казака, не глядя в лицо Разину, взялись за весла.
– Соколы, к ханскому кораблю!..
12
– Гей, браты, кинь якорь! – крикнул казакам Сережка.
Гремя цепями, якоря булькнули в море. Струги встали. На берегу большой город, улицы узки, извилисто проложенные от площади к горам. У гор с песчаными осыпями на каменистой террасе голубая мечеть, видная далеко. Справа от моря на площади шумит базар с дырьями в кровле, среди базара невысокая башня с граненой, отливающей свинцом крышей. К берегу ближе каменные, вросшие в землю амбары.
– Батько! Вот те и Ряш.
– Иду, Сергей.
На палубу атаманского струга вышел Разин в парчовом, сияющем на солнце золотым шитьем кафтане. Кафтан распахнут, под ним алый атласный зипун.
– Здесь, брат мой, справим поминки Серебрякову с Петрой!
– Дедке Рудакову тож, а там в шахов заповедник к Сукнину…
– Узрим куда.
– Чую нюхом – в анбарах вино!
– Без вина не поминки – душа стосковалась по храбрым, эх, черт!
Еще издали, заметив близко приплывшие струги казаков, в городе тревожно кричали:
– Базар ра бэбэндид![41]
Кто-то из торговцев увозил на быках товары, иные вешали тюки на верблюдов.
– Хабардор!
– Сполошили крашеных!..
Лазунка вглядывался в сутолоку базара.
– Гей, Лазунка! Что молвят персы?
– Чую два слова, батько: «Закрывай базар», «Берегись!» Пошто кизылбаша моего посек – обучился б перскому сказу!
– К сатане! Не торг вести с ними… Козаки, в челны запаси оружие.
– Батько, просится на берег княжна.
– Го, шемаханская царевна? Сажай в челн, Лазунка: пущай дохнет родным… добро ей!
Челны казаков пристали. Немедля на берегу собрались седые бородатые персы в зеленых и голубых чалмах.
Поклонились Разину, сторонясь, пропустили для переговоров горца с седой косой на желтом черепе. Пряча в землю недобрые глаза, горец сказал:
– Козак и горец издавна браты!
– И враги! – прибавил Разин.
– Смелые на грабеж и бой не могут дружить всегда, атаман! Здесь же не будем проливать крови: мы без спору принесем вам, гостям нашим, вино, дадим тюки шелка, все, чем богат и славен Решт, и будем в дружбе – иншалла.
– Добро! Будем пировать без крови. Тот, кто не идет с боем на нас, мы того щадим… Прикажи дать вино, только без отравы.
– Гостей не травят, а потчуют с честью.
– Скажи мне: где я зрел до нынешнего дня тебя?
Горец повел усами, изображая усмешку:
– Атаман, в Кюльзюм-море, когда ты крепко побил бусы гилянского хана, я бежал от тебя, спасая своих горцев.
– То правда.
Казаки и стрельцы по приказу Сережки разбивали двери каменных амбаров. Слышались звон и грохот.
– Козаки-и, напусто труд ваш: вина в погребах нет, оно будет вам – идите за мной! – крикнул горец и, поклонясь Разину, махнув казакам, пошел в город.
Двадцать и больше казаков пошли за ним.
Горец, идя, крикнул по-персидски:
– Персы, возьмите у армян вино, пусть дадут лучшее вино! – По-русски прибавил: – Да пирует и тешится атаман с козаками, он не тронет город! Шелк добрый тоже дайте безденежно…
Казаки с помощью армян и персов катили на берег бочки с вином, тащили к амбарам тюки шелка. За ними шел горец, повел бурыми усами и саблей, ловко сбил с одной бочки верхний обруч.
– Откройте вино! Пусть козаки, сколько хотят, пьют во славу города Решта, покажут атаману, что оно без яда змеиного и иного зелья… Пусть видит атаман, как мы угощаем тех, кто нас щадит, го, гох!
Открыли бочки, пили, хвалили вино, и все были здоровы.
– Будем дружны, атаман! И если не хватит вина, дадим еще… сыщем вино… иншалла.
Также не подавая руки, Разин сказал:
– Должно статься, будем дружны, старик! Слово мое крепко – не тронете нас, не трону город!
– Бисйор хуб. – Горец ушел.
На берегу у амбаров на песок расстилали ковры, кидали подушки, атаман сел. Недалеко на ковре легла княжна. Разин махнул рукой: с одного узла сорвали веревки, голубой шелк, поблескивая, как волны моря, покрыл кругом персиянки землю.
– Дыхай, царевна, теплом – мене хрыпать зачнешь, и с Персией прощайся – недолог век, Волгу узришь!
Атаман выпил ковш вина:
– Доброе вино, пей, Сергейко!
– Пью!
– Козаки, пей! Не жалей! Мало станет – дадут вина!
Казаки, открыв бочки, черпали вино ковшами дареными: ковши принесли армяне; персы подарили много серебряных кувшинов. Стрельцы пили шумливее казаков, кричали:
– Ну, ин место стало проклятущее!
– Хлеб с бою, вода с бою.
– От соленой пушит, глаза текут, пресной водушки мало…
– Коя и есть, то гнилая.
– А сей город добрый, вишь, вина – хоть обдавайся.
– Цеди-и и утыхни-и.
– Цежу, брат. Эх, от гребли долони расправим!
– Батько, пить без дозора негоже.
Разин крикнул:
– Гой, соколы! Учредить дозор от площади до анбаров и всякого имать ко мне, кто дозор перейдет… Лазунка, персы много пугливы – чай, видал их в Фарабате?.. Я знаю, с боем иные бы накинулись, да многие боятся нас и пожога опасны.
– «У тумы[42] бисовы думы», хохлачи запорожцы не спуста говорят: черт и кизылбаша поймет. А горец тот косатой – хитрой, рожа злая…
– Эх, Лазунка, вот уж много выпил я, а хмель не берет, и все вижу, как Петру Мокеева собаки шаховы рвут… Пей!
Со стругов все казаки, стрельцы и ярыжки, оставив на борту малый дозор, перешли на берег пить вино. Берег покрылся голубыми и синими кафтанама, забелел полтевскими московскими накидками с длинными рукавами. Дозор исправно нес службу, хотя часто менялся.
– А где ж моя царевна?
– Тут, батько!
– Ладно! Пусть пляшет, пирует, дайте ей волю тешиться на своей земле! Ни в чем не претите.
– Чуем.
С болезненными пятнами на щеках, с глазами, блестевшими жадным огнем и оттого особенно едкой, вызывающей красоты, персиянка лежала в волнах голубого шелка на подушках, иногда слегка приподнимались глаза под черными ресницами, изредка скользили по лицам пирующих. На атамана персиянка боялась глядеть, испугалась, когда он спросил о ней.
«Умереть лучше, чем ласка его на виду всего города!» – подумала она, изогнулась, будто голубая полосатая змея, оглянулась, склонив назад голову, увитую многими косами, скрепленными на лбу золотым обручем. Быстро поняла, что захмелел атаман, зажмурилась, когда он толкнул от себя кувшин с вином, сверкнув лезвием сабли.
Толпа все больше густела. Из голубого в голубом полосатом встала персиянка, закинула за голову голые в браслетах руки, в смуглых руках слабо зазвенел бубен. Княжна, медленно раскачиваясь, будто учась танцу, шла вперед. Глаза были устремлены на вершины гор. Княжна наречием Исфагани протяжно говорила, как пела:
– Я дочь убитого серкешем князя Абдуллаха – спасите меня! Отец вез нас с братьями в горы в Шемаху… Туда, где много цветов и шелку… туда, где шум базаров достигает голубых небес, – там я не раз гостила с отцом… Ах, там розы пахнут росой и медом!.. Не смейтесь, я несчастна. Лицо мое было закрыто… Серкешь, ругаясь над заповедью пророка, сдернул с меня чадру – оттого душа моя стала как убитая птица…
Танец ее не был танцем, он походил на воздушный, едва касающийся земли бег. Дозор часто менялся и был пьян. Два казака, ближних к площади, сидя на крупных камнях, били в ладоши, слушая чужой, непонятный голос, глядя на гибкое тело в шелках и танец, совсем не похожий ни на какие танцы.
– Дочь Абдуллаха бека!
– То Зейнеб?
– Да, сам шах приказал ее взять! – перебегало по толпе.
Персиянка была уже за цепью дозора, но до площади еще было далеко. Персы не смели подойти к вооруженным казакам. Горец с седой косой, военачальник гилянского хана, запретил злить разинцев. Девушка, делая вид, что пляшет, подбрасывалась вперед концами атласных зеленых башмаков. Золотой обруч с головы упал в песок, она кинула бубен и громко закричала:






