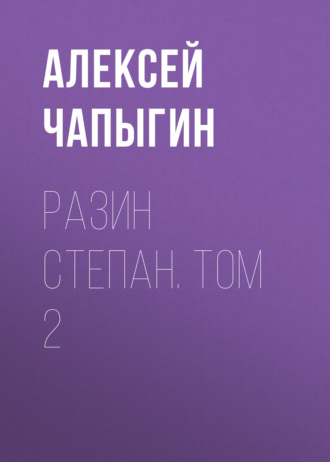
Алексей Чапыгин
Разин Степан. Том 2
Атаманы и есаулы поклонились царю в землю.
Вышел из смежной палаты дьяк, вынес свертки кроваво-красного кармазина. Первый кусок подал атаману Корнею и громко, торжественно проговорил:
– Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великия и малыя и белыя Русии самодержец, жалует тебя, атамана Корнилу Яковлева, отрезом дорого кармазина на кафтан.
Корней поклонился царю низко, принял подарок. Поименно называя, с той же речью дьяк обратился к Самаренину и Семенову. Есаулам без длинной речи выдали вышедшие из той же палаты дьяки свертки сукна на кафтаны ценностью и цветом по чину. Царь подошел к столу, стоявшему в стороне, взял с него бархатную кису с золотыми кистями и, подозвав кивком головы Корнея Яковлева, сказал:
– И еще жалую тебя, атаман Корней Яковлев, из своих царских рук сотней золотых червонцев.
Не дожидаясь поклонов, прибавил, улыбаясь:
– Крамола изжита. Службу атаманов, есаулов и донских рядовых козаков похвалю особой грамотой на Дон, а вас, атаманы матерые, зову нынче со мной и боярами к трапезе.
Махнув рукой первому дьяку, прибавил:
– Дьяк, есаулов отведи на чашной двор, и пусть пируют во здравие наше.
4
Близ крестца улицы, узкой, пыльной, обставленной по сторонам ветхим тыном, обрытой пересохшими канавами, сидел, привалясь к тыну спиной, уперев ноги в лаптях о дно заросшей канавы, старик в сером кафтане, в серой бараньей шапке, сдвинутой на подслеповатые глаза, перебирал струны домры и, бренча, подпевал:
На реку на Волгу широкую
Вылетал, слетал сизой сокол…
В небеса ен не глядел, властям не кланялся.
Зачерпнул он долонью воду рудо-желтую —
Под Саратовом, Царицыном, Свияжеском!
Взговорил ко Волге, вопрошаючи:
«Ой, пошто, Волга-мать, не радошна?
Ай, зачем мутишь со дна пески да рудо-желтые?» —
«Я пото верчу, пески кручу —
Подмываю камни-горы подсамарьские,
Что встает со дна меня красавица…
Та ли девка красная не нашинска:
Турска ль роду али перского…»
И услышала глас богатырь-реки,
Плавью со дна выставала сама девица…
Не румянена лицом, не ваплена…
Косы черны раскотынились…
Вишь, в воде лежать – остудной быть!
И не зреть солнца, не видети,
Холодеть, синеть грудиною,
Похудать, отечь личиною…
Да сказала девка таковы слова:
«Ты ли, сокол, богатырь-боец?
Зрю: недужным стал, нерадошным.
Аль по мне, девице, опечалился?
Ой, с печали сердце ссохнется,
Сила-удаль поуменьшится!..
И тогда насядут вороги, лиходеи все, насильники.
Биться будешь, не жалеючи…
Не теряй ты, сокол, кудри, мною чесаны,—
За кудрями снимут буйну голову-у!..
Голову, головку, буйну голову-у!..
С огородов, сквозь тын, по всей Стрелецкой слободе несло запахом печеного хлеба, так как простолюдинам летом «пожара для опас» не давали топить печи в домах, они пекли хлеб на огородах и пустырях.
Старик примолк, настраивая домру, столь же старую, как и сам он, за его спиной по-за тын кто-то, сидя в углублении земли перед печью, говорил громко и жалуясь:
– С тяжбой наехала родненька, кум… В Кремль пошли на соборы глянуть. Дошли мы до церкви мученика Христофора, я поотстал, а кум орет во всю Ивановску площедь: «Что-то, куманек, ваши московские иконники замест угодничья лика пса на образ исписали?..»
– Вот дурак-от! Христофор завсе с песьим ликом пишется.
– Я ему машу рукой: молчи-де! Ой, и натерпелся… Гляди, уволокли бы в Патриарший разряд…
– И отколе экое чудо? Святых не разумеет.
Старик, настроив домру, снова запел ту же песню.
С казни Разина, от лобного места, разбродилась толпа горожан, густела около игреца, слушала. В толпе стоял широкоплечий высокий юноша. Он и раньше стоял, а теперь придвинулся ближе. Лицом худощав, над губой верхней начинались усы, из-под белой шляпы, расшитой на полях узорами, лезли на лоб темны кудри. Малиновый скорлатный кафтан распахнут; опершись на батог, молча слушал игру старика.
Толпа зашевелилась и раздалась. К канаве вплотную пролез человек, с виду купец, широкоплечий, приземистый, с отвислым животом, в синей долгополой сибирке аглицкого сукна. За купцом протолкались, встали около него приказчики в серых фартуках и валяных шляпах, похожих на колпаки. Над Москвой все шире и шире загудел из Кремля колокольный звон. Вслед кремлевскому звону недалеко с Полянки зазвонила церковь Григория… В торжественный и плавный звон настойчиво вплелся заунывный, похоронный… Купец, как и многие люди, держа снятую с отогнутыми полями шляпу в руке, крестясь, заговорил:
– Дивлюсь я, народ православной! Вот уж кой день писец покойницкой Трошка звонит не ладно! Чуете! Во!.. Во!..
– Как не чуять, торговой человек? Звонит, быдто архирея хоронят.
– Еще что! Как седни вора Стеньку везли на лобное место из тюрьмы с Варварского крестца, звонил же все так. А звоны в тое время не гукнули… один он…
– Да… баловать таким делом не по уставу.
– И чого этта протопоп ему спущает?
– Кой день, как государев-царев духовник уехал к Троице!
– К Сергию?
– Куды еще? К Троице.
– Ну, и вольготно звонцу шалить колоколами.
– Нет, православные! Тут дело патриарше, не шалость пустая.
– Патриарший разряд сыщет.
– Коли доведут – сыщет!
– Сыскать про Трошку надо. А коли же сыскивать, православные, так чуйте: старик тож неладное играет, да еще в повечерие – грех велик!
– На старика поклеп! Наигрывает старой сколь жалостно, одно что в вечерю…
– А чуете ли, кого поминает?
– Волгу!
– Девку еще!
– А сокола сизого? Да сдается мне, замест сокола поминает вора Стеньку, казнили коего по государеву указу, четвертовали. Чуйте, православные! Его поминает.
– Лжешь на старца, пузатой!
– Зато не нищий: и пузат, да богат!
– Всяк про себя деньги копит. Иной нищий богаче купца.
– Чуйте, православные: «властям не кланялся», «вороги насядут, потеряешь буйну голову!»
– Оно, впрямь, схоже!
– И Волгу-реку со Царицыном, Свияжском, камни-горы самарские – про то нынче сказывать не можно: там бунты идут. Играть же указом воспрещено – чуйте, православные!
– Ну, чуем! Что из того!
– То! А може, не то?
– То ли не то, а я, православные, делаю почин. С тем шел сюда, чтоб старого безбожника, кои в повечерие бунтовские песни играет, в Разбойной сволокчи. Эй, парни, бери!..
– Пров Микитич, подмочь мы можем, да только…
– Чого только?
– Помогем до крылец в Кремль, а в Разбойной не пойдем – с дьяками суди ты!
– Волоките! Сам все улажу. Ну-ка, мохната шапка зимня, с нами, и музыку бери!
Купец, помогая приказчикам, выволок домрачея из канавы на дорогу.
– Да чего вы, божьи люди? Стар и убог, чай, сами видите? Играю нищеты для: може, кто алтын кинет?
– Там тебе гробных рублей дадут. Волоки, парни!
– Идем, дедко!
– Эх, пошто трогаете старца!
– Пропущай!
Юноша кинул батог, двинул на голове шляпу. Толпа не расступилась, старика тащили медленно, улица была плотно забита людьми.
– Чого мешаете, православные?
– Волоки, нам што!
– Не дело это… старого.
Парень из толпы тронул юношу за рукав:
– Вася! Гостя вашего… старца…
– Пожди, Куземка! Дай им взяться ладом. Где робята?
– Тут с народом.
– Кличь!
И, раздвинув толпу, засучил к локтям сборчатые рукава. Толпа отхлынула. Приказчики, оглянувшись, выпустили из рук старика. Купец закричал:
– Вы, парни, чого? А?!
– Не видишь, что ли, Пров Микитич?
– Чого?
– Люди хлынули прочь, а первой кулашной боец в дело вязнет.
– Какой еще? Волоки!
– Васька Ирихин, слышь какой!
– Эй, православные, подмогните парням.
– У нас ребра и так считаны.
Люди все больше редели, кто-то сказал:
– Тащи, пузатой, коли затеял!
– Нагляделся, вишь, казни, так на всякого рад скочить.
– Мы Разбойной обходим.
– Черта с таким народом послужишь государю!
– Не государю, а твоей чести.
Купец, ругаясь, отступился и спешно, не то от зла или боясь толпы, ушел.
Приказчики задержались; сняв шапки, поклонились старику:
– Прости нас, дедушко!
– Велел, а дело наше подневольное!
– Ништо взять у старого…
– Шальной он у нас! Вишь, в гости норовит пролезть.
– Такому не быть гостем! Знаем его лари – мелковат торгом.
– У черта ему гостем быть!
– Старается – крамолу ищет…
Толпа, переговариваясь, разошлась.
Юноша подвинулся к старику:
– Пойдем-ка, дед, к матке, чай, по нас соскучала!
– Поволокли… а чудно!..
– Сразу видал, что этот к тебе неспроста лезет. Все ждал, когда возьмет да городские подмогать зачнут. А я мекал – гикну ребят… только скоро тебя спустили… Люблю бой!
Звон колокольный заливал воздух Москвы, улицы и закоулки. Над низкими домами гудело медью, и в медный веселый гуд, не смолкая, упрямо вливался заунывный похоронный звон.
– Ты куда, дед?
– Да иду, робятко, надо мне зайтить на Архангельско подворье к монашкам – земляки есть, а кои прибыли из Соловков: Азарий келарь да Левонтий поп…
– Пошто они тебе?
– Вишь ты, Васильюшко. Пожил я у вас – пришел от имени батюшки. Сказнили его нынь, а теперь идти мне…
– Это вора-то Стеньку?
– Ой, робятко, молчи! Не вор он… не говори так… В тепле у вас, в доброй жире пожил, и слава богу. Посужу с монашками: може, еще потрудятся во славу атамана Соловки-то! Потрудятся ужо…
– Идем к нам! Снова, гляди, уловят… По Москве нынче много таких черевистых ходит… имают людей.
– Не уловят, даст бог! Решетки в городу не замкнут скоро – светло; а я часик, два, три поброжу…
– Тебя, ежели, где искать?
– Не ищи, Васильюшко! Сам прибреду.
5
Ириньица лежала, закинув исхудалые руки за голову. Василий вошел, сел на лавку; не раздеваясь, кинул рядом с собой расшитую шляпу. Свечи горели в одном трехсвечнике: две из них догорали, одна, высокая, ярко потрескивала, оплывая. Василий встал, взял две свечи из столешного ящика и зажег, вынув огарки. Делал он все очень тихо, бесшумно. Ириньица прошептала, не открывая глаз:
– Где ж летал, мой голубь-голубой?
– Эх, мама! Не чаял я, что услышишь… Мекал – спишь. Был и видал, ой что!
– Скажи, сынок… чую…
– А вот! Тут, не далеко место, на Козьем, вора Стеньку Разина на куски секли… Перво палач ему правую руку ссек, потом левую ногу, а вывели заедино с ним, вором, его брата Фролку, да, вишь, не казнили… пристрастия для привели скованна. Фролка от тое казни братней в ужастие пришел и слезно закричал: «Знаю-де я слово государево!» Он же, вор Стенька, весь истерзанный, да из отруба руки, ноги кровь бьет вожжой, рыкнул на Фролку что есть силы – всему народу в слух пало: «Молчи, собака!» Тогда палач его по стриженой голове тяпнул и нараз ссек, а потом… Ты что, мама?!
Ириньица, дрожа, села. Полуседые волосы лезли ей на глаза. Сбороздила волосы прочь иссохшей рукой и крикнула так, как не ожидал сын, громко:
– Дитятко! Ой, не надо!
– Чого не надо, мама?
Ириньица упала на постелю и тихо, как первый раз говорила, сказала:
– Ой, молиться надо мне и тебе, голубь, молиться тоже. Отец он твой был – Степан Тимофеевич!
– Отец? А я почем про то мог знать? Вор да вор – отец? Ай, яй, где его пришлось повидать! Отец!..
– Истинно отец он твой, а что не сказала – моя вина… Без закону ты им со мной прижит… Для страху не говорила – будет-де меня корить и не любить.
– Еще и корить! Так вот он кто – мой отец?.. Не занапрасно тогда Лазунка, наш гость, сказал: «Будь в отца!» – и учил стреле и на саблях рубить учил…
– Дитятко!.. Прахотная, думала я думу… Хошь глазом глянуть хотела… Выбралась идти, да ноги, боялась, не понесут далеко… И у дверей стоя четыре денька тому, чула – кричит народ: «Везут!» Ой, ослабела я, уползла сюда на перину… А нынче, вишь, казнили сокола!.. И мне помирать… остатни деньки с тобой я…
– Пошто так, мама? Жить живи, я лекаря сыщу… лечить тебя…
– Нет, Васильюшко. Не ищи ни лекаря, ни знахаря… Сердце исчахло, да и незачем маяться мне… Теплилось оно, мое сердце, все той же единой надежой увидеть сокола Степанушку, и вот…
Ириньица, не закрывая глаз и не меняя лица, плакала.
– Эх, мама! Разжалобил тебя, сказал, не знаючи. Ты не плачь. Что укажешь или пошлешь куда, все сполню… Не плачь – прикажи чего!
– Одну заботу положу на тебя, голубь-голубой… Сходи ты, сыщи товарища твоего, кой смелый и ничего не боится. Чула от тебя, такие есть… Я ему денег дам что попросит, ай узорочья – ничего не жаль, – лишь пробрался бы на лобное место и голову, псами боярами посеченную, Степанушкину, принес.
– Понимаю, мама! Принести?
– Только не ты, дитятко! Человека сыщи такого… Состригу я с той головы кудерышки да под подушку складу…
– Да, мама, не чула, – сказал я: обрита его голова со лба до темени…
– Ну, так прощусь с ей, дитятко… Легко мне будет, бесслезно… Сходи, сынок, за таковым удалым!
– Схожу, мама. А ты, родненька, не горюй! И пошто, пошто я раньше того не знал?! Отец!
Василий быстро поймал на лавке шляпу, подтянул кушаком распахнутый кафтан, а выйдя в сени, пошарил чего-то недолго.
Ириньица, медленно приподнимаясь, села на постели, провела руками по лицу и сперва тихо, потом быстрее несколько раз тряхнула головой, как бы себя убеждая, сказала:
– Ой, баба лежебока! В путь пора, а ты окисла в дреме?
Стала подыматься на ноги, ее пошатнуло, но с упрямством в лице она удержалась за кромку тяжелого стола:
– Буде, крепись. Дела много: обрядиться, подрумяниться, брови подвести… Ой, нерадивая!
Держась за стену, она подошла к шкапу, открыла и сквозь него прошла в прируб.
В подвале было ведомо время по часам – они висели на стене; гири их старательно по утрам подымал Василий. Но сегодня он куда-то заторопился, забыл, и часы стояли. Ириньица не видела часов, перебирала свои сарафаны. Оделась в белый атласный сарафан с лямками, низанными жемчугом, шитый золотыми узорами. Переменила шелковую рубаху на белую тонкого полотна, достала кику полегче, без очелья, надела. Одеваясь, шептала:
– По дружке Степанушке… в белом… не черном… ух, дай Бог силы!
С трудом выбралась в сени, нашла яндову с вином, через край яндовы выпила вина, закашлялась и, отдышавшись, поела белого хлеба:
– В путь-дорогу! В путь-дорогу, баба! Силы паси… кормись.
Вернувшись из сеней, стала прибирать горницу. Из коника вытащила скатерть малиновую бархатную, покрыла дубовую доску стола. В другом трехсвечнике установила и зажгла свечи. Поправила у образов лампадки и тоже зажгла. Покрестилась, но в землю боялась кланяться – не встать с полу.
В сенях застучали смелые шаги, вошел сын, поставил на лавку мешок:
– Вот на, мама! Принес!
– Ты? Сам ты?
– А кого еще искать в подмогу?
– Ой, сынок, сынок! Голубь – страшно… и тебя с моих глаз, боюсь, утянут окаянные…
Ириньица шепотом спросила, подходя, шатаясь на ногах, к лавке:
– Та ли головушка, голубь?
– Та, мама!.. Она… Чего не веришь?
– Я так, голубь! Я так… сказать…
Мать, раньше чем вынуть из мешка голову, обняла сына:
– Родненькой! Васильюшко! Дай поцолую тебя, соколик мой, и благословлю… Прости грешную…
– В чем прощать-то?.. Да благословлять пошто? Дай-ка выну я голову, снесу – тяжелая…
– Нет, сама! Сама, сама я, а ты поди, сынок, да приведи гостя, старца нашего…
– Он сказал: «Сам прибреду». Чуть не поволок его купец Редькин с приказчиками, что у лари у моста.
– Нет, родной! Сыщи – видишь, чуть не уволокли куда… С батюшкой твоим был – сыщи его. А я, може, отдохну… сосну мало…
– Опочинь да здрава будь! А ладно, мама, что опять пошла, как тогда, когда Лазунка был… Одно что-то мне нерадошно…
– Что ж нерадошно, отчего, дитятко?
– Так… я не знаю… Гляжу вот: нарядилась, как на свадьбу, а глаза…
– Что глаза мои, Васильюшко?
– Да все едино как плачут…
– Ой ты, ей! Голубок-голубой… Ой ты, – дай Бог тебе на путь доброй и силу возрастить… и крепким…
Ириньица еще раз обняла сына; сын в ответ на ее ласки тоже обнял мать торопливо. Уходя, ударил о полу кафтана шляпой:
– Эх, не хотелось бы уходить от тебя! Ну, я скоро, мама…
– Подь, голубь, с богом… Хоть ты и ненадолычко, а старца сыщи… Тут он, близ где-то…
– Сказал: «Прибреду». Темнеет, придет ужо?.. Ну, подтить, так иду!
В желтом свете свечей Ириньица стояла у лавки над мешком, высокая, вся плоская. Желтели клочья волос поседевшие из-под узорчатой красной кики. Тронула мешок исхудалой рукой и отдернула пальцы, отступила:
– Нет, не то! Нет, не то… иное… иное надо… надо.
Она подошла к сундуку за печкой, открыла углубление в потайную горницу. Негасимая у образа лампада тускло горела в подземелье. Ириньица, шатаясь, но уверенно подошла к портрету старика, пошарила рукой справа у рамы, нажала пружину. Портрет боком двинулся на хозяйку. В открытом шкапу в стене тускло светилась драгоценная посуда, золотая и серебряная, с камнями, в узорах. Ириньица, стиснув зубы, из последних сил напрягаясь, стащила с полки широкое серебряное блюдо с алмазами на верхней кромке. Блюдо ударило ее по ногам. Она села на пол и, боясь сидеть, скоро встала. Не закрывая потайного углубления в стене, так же выбралась, волоча за собой блюдо, и заперла вход.
Подошла, поставила, отодвинув трехсвечники, блюдо на стол. Отдышалась, тогда пришла к мешку, подсунула под него руки и перенесла к столу бережно. А когда сгибалась поставить мешок на пол, как помешанная от нахлынувших обрывков воспоминаний короткого счастья и горя, – запела колыбельную песню. Голос слабел, срывался, иногда шептал, но она пела и пела:
Старые старушки, укачивайте,
Красные девицы, убаюкивайте,
Спи с Христом!
Спи до утра – будет пора —
Разбудим… ворогов вон со двора…
Нагнулась, раскинув полотнища мешка, вынула окровавленную голову с синими губами и закрытыми глазами. Губы распухли, кровь почернела, облепила усы и бороду. Голова была гладко выстрижена, с левой стороны шла глубокая кровоточащая борозда. Ириньица поставила голову срезом шеи на блюдо, пела так же, или казалось, что пела, шептала:
Сон ходит по лавке,
Смертка – по избе…
Сон говорит – я дремать хочу…
Смерть взговорила – косу точу!
Опустилась на колени перед столом и навзрыд заплакала:
– Голубь-голубой, мой Степанушко! Вот, вот и свиделись… А сказал соколик: «Не видаться!» Да что ты, баба, наладилась в путь, а воешь. Нечего уж тут… лежебока! Берись за работу… Понесу, сокол, твою головушку по Москве, а упрячу, окручу ее в камкосиную скатерть. Несу любимое, родное… Не дам его никому – судите заедино с ним… Закопайте меня в лютую яму. Ой, берись! Буде… слезы… буде!
Цепляясь за стол, поднялась, прошла в прируб, оттуда принесла кувшин серебряный с водой и на плече полотенце. Плескала водой на измазанную грязью и кровью голову атамана, корила себя и плакала неудержимо:
– Баба, так уж баба! Глаза твои мокрые… ой, на мокром… Голубь… голубой… умою твое личико водой студеной. А я на торгу была и чула – стрельцов-то, кои меня выволокли из ямы, истцы-сыщики ищут, всю-то Москву перерыли, да не нашли… По начальнику весь сыск пошел… он-де пузатой… Соколик, сыщут тебя, и на дыбу с тобой… Да открой же оченьки!
Обмыла лицо и бороду, лоб и плохо заживший от сабли Шпыня шрам, открыла Разину глаза. И глянули потускневшие глаза еще раз, не дрогнули больше брови, хмурые и грозные.
– Вот так! Вот так… Ах, кабы, мой голубь, да словечко молвил – ой, може, молвишь что бедной бабе?! Нет, уж все прошло, минуло все, кануло, и жисть… жисть тоже. Пой ты, бессамыга! Пой, а то падешь, и никуда в путь… Ни… не отдам я тебя, мой голубь, сокол ясный, никакой крале!.. Перлами и жемчугом окручу твою головушку… Прикую сердце твое к своей кроватке золотыми цепями… Убаюкивать буду: спи, спи!.. Нет же, гляди, убаюкивать зачну. Пой, баба!
На тех огнях на светлыих
Котлы кипят, да кипучие…
Баю, баю-бай!
Да восстань, мое дитятко,
Со стены ты сними свой булатный меч…
Секи, кроши губителей!
Баю, баю-бай…
Гроза пройдет, да страшная,
Беда минет наносная…
Кувшин звякнул на полу. Ириньица, широко раскрыв глаза, попятилась к постели:
– Убит? Ой, убит! Не пройдет, не минет… Окаянные! Истерзали. Нечестивые и с царем опухлым! Лютые! Подожди, баба… Сердце!.. Сердце!..
Она упала навзничь на постелю, слезы высохли, глаза затуманились; с усилием глядя на мертвую голову, неподвижно уставившую в стену взор, Ириньица шептала:
– Сон по лавке… сон! Сон по лавке… придет пора… будим… раз… будим… – Вытянулась, слегка запрокинула голову, кинула одну руку вдоль тела, другую согнула на грудь…
– Мама! Нашел я его, игреца-гостя, – идет ужо. Ты спишь?
Сын, войдя в подвал, говорил все тише и тише, шагнул было, но сел на лавку, пятясь. Оглядывал как будто первый раз горницу: скатерть постелила? кувшин кинула и воду… а? обмыла, вишь, мертвое… На столе на серебряном блюде, сверкавшем алмазами, стояла голова атамана, и глаза его, которых не видел сидевший юноша, ему казалось, глядели на сонную Ириньицу, спавшую тихо.
– Оченно уж тишь! Жуть… Ой, да я часы не поднял! Не завел… дай-ка!
Василий встал и оглянулся на дверь. В сенях завозилось. Дверь толкнули, в подвал, сгибаясь, влез старик в серой бараньей шапке, с домрой в руке. Юноша махнул ему:
– Мать спит!
Старик снял шапку, перекрестился на икону и, оглядывая горницу, неслышно ступая лаптями, подошел к столу, осмотрел мертвую голову, шепотом спросил:
– Ты это, робятко, батюшкину голову принес?
– Я, дед!
– Чтоб не зорили дом и тебя, ежели хватятся, сыщут, поволокут, ухоронить ее надо…
– Даст ли голову отца мама? Она спит, что ужо скажет?
– Не баско как-то она возлегла, моя хозяйка! Дай-кось!
Старик пододвинулся, пригнулся к голове Ириньицы – опустил на пол домру и шапку из руки, широко двуперстно перекрестился:
– Молись Богу, родной, померла мать.
– Ой ты?
Сын, двинув на голове шляпу, обходя стол, припал к груди Ириньицы. Старик, косясь на него подслеповатыми глазами, подумал: «Ровно как отец шапку движет».
Сын не заплакал по умершей и шапки не снял.
– Померла, дед! Что с ей творить?
– Ужли, робятко, тебе не жаль родную? Уж коли так, то крепок сердцем ты!
– Жаль… только я не баба – выть не стану спуста… О могиле завсе помнила… Иножды уж думал: «Померла?» Послала искать тебя, а на дорогу обняла, целовала и крестила… Нынче что творить, говорю?
– Поди, робятко, к попу, снеси какое ему малое узорочье аль лопотину… Жадны они на мирское, и не все, да много их жадных… Церковной укажет, что с ней творить. Поди, родной! Я же в сей упряг проберусь, куда и голову батюшки земле предам… Попу ее казать не можно… Сказала, что отец тебе Разин, дитятко?
– Сказала, дед!
– То-то. А ты – «вор атаман».
– Пошто не знал?
– Поди, робятко, за попом! Я тут посижу… Житье-бытье наше удалое с атаманушкой попомню и про себя молитву сотворю…
– Иду я!
– А узорочье?
– Посулю. Есть, что дать.
– Стой, дитятко! Поклонись земно отца твоего голове… Немного таких отцов на свете, и будут такие не скоро…
Сын, сняв шляпу, склонился перед столом до полу, сказал:
– Прости, родитель, что, не знаючи, лаял тебя!
– Так, так, робятко.
– От сей день буду я думать о воле вольной и другим сказывать ее и делать что…
– Разумной ты, спаси тя Бог! Матушку свою укрой гробными досками с честью… Ладная была, домовитая хозяйка и на тебя добра не жалела… Обучили тебя многому умные, а остаток, в миру чего знать, сам дойдешь.
Юноша поднялся во весь рост, надел шляпу. Старик сел на скамью перед столом.
– Теперь к попу, дед. Завтре матушку схороним по чести, и ты будешь со мной…
– Стой-ко, робя, забуду, гляди! Тут где мешок, не вижу, да лопата, штоб рыть?
– Под твоей скамлей мешок… Лопата в сенях, от двери два локтя, справа…
– Тут он, мешок… нащупал. К тебе я приду ночлегу для, озорко одному в такой тиши с упокойной, да и схороним ее, провожу ее на керсту, а там пойдем по белу свету: я песни играть про грозного атамана Степана Тимофеевича, ты же теки на Дон-реку. Чул я от упокойной, знаю: рожон ты на Москве, Василей, да кровь родителева от Дона-реки… И придет, може, тебя для время спробовать, сколь отцовой силы в тебе живет?.. Поди, родной!
Юноша ушел. Старик посидел, пригорюнясь, погладил обмытую мертвую голову атамана рукой и, повернувшись к лампадкам, горевшим тускло, начал молиться да кланяться в землю. Встал с земли, поцеловал в синие губы мертвую голову, также поцеловал Ириньицу. Неторопливо ощупав мешок, спрятал голову Разина, взял мешок и, нашарив в сенях лопату, сгорбясь, побрел в сумрак серой ночи, бормоча:
– Бродить мне привышно… а это сделать безотговорно и надобно.
В ту же ночь с 6 на 7 июня 1671 года у лобного места, где казнили атамана, звонец церкви Григория, Трошка, подошел к столбу, врытому у ямы. Там в назидание и устрашение народа прибит был длинный лист приговора «Разину Степану и брату его Фролке». Потянулся черный пономарь сорвать лист и вздрогнул – за ним послышались лапотные шаги. Трошка рванул конец листа, оторвал и, привычно сунув за пазуху, полубегом пошел прочь.
«Испишу, а лист сожгу – не сыщут!»
Отойдя, оглянулся, увидал: около ямы, где торчали вверх руки-ноги казненных да чернела стриженая голова на высоком колу, медленно, не глядя по сторонам, ходил старик в кафтане, лаптях, мохнатой шапке, сгорбясь, поглядывал в землю и как будто искал чего…
У себя под трапезой, завесив окошки, пономарь зажег на столе восковые огарки, очинил гусиное перо и, придвинув чернильницу, списывал кусок приговора, шевеля русой курчавой бородой, думал:
«Остатки со столба сорву – испишу все…»
Он переписывал:
«…Вы воры и крестопреступники и изменники и губители душ христианских, с товарищи своими под Синбирском и в иных во многих местах побиты, а ныне по должности к великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея великия и малыя и белыя Русии самодержцу, службою и радением войска донского атамана Корнея Яковлева и всего войска и сами вы поиманы и привезены к великому государю к Москве, в роспросе и с пыток в том своем воровстве винились. За такие ваши злые и мерзкие перед Господом Богом дела и к великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Русии самодержцу, за измену и ко всему Московскому государству за разоренье по указу великого государя бояре приговорили казнить смертью, четвертовать».






