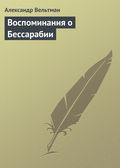Александр Вельтман
Странник
День ХLII
CCXCIX
Pour ne rien laisser en arriиre, je vous dirai, monsieur, que…[459]
(Lettre sur le tкtes parlantes. Rivarol)
Я еду далее, по пустырю Силистрийского Санджака, на Гирсов. После шести часов езды лошади устали, желудок опустел, должно было искать приюта от дождя. Вот в стороне от дороги видно какое-то киой. Посмотрим на карте. Карамурат-киой, Дана-шой… Бог знает! Дана-киой или Кара-мурат-киой?… Судя по расстоянию от Гирсова, должно быть Дана-киой… но Дана-киой влево от дороги, идущей из Кистенджи!.. Впрочем, и Карамурат-киой… да… не более трех верст по карте… но столько ли в натуре?… На карту надейся, а сам не плошай! – говорит военная пословица.
Так рассуждал я, а между тем бричка двигалась вперед. Киой осталось версты две уже позади. – Стой! назад! не все ли равно, Карамурат-киой или Даш-киой? и там, и там пусто. Нужны только вода, очаг да камыш. Ступай! И вот въезжаем в деревню. Чисто, и домового нет!.. в одной трубе дымок… может быть, турки?… нет!.. видна бричка… подъезжаю.
«Ба! В…!» – А! Н…! что ты здесь делаешь! – «А вот взойди, посмотри».
Одна булгарская землянка уцелела от совершенного разрушения; над нею еще была крыша, внутри ее был еще очаг. Перед очагом, в котором трещал уже камыш, лежал огромный чемодан; на чемодане стояла оловянная чаша; из чаши клубился пар, как из Везувия.
Я не буду ни опровергать, ни подтверждать догадку читателя, что в чаше заключался суп, сваренный на подобие супов французских на воде, немецких на шоколаде или на пиве, английских на вине, китайских с кирпичным чаем, восточных на всякой всячине; не буду спорить о вероятности предположения, что то были щи русские или борщ польский, с свеклой; малороссийский на капустном или огуречном соке; молдаванский с виноградным листом; не скажу, справедливо или нет заключение, что в чаше была уха, столь же жирная и вкусная, как уха Демьянова[460].
И странно было бы спорить о том, чего я сам не успел исследовать, хлебнув сгоряча чего-то необыкновенно горячего. Язык мой загорелся, из глаз посыпались слезы, аппетит исчез.
ССС
Ожога лишила меня часа на три памяти и внимания, и потому в нескольких словах переношу я себя и Н… из Дана-киой или Карамурат-киой по грязной дороге в Гирсов.
Читатель может себе представить влево от дороги темно-голубую ленту Дуная, лежащую на одичалой природе; вправо покатость гор; позади себя путь, который мы уже совершили; перед собою гласис[461] кр. Гирсова, мост чрез ров и каменные ворота в средине куртины[462]; над собою вечернее небо со всеми признаками осенней, дурной погоды.
Таким образом, проходя церемониальным маршем вместе со всею Вселенною пред Временем, мы пронеслись чрез мост и ворота и катились по гирсовской улице под гору, к комендантскому дому. Коменданта дома нет; плац-адъютанта дома нет.
Вечер держался уже на ниточке.
Какой-то солдатик взялся отводить нам приличную квартиру.
Долго водил он нас между рассеянными по крепости деревянными, полуразрушенными домами, занятыми под гошпитали и магазины; наконец, как бы случайно, нашел пустой дом.
«Господин служивый, здесь ни окошек, ни дверей! очаг и труба маны!»
Идем далее.
«Вот еще дом, годный под квартиру, В. в-е![463]»
Я отворяю двери, вхожу… темно… Наступив на что-то мягкое, я невольно остановился… гляжу под ноги… «Любезный друг, здесь есть уже постояльцы!.. если не живые, так мертвые!.. смотри, сколько их разметалось по полу!»
«Виноват, В. в-е! – отвечал простодушный солдатик, – здесь, верно, гошпитальный амбар для склада покойников.»
Опять пошли ходить и ездить.
Еще квартиру показал пам вожатый наш. Тепла, хороша; но в ней только что упокоился один офицер, бывший в горячке.
– Невыгодна квартира! показывай другую.
«Больше нет, В. в-е!» – отвечал наш квартиргер[464].
Положение наше было не очень приятно: ночью, под дождем, посреди грязных улиц Гирсова. Однако же оно скоро улучшилось. Узнав, что плац-адъютант уехал на несколько времени из крепости, мы расположились в его квартире, теплой, снабженной всеми потребностями, необходимыми для военного спокойствия.
День XLIII
Сей день должен был начинаться главами CCCVII и CCCVIII; но так как они не явились в назначенное время к своему месту, то и были арестованы мною на двадцать четыре часа.
(Примечание)
CСCI
Хотя бы нить памяти вашей и была короче расстояния между хвостом и головой Большой Медведицы, но, верно, вы не отказались бы нанизать на нее и прекрасное правило жизни:
Будь тем, что есть;
Ходи без маски;
Люби не лесть,
А только ласки.
Людей люби;
Не крась природу;
Не много спи,
Пей больше воду.
Божбе не верь;
Все весь и мерь;
Не нянчи тело
И делай дело.
СССІІ
Таким образом, в молодости, нанизав на память все прекрасное, все полезное, все высокое, под старость от нечего делать можно перебирать эти четки.
Как сладко воспоминание, как хороша и старость, когда она есть тихая задумчивость о прошедшем!
Жизнь наша требует того, чтоб каждому делу предшествовала мысль и новая мысль последовала за делом.
Помните ли вы… вы, которую я не знаю, как назвать… вы, которая так похожа на все, с чем поэты сравнили красоту и добродетель, помните ли вы чувства той минуты, в которую сердце вам сказало: «Ты сделала добро!», а все окружающее подумало: «Как она совершенна!».
СССІІІ
Если бы мысль моя была так глубока, как океан в том месте, где измерял его Форстер, и так высока, как слой воздуха, до которого долетал Гай-Люсак[465], то подобная красноречивая мысль не нашла бы по себе языка, и ее пришлось бы выразить красноречивым молчанием; потому что красноречивое молчание могущественнее, выразительнее красноречия словесного. Это подтвердят вам все мои читательницы. Их тонкому, чувствительному слуху более понятна пауза между двумя очаровательными аккордами, этот сокровенный звук, слышимый только одною непорочною, чистою душою.
CCCIV
Не сердитесь же, что в этой главе не слышен вам скрып моего пера. Это пауза. Здесь мысль моя выражена молчанием.
CCCV
После трехдневного жития в крепости Гирсове, по причине невозможности переправиться чрез бурный Дунай, наконец на четвертый день поутру солнце стало проглядывать сквозь остальные облака, и я двинулся с места.
Не буду описывать, как прибыл я в г. Галац, где первоначально предполагалось зимованье Главной квартиры действующей армии.
Галац из повести одной,
Мне кажется, уж вам известен[466];
Вы помните: ее герой,
Хотя был молод, добр и честен,
Но, убоясь гнилой тюрьмы,
Сибирской жизни и зимы,
Бежал. В невольники попался,
Гречанку спас и от чумы
В ее объятиях скончался.
И потому я не буду также описывать и картины Галаца. Это небольшой городок на скате Дунайского берега, сжатый реками Серетом и Прутом в небольшую пристань стекаются в известное время несколько десятков купеческих кораблей и меняют архипелагское вино, турецкий табак маслины, апельсины, лимоны и масло на жирную пшеницу Молдавии и – отправляются куда следует.
CCCVI
Надежда моя оставаться в Галаце и расположиться на покойной квартире обманулась, но приятным образом.
Едва только въехал я в двор одного жителя города, как мне принесли от коменданта предписание из Главной квартиры на мое имя о назначении зимовать ей в г. Яссах.
В Яссы!..
День XLIV
Vulсain (а part).
Ah, nature nature! vas, je t'abandonne, a qui vondra te prendre![467]
Pandore. St. Foix
CCCVII
Человек счастливее, спокойнее, довольнее жизнию, когда он имеет дело с самой природой, а не с людьми.
С какою благодарностию и щедротой сравнится благодарность и щедрость природы? Кто лучше вознаградит труд?
Надежный взаимодавец! верный должник наш!
Свободен, здоров духом и телом тот, кто обручился с тобою духом и телом!
CCCVIII
Испытали ли вы, друзья мои, те минуты, в которые окружало вас земное бедствие со всеми своими видимыми и незримыми свойствами и принадлежностями; но сердце ваше было неприступно для него, как небо, и вы улыбались, как ангелы, присутствию терпения и надежды?
Это лучшие минуты жизни. В эти мгновения
Я не земной, я чем-то полон,
Для мысли места пет во мне!
И рад я, мирен! ибо мысль
Есть тайный в нас зародыш горя.
Вздох о потерянном блаженстве
Беспамятен в душе моей,
И будущность… по что мне счастье?…
По образу своих желаний
Создам и возгнушаюсь им!
CCCIX
Mes regards voulent pénétrer dans la profondeur du passé; mais je n'y vois qu'une lueur incertaine, semblable а celle des rayons de la lune réfléchis par la surface d'un lac éloigné. Lа brillent les flambeaux de la guerre; ici je vois une génération faible et vile, passer dans le silence, sans marquer les annés d'aucune action éclatante.[468]
Cathloda. Chant. III
Теперь я, милые мои, на почте Борда, ожидаю с нетерпением, покуда мне запрягут четырех тощих кай[469]. Но я вижу уже речку Бахлуй и г. Яссы с его протяжной улицей-маре, с его княжеским сгоревшим дворцом, с его церквами и монастырями, которые, как отдельные древние замки, возвышаются на холмах, одетых виноградником; – вижу за городом пространный зеленый ковер…
Копо, Копо, зеленое Копо!
Где бог любви явился Мититикой
Где кобзы зык и звуки песни дикой
И поо-поо-померани-по![470]
О сила воображения! Представьте себе, мне кажется, что я уже в толпе красавиц Молдавии, иду по полю, очарованному их прелестью! Вот та, которая всех лучше, отдалилась от общества, я преследую ее, она останавливается, я тоже, она оглядывает окрестную природу Ясс, и я также.
Я
Как мир величествен, чудесен!
Взгляните вдаль!
Чу, в роще звук веселых песен,
(показывая на сердце)
А здесь… печаль!
Надежду на удел счастливый Пришлось забыть!
(после молчания)
Вы что-то слишком молчаливы?
Она
Что ж говорить?
Я
Что говорить? а! это ново!
Но я пойму,
Что сказано на место слова:
Конец всему!
Она
Не знаю, чем вы недовольны?
Я
Ничем и всем!
Для вас… мои слова не больны,
Язык мой нем;
И потому… Но вы ласкали,
С ума свели!
Чего во мне вы так искали
И не нашли?
Быть может, чем-нпбудь наружным
Не нравлюсь я?…
Иль не сходна с климатом южным
Любовь моя?
Или… пресытясь спозаранка…
Но вас мне жаль!
Понятно все: вы молдаванка,
А я москаль!
Прощайте!
СССХ
Все это было не что иное, как мечта на пути к Яссам; но мысленное равнодушие красавицы так на меня подействовало, что я велел остановить лошадей, выскочил из каруцы и пошел в сторону, в лес – воображая, что удаляюсь от жестокой молдаванки.
– Как! – вскричал я, остановясь пред глубоким оврагом.
«Как!» – отозвалось в лесу.
Я оглянул все кругом себя.
«Где же она?» – Нет ее и не было, – сказало мне сердце, пришедшее в память.
– Как! – повторил я, – неужели горе, тоска, грусть, исступление могут родиться одинаково от причин истинных и от причин воображаемых?
«Да, – сказал мне Математик, – потому, что а² происходит одинаково от (+а)Х(+а) и от (-а)Х(-а)».
– Понимаю.
Убежденный таким ясным доводом, я возвратился к моей почтовой каруце, сел в нее, суруджи хлопнул по лошадям бичом своим, они замялись, дернули врозь, второй удар согласил их – и я понесся.
СССХI
В надежде, что капли мудрости, падающие с неба, проточат когда-нибудь камень невежества и преткновения, огромный, как твердь земная, я еду. не оглядываясь назад.
Для жизни, как и для дороги, одно правило:
Не торопись: смотри постоянно перед собою; озирай даль, чтоб не сбиться с дороги; с горы не гони, чтобы не сесть под горою: встречным кричи заблаговременно: держи право! съедешься – посторонись; лают собаки – не дразни; ползет змея – не наступи и не слушай, что она шипит; попутчикам, умному не говори, что он умен, глупому, что он глуп, – не отделаешься от них; не выказывай ни доброты своей, ни золота – обкрадут; и т. д.
Но это правило для людей обыкновенных… впрочем, кто считает себя человеком обыкновенным? Я умолкаю: люди необыкновенные, то есть гении, есть кометы, которые совершают путь неопределенный, не подлежат общим законам.
CCCXII
Лошади мои пристали, сбруя покрылась пеною, пар стлался над ними, как туман. Суруджи, также усталый, тщетно оббивал волосяной конец арапника и кричал: хи-мэ! мурилэ![471] Таким образом тянулся я по улице-маре, через поду Могушой[472].
Вправо и влево бросались мне в глаза то бакалеи с широкими окончинами, то кафенэ, в которых сквозь двери и стеклянные простенки видны были прямо: черный очаг, уставленный различной величины кофейниками; посредине: жаровня; по сторонам: диваны; на диванах, в чалмах, кушмах и фесях, в фермелэ[473] и в мейтанах, усатые гости. Молча играют они в куонхину, в трик-трак[474] и, глотая кофе, обдают себя табашным дымом. Почти из каждого окна знаменитой улицы выглядывало женское лицо и провожало Странника любопытными взорами с мыслию: москаль! Я тешился, замечая различие этих выставлявшихся не на показ головок. То в шляпке с цветами – я видел только глаза; то в платке, опутывающем черную косу – свежесть и здоровье; то в мушках, осыпанных жемчугом и обложенных золотым кованым плетешком – протяжное слово: wus?[475]; то в белом или красном фесике – следы утомления; то в огромных накладных буклях – Пентефриеву жену, когда она смотрит на Иосифа[476]; то под прозрачным покрывалом – ложную стыдливость; то с приглаженными и заплетенными в косу волосами – смиренное бездушие; то с всклокоченными кудрями – загоревшее чадо табора.
Но вот наружность улицы постепенно лучше и лучше. При повороте влево, от сгоревшего дворца господарского, встречаются совсем другие предметы.
Расцвеченные венские коляски снуют взад и вперед. Купоны и куконицы, разряженные в атлас, в мусселин, в органди, в гроденапль, в gros-de berlin, в gros-de-tour, в satin-turc, в gros d'orient, в satin de la reine, в batiste d'écosse[477], в тюль, в кисею, в креп, в газ, в перкаль, в кашемир… в блондах, в кружевах, в шалях, в платках, в пелеринах, в шемизетках, в канзу, в шарфах, в корсажах, в вуалях, в колеретках, а la vierge, а la gardinière, а l'anglaise[478], в перьях а I'Inca[479], в платьях с рукавами в виде берета, в виде côtesdemelon, oreilles d'éléphant[480]… Устал!.. словом сказать, во всех изменениях орнитологии, по системе венской, парижской и лондонской, купоны и кукопщы куда-то торопятся. Беззаботные, самодовольные лица с пылкими очами, с природным и китайским румянцем, с собственною и свинцового белизною сыплют взоры вправо и влево. Я еду.
CСCXIII
Для прохожих мало места на улицах, покрытых деревянного мостовой. Только простому народу и иноземцу не стыдно идти пешком.
CCCXIV
Qui prouve trop ne prouve rien.[481]
(Axiome)
Но вот направо и налево – лавки и магазины, наполненные изделиями Турции и Австрии. Штемпели Вены и Лейпцига, Стамбула, Измира ручаются за дешевизну и доброту.
Не довольствуясь тем, что необходимость и желание перевести деньги наполняют лавки и магазины покупщиками, сидельцы ловят вас на улице, уговаривают, влекут насильно в лавку, соблазняют дешевизной, уступкой, и, прежде нежели вы решились купить то, на что взглянули, товар уже отмеряв, взвешен, отрезан, завернут и всунут вам в руки; – что же остается вам делать? – платить.
После этого верьте вышеозначенной аксиоме! Кто больше жида уверяет, что товар его ganz fain[482]?А вы принимаете все за чистые деньги.
К проезжающим мимо лавок – то же жестокое внимание, то же насильственное угождение.
Не успели еще усталые лошади мои сделать нескольких шагов между длинными строями лавок, и уже потомки Израиля обсыпали мою бричку и набросали в нее всего, что по догадливости своей они считали нужным мне продать. Что было мне делать? Лошади мои, как будто подкупленные жидами, стали, и я должен был выслушать цену товаров: – Батист, батист! – кричал рыжий еврей, – ganz gut. fain![483], восемь червонцев за штуку! – Голландское полотно! – кричал другой, с витыми пейсами, – äch! fünf Dukaten Stuck[484]! Сукно Sedan, пятнадцать левов локоть. Шаль! бур-де-суа! четыре червонца! кэртс ди вист ку карикатурь[485]!опту-спре-зечи лей! кумпара, кумпара, боер[486]! Kausen Sie, kausen Sie, mein lieber Herr[487]!
– Сараку-ди-мини[488]!
CCCXV
На улице-маре, против дома Пашкана, в котором жил главнокомандующий, была отведена мне квартира. После восьмимесячной кочевой жизни в пустынях булгарских широкие диваны бояра Ионы Некульчи-Муто показались мне нежнее дружеских объятий. В одно мгновение я успел на каждом из них присесть, прилечь, свернуть под себя ноги а la turc[489], развернуть, протянуться и быть во всех положениях лени, неги и спокойствия.
Бот и чемодан мой! и он порадуется спокойствию, и ему протерли бока.
Денщик и суруджи вдвоем
Втащили в комнату мой дом.
Суруджи
– Хэ! маре драку![490]
Денщик
– Тяжеленек!
– Да, – думал я, – не мудрено!
В нем все, что богом мне дано,
Все, кроме радостей и денег!
CCCXVI
Ласковые хозяева приняли меня, как родного.
Вскоре явилось ко мне с вином на подносе, с дульчецом, и кофием, и с трубкою дюбеку презанимательное лицо.
«Пуфтим, боерь! – сказало оно мне, – кала краси! дульцец, кафэ ши люлэ!»[491]
– Благодарю, друг мой. Скажи, пожалуйста, ты здешний? «Ey целовек грек, капитан Микулай; ам зинка, коптел мулт![492] нам камес, нет страи![493] дают кукон си куконица стран си камее; турци мынкать со![494]»
– Жаль; выпей с горя вина.
«А, халоса! кала ине краси![495] Капитан Микулай слузил государски…[496] сол антелериски, такой большой тунуруле[497] ey показит дорога: дела Хотин, на Бендерь, мерже на Измаил… Инарал командирски[498] дают на капитан Микулай зна хартия!... такой пальсой пумаг!.. пецат-луит: и проци и проци и проци![499]… Кульерски пумаг!.. ги!.. гуляй на поцта кульерски!.. динь, динь, динь, динь! пасоль, пасоль!.. и дают ина-раль командирски другой пумаг… халоса!.. писит: капитан Микулай слузил государски, халоса… дают цин капитан, халоса цин, государски!.. Сто пайдот на Царьград?»
– Пойдем.
«Сы ey пайдот!.. я был на баталия ку немца![500]… на Фоксань![501] Кнезь паслот меиэ с провиантски каруца на Кобурски![502]… Немца идот, идот, идот!.. так! Венгерски гусарски… так… халоса!.. Бозе мой!! Тур-ци!!! многа, многа!! Визирь ку кавалерия, на армасарь Анатольски!![503] идот! Я лезит на карэ[504]. Бум, бум, бум! тунурулэ. А! страсна!.. я лезит на земля… Бозе мой, бозе мой! пропадит немца!.. Венит Суворов!!![505] Бум, бум, бум!!! пжи-жи-жи-жи, пжи-жи-жи-жи!!! Хи! Фужит драку турци!![506]»
Пылкое воображение целовека грека, недовольное смешением греческого, молдаванского и русского языка, дополняло слова представлением всего в лицах. Для изображения визирской кавалерии и венгерского гусарского полка указательный и средний палец правой руки седлали указательный палец левой.
При слове идот! правая ладонь плавно двигалась параллельно земле, а голова Микулая поднималась гордо вверх, как у всадника. С словом: ey[507] лезит на земля – он распростирался по полу и лежал несколько мгновений молча, неподвижно. При слове венит Суворов! весь корпус целовека грека встряхнула радость о избавлении от гибели.
Дорого бы дал иной италианский импрезарио, чтоб иметь право показывать капитана Микулая на площади.
Насмеявшись вдоволь, я прервал рассказ его о взятии Хотина, о пришествии турок в Яссы, о битве этеристов при Скулянах.
– Где тут бывает гулянье? – спросил я его.
«Гуляй?… пи улица. Куношща мулт[508], молдаванка, грецанка, ирмэнь[509]».
– Хороши куконицы?
«Халоса? гуляй… так… Хэ! Капитан Микулай знай… Мой тата си мама зивот на Царьградски бурика[510]. Их! там девка халоса! Бозе мой! какой халоса!»
– Прощай, я иду гулять. «Бун, бун, боярилэ[511]».
CCCXVII
Счастия миг, юность лови!
Путай себя в цепи любви!
Время, как молния, быстро летит,
Юность увянет, сердце сгорит.
(Эпиграмма)
С этою мыслию сел я на дрожки и пустился в Копо. Два ряда экипажей совершенно стеснили улицу, мне не хотелось тянуться в рядах, – мимо!
Кто знает московские гулянья, тот может себе представить, что в Яссах всякий день, без исключения… виноват… исключая бурные дни… подобные гулянья в экипажах составляют некоторую обязанность почти всех классов жителей. Это род моциону от засидения, от скуки; род выставки по части промышленности сердечной; род far niente[512], от нечего делать; род привычки, основанной, как большая часть постановлений и законов молдаванских, на слове дупа обычулуй[513].
Два рода экипажей тянутся от сгоревшего господарского дворца вверх и вниз но улице-маре, чрез поле Копо.
Природа красится присутствием людей,
А жизнь чистейшею любовью;
Но что же жизнь, когда должны мы в ней
Предать все чувства хладнокровью!
И потому я ехал, рассматривая внимательно все, чем движущиеся оранжереи были наполнены.
День XLV
CCCXVIII
Cimmeriae tenebrae[514]
В пылкие, неопытные лета юноша горделиво воображает, что он создан разгадать тайну мироздания. «Много прошло времени от начала мира, – думает он, – может быть, еще более остается до конца его… Были великие люди, соединявшие в себе ум и чувства целых народов и целых столетий… они разгадали кое-что… Должен же родиться на свет гений, у которого зрение будет телескопическое, слух подобен фокусу эллиптическому, память велика, как книга Вселенной, ум ясен и основателен, как формула алгебраическая, а рассудок верен, как вывод… Почему знать… может быть… я…»
Таким образом рассуждая, молодой человек внезапно встречает небольшое существо, лет… но лета ничего не значат… нежное, чувствительное, полное жизни и красоты. Забыта высокая цель существования! С этого мгновения не тайну создания разгадывает юноша, а сердце чудной своей встречи. С каждым ударом пульса, с каждым словом, с каждым взглядом, шагом и вздохом она увеличивается в глазах и понятиях юноши до бесконечности и, наконец, обращается во Вселенную, а вся Вселенная, постепенно уменьшаясь, принимает на себя вид ее. Какой переворот!
CCCXIX
Твой друг с тобой, моя Лавиния[515]!
С тобой! но ты
Таишь следы
Какой-то грусти и уныния?
Любовь моя!
Ужели я
Покину рай мой и Италию?
Как честный грек,
Я твой навек!
Не убивай себя печалию!