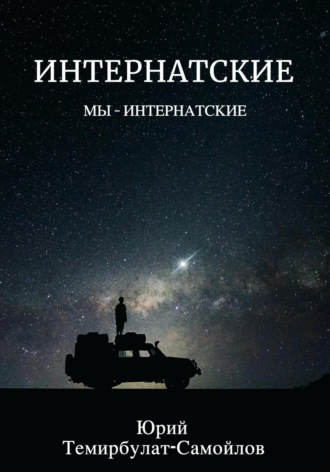
Юрий Темирбулат-Самойлов
Интернатские. Мы – интернатские
– Дал бы ты, отец, отвару усыпляющего. Девчонке лучше спать в такой нелёгкой дороге, да покрепче, – попросил Фатхулла.
Старик незамедлительно исполнил просьбу, и когда снова повернулся к дому, чтобы притворить дверь, а затем проводить гостей хотя бы до ближайшей развилки, в спину его полетел нож.
На этом миссия старика в этой жизни закончилась – не во всяких делах нужны свидетели, даже если это стократно проверенные люди.
– Ну, на Кундуз! – провозгласил один из всадников, забрав назад уже не нужные старику ружьё и деньги.
– А через Кундуз, волей Всевышнего, – и на Кабул! – вторил ему другой, и лёгкой рысью всадники тронулись в путь.
В ОДНОЙ СТРАНЕ, ВОЗМОЖНО, ГДЕ-ТО РЯДОМ…
– Вот так мы и превратились в иностранок, – Динара отвела голову Николая Николаевича от своей груди. – О, как я хотела все эти годы, чтобы ты был рядом! Особенно когда советские войска вторглись в страну – чувствовала, что ли, что в военные ты пошёл. Душа кричала… звала. Но и в то же время боялась увидеть тебя в стане завоевателей, силой насаждающих в чужой стране свои порядки.
– А я мог убить свою любимую… разбомбить с воздуха её жилище, как много других домов.
– Нет, не мог, Коленька. Не мог! Не верю, что не почувствовал бы, и не прекратил бомбёжку или стрельбу в мою сторону, даже не зная доподлинно, а всего лишь допуская, что я здесь.
– Динка, ты как в воду глядишь! Кое-что подобное было ведь.
– Рука в какой-то момент дрогнула у такого доблестного воина? Неужели?
– Я серьёзно, не смейся. Знаешь… как раз на тему «не мог» твой Коленька совершил, таки, в Афгане именно подобное воинское преступление. Однажды, во время завершающей воздушной атаки на душманов, дал команду «отставить». Не смог заставить себя стрелять, и всё.
– «Врагов социализма» пожалел? А как же военная присяга?
– Да не врагов социализма… ну, хватит иронизировать, прошу тебя… дети там были, в развалинах кишлака этого. И, рискуя жизнью, бежали по открытому пространству, чтобы спасти от наших залпов привязанную к дереву собаку. Точно такую же собаку, и под точно таким же деревом, как у нас с Илюхой в детстве были… в общем, самого себя легче убить.
– Убить… слово-то какое. Вы слишком много убивали, не задумываясь.
– Убивали и нас немало, порой зверски, со страшными пытками… нередко коварно – не в честном бою… в спину. А мы просто выполняли приказ…
– Но люди, которых убивали вы, вторгшись в их земли, вмешавшись в их жизнь, тоже «просто» защищали, как умели, свой дом, свою веру, свой жизненный уклад. Зачем всех насильно делать коммунистами? Кто звал вас в эту огромную патриархальную, по сути живущую ещё средневековыми традициями исламскую страну? Кучка политически обанкротившихся
местных коммунистов, жаждущих власти над многомиллионным народом?
– Прости…
– За что? Не у меня, а у них, у тех, на кого вы напали, надо бы просить прощения.
– Это только теперь наши глаза немного раскрываться стали, да и то далеко не у всех. А тогда… тебе трудно, наверное, понять тот наш великодержавный патриотизм, гордость за причастность к великой освободительной миссии, которую в мировом масштабе осуществляла, как нам внушали с пелёнок, наша непобедимая советская армия. Хотя, и воспитывались вы с Гулькой вместе с нами в Советском Союзе, но покинуть его вам пришлось слишком рано, в том возрасте, который у мужчин называют доармейским… и вы ко времени начала этой войны – были уже не мы… а мы были ещё не вы.
– Может быть.
– Да, Динара, к тому времени, когда началась эта бойня под знаком «братской помощи великого советского народа великому афганскому», вы уже пожили за пределами нашей страны, видели, а значит и осознавали больше.
– Не буду отрицать, но и оправдывать вас не могу и не стану. Давай, отвлечёмся от этой военно-политической темы. Она неисчерпаема, да и не хочу я превращать нашу такую долгожданную встречу в дискуссию. Мы так давно не виделись…
– Да-да, ну её, войну, будь она неладна… поговорим лучше… в общем, как вы жили-то на чужбине столько лет? Прости ещё раз… если неудобно говорить, не говори. Я пойму.
– Нет, почему же, ничего такого постыдного, что нужно было бы скрывать, мы с Гульнарой, смею думать, не совершили. Хотя жили по-разному. Ей повезло больше, если это можно обозначить термином «везение». А вот мою историю не то что жизнью, а и существованием назвать трудно.
– Диночка, любимая, пожалуйста, не рассказывай, если больно.
– Но я же вижу – ты сгораешь от нетерпения. И, наверное, от ревности. Эх, Колюха, Колюха! – она опять прижала к груди голову генерала.
– Ты была замужем?
– Да.
– А сейчас?..
– Теперь нет. И, к счастью, давно.
– А Гулька?
– Гульнара тоже, как и я. Её мужа-миллионера коммунисты расстреляли без суда и следствия в самом начале войны, сразу после штурма аминовского дворца13. Осталась она богатой вдовой-наследницей, что дало ей возможность изменить в лучшую сторону и мою судьбу.
– То есть… ты свободна!
– Свободна, Коленька, свободна. Только, здоровье… ещё тогда, вскоре после нашего похищения Тохтамышевым, когда я сбежала от его людей в горах, сильно простыла, застудила себе всё на свете. Да и позвоночник повредила, скатившись со скалистой горы. Вот, теперь ноги временами отказывают.
– Вылечим!!!
– Лечилась я много. Но не всё подвластно даже передовой современной медицине. Например, после тех потрясений и невзгод, когда нас похитили и переправили за границу, я не могу рожать. А у Гульнары двое уже взрослых. Было бы больше, кабы… да ж я тебе только что рассказала о гибели её мужа.
– А этот мерзавец Тохтамышев, – слава Богу, покойный теперь, – как от вас отстал-то?
– Карим! Как от нас с Гулькой отстал тогда Тохтамышев? – позвала Динара Карима Умурдзакова, продолжавшего без устали и почти не пьянея
при всём обилии выпиваемого сегодня спиртного, излагать гостям историю, счастливую концовку которой с удовольствием наблюдали сейчас все.
– Как отстал? Гульк! Расскажи людям, – окликнул Карим Гульнару, не отрывающуюся от крепко обнимавшего её Ильи Николаевича.
– Чего? – не сразу очнулась Гульнара. – Как отстал? Кто? А-а… ясно. Так мы с ним с момента нашего похищения и не виделись. Мне, правда, было известно от одного более-менее человечного охранника, что он иногда наведывался тайком, наблюдал за мной, подсматривая через хитрое зеркало в стене, любовался… но не приблизился и не дал о себе знать ни разу. Боялся чего-то…
ЧЕРЕЗ КУНДУЗ – НА КАБУЛ
(продолжение ретроспективы)
– Гу-ль-на-ра!
Потерял я…
Назар-ака осёкся в своём привычном песенном приветствии на полуслове: Гульки на её обычном месте – на тахте в углу комнаты, не было. Как не видно было в помещении и охранника, которого следовало сейчас сменить.
Оторопело обшарив глазами всё вокруг, Пончик выскочил во двор, забежал обратно. Стоявшая рядом с гулькиной постелью ширма, за которой она обычно раздевалась и одевалась, шевельнулась. Из-за ширмы послышалась возня, и тут же приглушённый вскрик:
– П-пом-могите!
Отшвырнув ногой ширму, толстяк увидел, как Гульку, зажимая ей рот её же тюбетейкой, пытается связать «джигит товарища Тохтамышева» Нурулла, только что всю ночь бдительно охранявший её. Гулька, визжа сквозь тюбетейку и отчаянно сопротивляясь, изо всех сил слепо колотила по Нурулле кулаками и ногами. Когда она попала ему один раз в глаз, он и сам взвизгнул как девчонка. Но, похоже, эти удары волновали его куда меньше, чем вероятность того, что девчонка сумеет поднять шум и кто-то из не посвящённых в особо тайные указания хозяина подельников вздумает вмешаться. Поэтому он старался в первую очередь удержать на её лице тюбетейку, не отпустив и тогда, когда строптивица пребольно даже через толстую ткань, укусила его за пальцы.
Угрожающе запыхтев, Пончик вынул из-за голенища сапога остро отточенный нож.
– Отпусти!
– Да пошёл ты, ишак! – Нурулла, отшвырнув Гульку в сторону, взялся одной рукой за плеть, а второй потянулся также к своему сапогу. – Хозяин здесь уже не появится. Саид-ака у нас теперь за главного. А он приказал сниматься.
– Куда?
– Не твоё дело. Ты, пузатый, остаёшься на базе.
Назар понял всё. Замыслы на случай невозвращения сюда Тохтамышева были примерно одинаковы у всех, наверное, его помощников – участников данного предприятия: правдами и неправдами заполучить красавицу-пленницу себе и распорядиться ею по собственному усмотрению. А выбор в таком случае для счастливца невелик – либо жениться на ней, либо повыгоднее продать в ближайшем отсюда из мусульманских государств Афганистане. Третьего не дано, поскольку, если девчонку отпустить и она доберётся до людей, то всему отряду тохтамышевской гвардии крышка. И никакие связи хозяина не помогут. Потому что ему самому тогда тоже – хана.
Нет уж, кому-кому, но только не одноглазому Саиду можно сейчас доверить драгоценную пленницу. Да и… прикипел к ней душой за время её заточения здесь Назар. Видно, и она к нему не слишком плохо относится, даже прозвищем наградила вполне дружелюбным.
Не успел Нурулла дотянуться до сапога – нож Пончика со скоростью пули вонзился в его кадык. В то же мгновение горло самого умельца метать
ножи, так и не постигшего другого не менее полезного в его нанешнем роде
деятельности ремесла – владения приёмам рукопашного боя бывшего нотариуса больно перехватила накинутая сзади удавка выросшего как из-под земли мощного Одноглазого.
– Не дам девку… – прохрипел в предсмертной судороге Назар, и грузно свалился, бездыханный, под ноги своего убийцы.
Окаменевшая от ужаса Гулька, не успев пролить и слезинки, чтобы оплакать участь добряка Пончика, была оглушена ударом по голове. В сознание она пришла уже на территории чужой страны.
НА ЧУЖБИНЕ
(погружения в ретроспективу)
По прибытии в Кундуз, сёстры сразу же были разлучены доставившим их сюда одноглазым Саидом, и разлучены сразу по нескольким весомым причинам. Главная из этих причин состояла в значительном ухудшении состояния здоровья Динары. Транспортировать её дальше, вконец ослабшую, безостановочно трясущуюся и потеющую от всё усиливающихся то озноба, то жара, а временами и впадающую в бред, было проблематично. Да ещё в одиночку, без помощников, которых Саид, всех до единого, перебил сразу после пересечения границы как отработавший своё и ставший теперь ненужным балластом людской ресурс.
Да и если б не крайне болезненное состояние Динары… всё равно насильственная доставка из провинции в столицу чужого государства двух пленённых людей – дело непростое. А за большие деньги продать такой деликатный товар, как красивые жительницы сопредельного государства, да ещё и, очень вероятно, девственницы, по саидову разумению, можно только в столичном или другом не менее крупном городе. Так лучше, тогда, наверное, дорого продать одну хорошо сохранённую единицу, чем задёшево две в каком придётся виде. А то можно и совсем без ничего статься, если ненароком из-за слабой маскировки (две фигурки спрятать, опять же, сложнее) попадёшь в лапы полиции. Или милиции – какая разница, как тут у
них эти органы называются, суть-то одна…
Не сочтя разумным в таких обстоятельствах слишком уж капризничать в цене на больную девчонку, Саид через местных родственников познакомился с человеком, согласившимся выступить в роли перекупщика, и торговался с ним недолго.
Сбыв, таким образом, с рук последнюю на данный момент обузу – больную Динару, Одноглазый начал готовиться к завершающему этапу создания своего благополучия – к доставке в Кабул, где у него, как и в Кундузе, водилась кое-какая родня, с дальнейшим приведением в «товарный вид» и продажей более дорогостоящей на сегодняшний день красавицы – Гульнары.
– Как много я заплатила бы за возможность вычеркнуть, стереть из памяти последующие за этим несколько лет! – глаза Динары наполнились слезами, которые тут же принялся осушать своими губами Николай Николаевич. – Хотя люди, выходившие меня, заслуживают, по большому счёту, благодарности – они делали, как могли, по-своему богоугодное дело, спасали жизнь и здоровье человека. А цель, с которой они это делали… не их вина, что где-то в незнакомом Советском Союзе продажа девушки замуж считается преступлением. Они жили по своим законам и обычаям, и других просто-напросто не знали.
– Никогда не пойму и не признаю, что продажа человека имеет право на существование, – потемневшие глаза Николая Николаевича смотрели остановившимся взглядом куда-то в одну то точку. – Рабство в любом случае преступление.
– И тем не менее, дорогой мой, любимый, русский генерал Коленька, то, что для кого-то преступление, кому-то, наоборот – благо. Что ни говори, а те люди, не предполагающие о каком-то ином образе жизни, по-своему счастливы.
– А ты сама-то хоть один день, хоть одну минуту была счастливой? Испытала хоть что-то хорошее за всё это время, или бевременье, лучше
сказать?
– Дурачок! Опять чувствую твою ревность… счастлива я сейчас, в настоящий момент, когда ты, наконец, рядом. А там, тогда… одновременно с некоторым улучшением моего физического самочувствия (меня добросовестно лечили-выхаживали пожилые женщины в глухом кишлаке), в душе с каждым днём крепла решимость если не удрать, то, в крайнем случае, покончить с собой. Я не ориентировалась, где я, в каких краях, но разговоры о моём замужестве на полупонятном языке, отдалённо напоминающем узбекский, велись в открытую. И моим мужем, как я полагала, намеревался стать ненавистный с некоторых пор Тохтамышев.
Когда до меня, наконец, дошло, что нахожусь в чужой стране, и никто пока не знает, за кого меня отдадут-продадут замуж, в душу мою проникло не то чтобы какое-то успокоение, а… скорее, опустошение. Как будто я вроде и не я, а чёрт знает, ну, что-то вроде игрушки, куклы на продажу. Так жалко стало мамку мою, сестрёнку, брата, тебя… и себя, конечно, но в последнюю очередь. Отпал мерзкий Тохтамышев, а что взамен-то?…
Начав понемногу ходить, нашла, где в этом доме хранится дефицитный у них керосин. Чего проще – чиркнула спичкой, заранее облив себя, и – поминай, как звали, конец всему этому кошмару. Но, бдительные соглядатаи пресекли первую же такую попытку, и в дальнейшем не отходили от меня уже ни на шаг, постоянно поили каким-то расслабляющим, чуть ли не парализующим зельем.
– Динка…
– Продали меня, то есть, по-ихнему, выдали замуж ещё дальше в горы, за человека неплохого, но какого-то несерьёзного. Он чрезвычайно гордился, что сумел отхватить в жёны столь редкостную красавицу, да ещё иностранку по происхождению, какой не было в гаремах ни у кого из его родных и знакомых. В качестве калыма отдал половину своего имущества – скота, ковров. Хвалился, что в скором времени будет у него много ярких, как его молодая жена в моём лице, детей. Заключал пари, и по-крупному, без учёта своих материальных возможностей, что первым у него будет сын, и не позднее чем через год после женитьбы на мне. А точнее – через девять, максимум десять месяцев с момента первой брачной ночи, которую, кстати, он полностью проспал, мертвецки пьяный и обкурившийся анашой.
А Аллах, – спасибо ему великое! – всё не давал и не давал новоявленному главе семейства первенца, что раздражало этого «главу» не на шутку. Я и благодарила Всевышнего, что хранит меня от рождения ребёнка с такой дурной наследственностью, но и жила в постоянном ожидании своего конца – убить строптивую женщину, тем более не дающую потомства, в некоторых странах не такое уж и преступление. В общем, я жила, а вернее, существовала как в бреду.
Бежать… но куда податься, я абсолютно не представляла.
С течением времени муж становился всё более нервным. Начал во всеуслышанье подозревать меня в умышленном уклонении от святой женской обязанности беременеть и рожать чуть ли не от самого факта замужества, а уж от малейшего интимного контакта со своим «любимым» – деторождение, как он считал, разумеется само собой. Но весь трагикомизм ситуации как раз в том и заключался, что ни о каком полноценном контакте между нами как между мужчиной и женщиной и речи не шло. Не способен он был на что-то продуктивное всё по той же банальной причине – нарушая в первую очередь мусульманские законы, пил регулярно и в непомерных дозах крепкое спиртное, курил анашу или гашиш (я слабо разбираюсь в этих названиях) и прочие гадости, заделавшись, в конце концов, неисправимым алкоголиком и наркоманом. В общем, как муж в прямом понимании этого слова – полный ноль. Винил же, однако, в плачевном результате своих притязаний на отцовство – только меня.
Отчасти он, надо признать, был прав. Требуемой им страсти я не испытывала и ласк ему не дарила. Да если бы каким-то чудом и полюбила или пожалела я его, никудышного, то всё равно, при всём желании, вряд ли смогла бы подарить ему наследника – очень уж губительными для женского
организма оказались перенесённые мною злоключения.
Через какое-то время я уже не могла засыпать без принятия примитивного, местного изготовления, снотворного, которым меня за небольшие деньги снабжали сердобольные соседки. Снотворным этим, привыкая к нему больше и больше, я пользовалась так много, как только выдерживал мой организм. Надо ли говорить, что большей частью – умышленно, действительно, как подозревал муж, с целью уклониться от физического контакта с ним. И, естественно, к вечернему его возвращению домой спала чаще всего как убитая, оставив ему на столе приготовленный ужин. В те ночи, когда он хоть что-то мог, попросту элементарно насиловал моё бесчувственное тело. Вот, такие контакты…
Постепенно дело дошло до того, что он сначала время от времени, а потом всё чаще начал избивать меня. Сопротивляться, жаловаться, искать защиты, как понимаешь, бесполезно – мусульманские обычаи и нравы исключительно на стороне мужчины. Убить его… да, было бы справедливо и достойно. Но не тот я человек, что способен пролить чужую кровь, даже когда льётся кровь собственная. Увы…
Молю Аллаха о здоровье Гульнары, разыскавшей меня вскоре после начала войны, развязанной Советским Союзом. И благодарю судьбу, что прямо перед этой нашей с ней встречей моего горе-муженька в результате его образа жизни настиг закономерный конец. Пьяный, как обычно, и обкуренный в дым он, возвращаясь ночью домой, свалился с моста в пропасть и разбился насмерть. Поэтому Гульнара и смогла практически беспрепятственно забрать меня из его дома к себе. Терять там, ясно дело, было нечего, детей с постылым мужем, – ещё раз спасибо Аллаху, – мы не нажили, а имущества ценного у нас никогда и не водилось.
– Ну, а…
– Послушаем-ка, Коленька, Карима. Как раз об этом он, кажется, и ведёт речь.
Карим и впрямь подошёл в своём рассказе к тому моменту, когда
сёстры, после почти десятилетней разлуки, наконец, встретились.
– Ну, значит, придя кое-как в себя после расстрела коммунистами мужа, достоинство которого заключалось, между прочим, не только в том, что он являлся одним из богатейших людей Кабула, но и личностью был весьма интересной, Гульнара активно занялась поисками Динары. Денег, размещённых в своё время мужем в надёжнейших европейских, азиатских и американских банках, в её распоряжении было достаточно, чтобы не только самой безбедно прожить оставшуюся жизнь, но и поднять-обучить детей, и сестре помочь, и на многое-многое другое. А поскольку жить в этой воюющей официально под флагом коммунизма стране, будучи вдовой антикоммуниста, было в целом небезопасно, и проживала она как сама, так и обучала детей в основном за рубежом, то остаётся только удивляться и восхищаться тем, что сумела она даже из-за границы выйти на след Динары. А найдя её, сразу же повезла по лучшим клиникам и курортам мира.
– Гульк, а детки твои такие же красивые, как и их мама? – выкрикнули из глубины зала.
– Дочка – красавица. В кино уже вовсю снимается. Будущая голливудская звезда, – бойко отвечал за не успевшую и рта раскрыть Гульнару главный рассказчик сегодняшнего вечера Карим. – А сынок – вылитый отец Камиль. Такой же целеустремлённый, с сильным характером. Окончил Гарвард, теперь перспективный банкир.
– Тьфу-тьфу, не сглазь, Умурдзаков. Можно бы и поскромнее… – засмущалась Гульнара.
– Таких не сглазишь! – парировали за Карима из зала. – Основа у них крепкая, по материнской крови интернатская. А это – серьёзно.
– Давай, Карим, дальше! – раздались требовательные хмельные голоса. – Развязку давай, финал, так сказать!
– А чего финал? Финал вот он, перед вами. Пробиваем сейчас с Илюхой, – Илюх, подтверди! – вид на жительство в Узбекистане для Гульнары и Динары. Жить будут там, где родились и где похоронены их мать и брат. Да и до Казахстана, где покоится прах отца, рукой подать. Можно будет без труда навещать и его могилку.
– Подтверждать, конечно, подтверждаю, – поднял руку с наполненной
рюмкой Илья Николаевич, – не врёт Умурдзаков. Но и не всё, шельма, рассказывает. Интригу, вроде как, сохраняет. Скажешь, не так, Карим?..
– Так я же ещё не закончил, Илюх!
– Значит, заканчивай! А то людей утомил уже, дай народу отдохнуть, расслабиться. Про Циклопа только скажи пару слов, и завязывай.
– Да, – взбодрился снова Карим, – Циклопа-то все помнят, кто в «Тринадцатом» интернате учился? Так вот… когда этот, простите, выродок невероятно удачно, за огромные деньги, продал в Кабуле Гульку хорошему, к счастью, человеку, то зажил относительно неплохо. И, надо сказать, не очень горевал вплоть до начала войны. Правда, рисоваться в столице не рискнул, а поселился подальше в горах – беглец из Страны Советов как-никак.
Воевал, как и следовало ожидать, на стороне душманов. Числился во всесоюзном, а потом и международном, по линии Интерпола, розыске. Был тяжело ранен – потерял руку. Больше, к сожалению, сведений о нём мы раздобыть не сумели.
– А как это он Гульку продал? По какому праву? И кто его в продавцы такие произвёл? – посыпались реплики.
– Он был в последнее время перед уходом за кордон главным подручным Тохтамышева, и через границу похищенных девчонок переправлял с отрядом контрабандистов именно он.
– Сюда бы его, суку!
– Вот этого не надо, – посуровел Карим. – Растерзали бы вы его сейчас, не сомневаюсь. А взяв кровь на душу, в тюрьму потом за эту мерзость ходячую всей кучей…
– Неужели за такую тварь посадили бы?
– Самосуд даже над закоренелым преступником – то же убийство. Закон есть закон.
– А он – по закону?..
Никто из присутствующих не заметил одиноко притулившегося к одной из колонн в фойе крепкого однорукого старика с глубоким шрамом на лбу и в тёмных очках, скрывающих отсутствие одного глаза. Старик угрюмо вслушивался в доносившиеся из малого зала обрывки речей. Уцелевшая в военных баталиях рука судорожно сжимала в кармане брюк рукоять специфического, приспособленного для метания в цель ножа. Какое-то время постояв, старик повернулся и, так никем из бывших интернатских и не замеченный, вышел на воздух.
МЫ – ИНТЕРНАТСКИЕ
Через несколько дней после окончания Второго среднеазиатского форума бывших интернатовцев в глубоком горном ущелье на территории Самаркандской области, у могильных холмиков, отмеченных сухими веточками бессмертника, собрались несколько человек. Одним из них был статный мужчина в парадной форме генерала военно-воздушных сил. Вторым – как две слезинки похожий на него лицом, да и фигурой почти точная копия, если не брать во внимание немного более мягкие, чем у военного, «гражданские» её очертания, белокурый джентльмен академического вида в очках, строгом штатском костюме, нервно куривший сигарету за сигаретой. Третьим из мужчин был интеллигентный, с добрым лицом старого педагога узбек в тюбетейке и белоснежной рубахе. Столько же было и женщин, две из которых – примерно одинакового с мужчинами возраста, очень похожие друг на дружку красивые узбечки. Третья – ещё более яркая узбечка значительно моложе. Одна из старших женщин стояла на ногах не совсем твёрдо, опираясь руками на спинку инвалидной коляски.
Интеллигентный узбек разложил небольшой складной туристский столик, предложил стоявшей у коляски женщине один из входящих в комплект со столиком стульев. Та мягко отказалась: не так уж часто её ногам в последние годы хватает сил, чтобы передвигаться самостоятельно. Сегодня
в этом плане день удачный – грех не воспользоваться.
– Ну, Динара сегодня совсем молоец! – бодро улыбнулся Карим Умурдзаков (а седовласым узбеком был именно он). – Давай, давай, пусть твои силы теперь только прибывают. А вот Гульнара и Мукарама Юлдашевна присядьте, пожалуйста, а то как-то неловко, когда дамы стоят перед мужчинами, не являющимися их начальниками по службе. Да ещё при достаточном количестве свободных стульев…
– Что ж, уважим кавалеров, – Гульнара села первой, за ней скромно опустилась на стульчик Мукарама.
Генерал Николай Николаевич бдительно, в полной, как на войне, «боевой готовности», не сводя глаз с женщины у коляски, «держал ситуацию под контролем», готовый в любую долю секунды подхватить её на руки.
Хозяйственный Карим Умурдзакович расставил на столике стаканы, водку для мужчин, вино для женщин, закуску, и взял слово:
– Ну, вот, друзья! – он посмотрел каждому в глаза. – Ну, вот, друзья… не хотели мы Мукараму Юлдашевну посвящать в эту историю…
– Я бы вам, уважаемый Карим-ака, никогда этого не простила, – уже пустившая первую слезу, не усидевшая на месте и вскочившая со складного стульчика на ноги Мукарама волновалась здесь, наверное, больше всех. – А для начала, как непосредственный руководитель по службе подчинённому, вкатываю вам строгий выговор с предупреждением! Вот! Как вам не стыдно было скрывать такое?..
– Так из лучших же побуждений… – миролюбиво вмешался профессор Илья Николаевич, пытаясь защитить попавшего под гнев молодой интернатской директрисы друга. – Тогда уж и мне давайте выговорёшник за компанию. Я – его прямой соучастник. Это я уговорил Карима молчать, чтобы не будоражить вашу невинную душу, не волновать без крайней необходимости (хотя, как мы помним, было наоборот – как раз именно Карим и предлагал Илье не напрягать молодую женщину «излишней» тяжёлой информацией). Ведь у вас всё так спокойно, прекрасно по жизни.
– Вы считаете, это хорошо, порядочно, когда от человека скрывают его истинные корни? – Мукарама, не стесняясь, размазывала кулачками по красивому лицу слёзы пополам с косметикой. – Эх, заговорщики! Старики-разбойники, тоже мне…
– Ну, прости их, Мукарама, – увещевали её старшие дамы. – Они, действительно, из добрых побуждений действовали. Зато, как всё славно закончилось.
– Закончилось, как же…
– Закончилось, милая. И теперь можно успокоиться. Всё стало на свои места.
– А я не могу успокоиться, и всё тут. До самой смерти бабушки я не знала, что я – её родная внучка! И кто мой настоящий отец, не знала тоже. Все меня зовут Юлдашевной, а я, оказывается, Валеджановна.
Карим обнял Мукараму, и сам не сдерживая слёз.
– А то, что вот эти прекрасные женщины – мои родные тётки, я, милейший Карим-ака, тоже, по вашей прямой вине, могла никогда не узнать, – уже в голос ревела директор интерната.
– Прости, девочка, виноват я, старый дурак, – впервые за годы совместной работы назвал свою начальницу на «ты» её верный помощник. – Ну, не плачь.
– Ладно, прощаю, – улыбнулась, наконец, та. – И вы все меня тоже простите, если можете. Сами понимаете, каково мне, – обратилась она уже к окружающим, – распустила тут нюни…
– Всё отлично, Мукарама. Всплакнуть в такой светлый день не грех. А ты, Карим, продолжай-ка толкать речь, которую начал, – призвал расстроенного слезами красавицы-директрисы друга вернуться к его добровольным обязанностям вечного тамады Илья Николаевич. – А не способен – уступи другому.
– Тебе, что ли? Держи карман, уступил, как же, – пробурчал, утерев слёзы, с прежней доброй улыбкой Умурдзаков. – Если ты и получишь
сегодня слово, то только после всех остальных желающих.
– Согласен!
– Итак, друзья… – каримово лицо стало строгим. – Справедливость восторжествовала. В полной, насколько это оказалось возможным, мере. И главное, конечно же, событие во всей этой долгой и сложной истории – это то, что девчата, наконец, нашлись, и теперь мы – вместе.
Нет с нами сегодня Валеджана, нет тёти Тамары – его и вашей, девчонки, матери, нет вашего отца. Но если судьба отца с некоторыми событиями не связана, то перед могилами матери и брата вы вместе с нами можете, не кривя душой, отчитаться – сделано всё, чтобы мы могли честно смотреть друг другу в глаза, и со спокойной совестью навещать эти могилы.
Наказан преступник. Злодей, который…
Дикий крик «Карим-ака!!!» оборвал речь учителя на середине фразы. Не успевший ничего понять, он недоумённо сжимал в руках тяжелеющее с каждой секундой тело Мукарамы, опередившей летящий молнией в него, Карима, нож.
Слёзы застили его глаза, и сквозь эти слёзы, обильно орошающие с его лица лицо умирающей, он не видел, уловив лишь слухом, как генерал Колюха и профессор Илюха метнулись в сторону большого валуна, за которым затаился со вторым ножом наизготовку одноглазый и однорукий старик со свирепым лицом.
– Ненавижу!!! – в этот полушёпот-полухрип вместилась, казалось, вся злоба, какая только может существовать в природе.
Если попытаться отобразить тут же происшедшую короткую сцену символически, то можно назвать это смертельной схваткой добра со злом, света с тьмой, любви с ненавистью.
С одной стороны – обезумевший насильник-извращенец, убийца с тёмным прошлым, с другой – двое добродушных, влюблённых как в первый раз, а вернее, вновь обретших заблудившуюся в дальних странствиях первую свою любовь, со сбывающейся день ото дня мечтой о счастливом будущем…
Однорукий-одноглазый, опознавший несколько дней назад на ташкентском форуме в великолепном генерале-лётчике интернатского пацана по кличке «Академик», теперь, злобно сверкая налитым кровью полуслепым от ярости единственным оком, и рассчитывая наиболее эффективный ножевой удар (очкарика – второго нападающего, он как противника всерьёз не воспринимал и не брал в расчёт), почему-то вспомнил самый страшный в своей жизни момент. Это когда в небольшом селении близ Кандагара он с остатками отряда «воинов Аллаха» подвергся воздушному налёту русских.
Гибель в тот момент казалась неминуемой. Ужасные пятнистые драконы-вертолёты заходили в атаку, и ракетный залп вот-вот должен был поставить точку в судьбе Саида и всех, кто рядом. В ужасе спрятавшись за таким зыбким перед надвигающимся наваждением дувалом, воины Аллаха отсчитывали последние секунды перед переселением их душ в преисподнюю.
И вдруг… так и не сделав ни выстрела, ни залпа, русские вертолёты резко взмыли ввысь. Если бы Саид доподлинно знал сейчас о том, что атака та была прекращена по приказу находившегося за штурвалом одного из тех «драконов» генерала-Академика, подкрадывающегося сейчас, шаг за шагом, к нему, он ни за что в жизни не простил бы ему такого великодушия, ибо это ставило лётчика на десять, сто, тысячу ступенек выше его самого…







