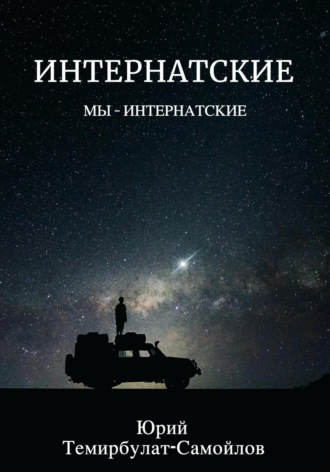
Юрий Темирбулат-Самойлов
Интернатские. Мы – интернатские
О «родных лицах», кстати, здесь сказано вовсе не для красного словца. Ведь, если в обычной школе дети тесно общаются между собой в основном во время занятий, то в интернате все они, а каждый отдельный класс в особенности, круглые сутки живут как одна большая семья: не только учатся, но и готовят домашние задания, ходят в столовую, развлекаются и, наконец, спят – все вместе, разве что мальчишечьи и девчоночьи спальни располагаются в разных помещениях. И через некоторое время такого совместного существования интернатские действительно становятся друг другу как родные. Другое дело, насколько все они любят друг друга. Но и в обычных семьях бывает по-разному. А эта – вообще специфическая: не двое-трое детей, а – тридцать и более человек в классе, да помножить на число классов по интернату в общей сложности… и при всём том, что каждый ребёнок является неповторимой индивидуальностью с её плюсами и минусами, тем не менее, все вместе они – единое целое…
Николай Николаевич встрепенулся. Внимание! А вот, кажется, и наши! Он рванулся вперёд, навстречу двум похожим друг на друга кудрявым, скромно, но опрятно одетым мужчинам примерно одного с ним возраста, на лицах и открытых участках шей и рук которых время так и не сгладило следы страшных ожогов.
ПОЖАРНИКИ
(ретроспектива)
Эта пара пацанов – братья-погодки Тимохины, принятая в пятый «А» класс (старший из них был второгодником, поэтому и учился теперь на одной ступеньке с младшим) «Тринадцатого» интерната с опозданием, когда учебный год уже начался, первое время – неделю или даже больше – плакали почти беспрерывно: и на утренней линейке перед занятиями, и в строевом шествии на завтрак-полдник-обед-ужин в столовую, и на уроках, и на переменах, и в другие досуговые минутки и часы, когда их сверстники отдыхали, предаваясь порою совсем не детским забавам – курению где-нибудь за углом, картёжным или иным азартным состязаниям «на интерес», дракам и прочим привычным здесь развлечениям.
Но не подумайте, Тимохины – не нытики и не хлюпики, и в дальнейшем отлично докажут это на деле. Просто, всего за несколько дней до их прибытия в интернат дотла сгорел домишко, в котором они жили с родителями-алкоголиками. В огне погиб их отец, по вине которого всё и произошло: по пьяному делу уснул в постели с зажжённой папиросиной. Мать, сильно обгоревшая вследствие беспомощности во время пожара из-за не намного меньших, чем отец, употреблённых в тот день доз спиртного, в тяжёлом состоянии находилась в больнице и, по прогнозам врачей, обосновалась там надолго.
Получив незначительные, сравнительно с родительскими, ожоги, шустренькие мальчуганы сумели спастись, и даже поучаствовали в тушении пожара. Затем были тихие и скромные похороны отца, организованные в складчину соседями погорельцев, хлопоты тех же соседей, за неимением у Тимохиных хоть каких-то дееспособных родственников, по устройству Павлухи и Митяя в интернат, поскольку взять пацанов на содержание до выхода их матери-пьянчужки из больницы никто из чужих людей не захотел. Да и после выхода – куда б они с нею?..
С того злополучно-знакового дня бесконтрольный огонь стал для братьев заклятым врагом номер один. И когда кто-то в шутку, а кто-то всерьёз спрашивал, кем они хотят стать в будущей своей взрослой жизни, ответ их был всегда один на двоих – пожарными… ибо другой профессии Тимохины для себя и не мыслили. Не думали, не гадали будущие доблестные пожарные, что через какой-то год после случившегося с их семьёй несчастья, то есть задолго до настоящего взрослого профессионализма, им придётся опять столкнуться лицом к лицу с безжалостной стихией, и противостоять ей они будут в буквальном смысле насмерть, пока оба не свалятся без сил. А спасшего их интернатского кочегара по кличке Танкист даже поблагодарить не успеют – незадолго до выхода Павлухи и Митяя из больницы Танкиста найдут мёртвым прямо на рабочем месте с початой бутылкой водки и стаканом в руках – убаюкала-таки, бедолагу, «горькая» навеки.
Став взрослыми, Павел и Дмитрий линию свою выдержали честно, посвятив жизнь борьбе со злом, от которого страдает на свете столько людей, как виноватых, так и совсем безвинных. Дело своё они делали всегда добросовестно, умело и без лишней суеты. Ненависть ненавистью, а и об уважении к тому, с кем меряешься силами, не забывай… в момент схватки с каким угодно врагом, с пожаром особенно, хладнокровия, контроля над собой терять нельзя ни в коем случае, иначе даже не очень сильный противник одолеет тебя в два счёта.
Больших должностей и высоких званий по службе братья, ввиду недостаточности образования, не достигли, но, прочно занимая младшие офицерские должности, уверенно входили в число лучших специалистов областного управления пожарной охраны на своём, техническом уровне. И всё у них в жизни складывалось нормально. Как и большинство обычных граждан благополучной страны оба были женаты, имели среднестатистическую численность детей в семье, усреднённую для своей социальной прослойки зарплату. С получки и в некоторые выходные – тривиальная выпивка дома или вне его. В праздники, если не приходилось проводить их на дежурстве в пожарном депо, – обычное веселье в кругу родных и знакомых. В домах – не ахти, как богато, но всё необходимое, в том числе и телевизоры-холодильники, есть. В личных гаражах – по типичному семейному мотоциклу с колясками. О более дорогих транспортных средствах вроде автомобилей «Москвич», «Жигули» или, паче чаяния, доступной лишь немногим баловням судьбы «Волги» скромные советские пожарные считали излишним даже мечтать, довольствуясь и прекрасно обходясь тем, что им было по карману. В общем – всё как у всех нормальных людей.
С неделю назад Тимохиным на службу позвонили из какой-то общественной организации и любезным тоном сообщили, что оба они, в числе других выпускников школ-интернатов Узбекистана и сопредельных республик конца шестидесятых – начала семидесятых годов, приглашаются в Ташкент на торжественный форум-встречу. Проживание и питание в течение всего мероприятия, а также денежная компенсация дорожных расходов в оба конца – за счёт оргкомитета форума.
Недолго поразмышляв, Павел и Дмитрий единодушно постановили: отпроситься у начальства и ехать. Когда ещё, да бесплатно, удастся повидаться одновременно с целой кучей интернатских одноклассников, и повспоминать всем вместе о тех далёких, в чём-то трудных и порой жестоких, но, несмотря ни на что – незабываемых, самых, всё-таки, счастливых в жизни школьных годах?
БУТЫЛКА КАК СИМВОЛ РАВЕНСТВА…
Разыскав по записанному на бумажке адресу выбранный для проведения форума интернат, и без труда определив по ярким приветственным плакатам, куда идти дальше, братья Тимохины увидели на широком крыльце главного, судя по антуражу, здания симпатичного моложавого генерала, который вдруг резко устремился к ним с распростёртыми объятиями:
– Пожарники! Вы?
– Академик?! А где второй? – тотчас опознав старого дружка, встречно бросились в его объятия Тимохины.
– Летит-торопится Илюха из Америки, к началу должен поспеть, он же
здесь, как-никак – заводила-организатор. Между прочим, нашу общую школьную кличку «Академики» только он один и оправдал по жизни. Ну, приедет, сам расскажет, если захотите. А я вот… в солдафоны только и сгодился.
– Ни шиша себе, сгодился! Всем бы до такого солдафонства докарабкаться когда-нибудь. Ты, Колюх, теперь, поди, и с министрами ручкаешься? Даже как-то, это… на «вы» тебя назвать так и подмывает, – младший из Тимохиных, Митяй, едва освободившись из крепких объятий генерала Колюхи, расстегнул замок-молнию висевшей на плече спортивно-дорожной сумки, достал из неё поллитровую бутылку с надписью «Агдам» на этикетке, и с чувством провозгласил:
– А чтоб по новой нам теперь сравняться и вернуться хотя бы на сегодня к старому прежнему общему нашему статусу «цыплят инкубаторских»5, да в честь такой встречи, не махнуть ли нам по стаканчику-другому портвешка?
– Ты, паря, сдурел совсем на радостях, – старший Тимохин, Павлуха, легонько постукал кулаком по своему лбу, – настоящего генерала, и простыми портфейнами травить?!
– А чего, братцы, – Сухоруков уже начал жалеть, что напялил-таки на себя перед встречей эту, хоть и удобную для него самого, но не свойскую для простого народа генеральскую форму, – отойдём, вон, к кустам, а то на крыльце не очень удобно, и – накатим… А со службой я только вчера распрощался, списался подчистую. Так что, кто из нас сейчас здесь круче, это ещё посмотреть. Да и портвейнчик «Агдам», если помните, – как раз тот самый, с которого мы начинали когда-то.
Выпили «по кругу из горла». Можно было, конечно, сделать это поцивилизованней, «по-взрослому» – достать из сумки имеющиеся там походные стаканчики, какой-то «закусон», но захотелось именно так, как в юности, в старших классах, особенно перед походами на танцплощадки – залихватски «из горла» и «без закуси»… Тут же следом – ещё по разу, закинув пустую бутылку по старой памяти, по-хулигански, в кусты, озираясь, как бы кто не заметил и не заругался.
– Ну, а вы-то как, братишки? – Николай Николаевич хорошо помнил причину возникновения у Тимохиных цели посвятить свою жизнь совершенно определённому ремеслу. – С пожарами научились расправляться профессионально? Или после того раза крест на это дело положили, как многие бы сделали на вашем месте? До сих пор жуть берёт, как вспомнишь – так вздрогнешь…
Павлуха и Митяй, с уже заметной сединой на висках, крепкие и суровые,
не робкого десятка, как того требовала профессия, обстоятельные во всём мужчины, к которым сослуживцы любого ранга и в любой, даже неофициальной обстановке, как и ближайшие соседи по дому и даче обращались всегда исключительно уважительно, по имени-отчеству – Павел Иванович и Дмитрий Иванович, хоть и не засуетились с немедленным исчерпывающим ответом-рассказом о своём противопожарном житье-бытье, но проявили, оба одновременно, что-то похожее на сентиментальное волнение, и потемневшими глазами взглянули на тыльные стороны своих ладоней, тронули руками следы старых ожогов на лице, шеях, и нервно потянулись за сигаретами. Некурящий Академик Колюха, он же генерал Сухоруков, тоже попросил себе одну. С ответом на свой вопрос тактично не настаивал, хотя и сгорал от любопытства – стали Тимохины настоящими, а не по кличкам, пожарниками, или нет…
Задумчиво задымили. Перед глазами всех троих стояла одна и та же возникшая в памяти картина. Ещё раз добрым словом вспомнился тот самый старый Танкист, интернатский кочегар Николай Герасимович, фамилию которого они не помнили, поскольку мало кто знал её и в те годы, когда он был жив и развлекал их такими захватывающими рассказами о войне…
Неожиданно воспоминания друзей-одноклассников прервались чьим-то радостным возгласом со стороны центральной аллеи:
– Геннадий Алимжанович! Верочка! Вы ли это? Ой, прямо – вылитая
мама! Проходите, пожалуйста, вон туда, к главному входу!
Очумелыми глазами Сухоруков и Пожарники уставились на поднимавшуюся по ступенькам крыльца только что радушно встреченную членами оргкомитета парочку – сильно постаревшего и ссутулившегося, но всё того же, собственной персоной, старшего воспитателя по кличке Сыщик под руку с… не может быть!.. всё такой же, точь-в-точь, как и много лет назад, ночной няней Шваброй, может быть, только, получше одетой. Что за наваждение? Да никакое это не наваждение, Швабру ведь звали совсем по-другому, а тут совершенно ясно прозвучало: «Верочка… вылитая мама». Значит, это – та самая Верка, дочь Швабры, унаследовавшая кличку матери? Верка, которую ещё в шестом классе, в двенадцатилетнем возрасте, Сыщик совратил, сделал своей безотказной любовницей-рабыней и верным осведомителем на все её последующие школьные годы… Вот, те, на! Так и дружат-любятся до сих пор? Поистине – «рыбак рыбака»…
– Укокошу эту мразь! Обоих! Или напоите меня до потери пульса, чтобы отрубился и не помнил ничего… забыл бы хоть на чуть-чуть… – младший Пожарник, он же Тимохин Дмитрий Иванович, аж чуть не выскакивал сам из себя от ярости.
– Да угомонись ты, – оборвал его не совсем уместные сегодня порывы застарелой ненависти старший брат. – К концу вечера ещё и обниматься да целоваться будешь. И не только с Сыщиком и младшей Шваброй…
– Скорее застрелюсь.
– Пистолет дать?..
– Братцы, а не выпить ли нам ещё немного? – примирительно предложил Николай Николаевич.
Тимохины, хором вздохнув, достали ещё бутылку «Агдама», и все трое по очереди приложились к горлышку. Опять нахлынули рвущие душу воспоминания.
ЦИКЛОП И ФИГУРА
(ретроспектива)
Как особо изощрённая по жестокости пытка, перенесённая когда-нибудь в прошлом, продолжает, порою, мучить человека в его воспоминаниях до конца жизни, так и некий отрезок времени, прожитый в «тринадцатом» интернате, возможно, не выветрится из памяти многих его воспитанников никогда. И немало стараний к этому приложили, кроме печально известного старшего воспитателя Сыщика, ещё и двое неразлучных друзей-коллег – воспитатель и классный руководитель того самого шестого «А», о котором редкий педагог этого учебного заведения мог говорить без раздражения.
Классный руководитель с похожим на женское именем Антонин, да ещё и отчеством Валентинович, обладавший мягким грудным, тоже очень напоминающий женский, совершенно безбасовым голосом кастрата и, вдобавок ко всему, чрезвычайно покладистым нравом, работал в интернате с самого его основания. И, в условиях большой текучести кадров, как ветеран интернатского педагогического фронта, и при этом беззлобный, безобидный с виду человек пользовался со стороны руководства и большей части остального штата коллег снисходительно-ироничной доброжелательностью. И одновременно – привязанностью мальчишек и девчонок, которые при каждом удобном случае бессовестно злоупотребляли слабохарактерностью Антонина Валентиновича, часто под надуманными предлогами отпрашиваясь у него с уроков. Та же его мягкотелость нередко служила и плохую для учеников службу – он малодушно совершал едва ли не ежедневные предательства, сообщая классному воспитателю, а то и грозному «воспитателю воспитателей» Сыщику всё тайное, чем подопечные делились с ним в порывах откровенности как с «самым мировым из взрослых».
Издевательская кличка «Фигура», безропотно носимая Антонином Валентиновичем с незапамятных времён, как это ни оскорбительно для него самого, но предельно впопад подчёркивала всю несуразность его внешности как существа мужского пола. Был он высок (единственный, пожалуй, хотя и не бесспорный, плюс), узкоплеч и сутул, несколько грудаст, в средней степени пузат и сильно толстозад. Тонкие его руки с пухлыми крупнопалыми кистями и обгрызенными ногтями по длине своей доставали чуть ли не до колен. Лицо почти полностью было безволосым, как у китайца со старинной открытки. Правда, как и у того китайца – с небольшими усиками из нескольких висящих рыжих волосков. В его кривых жёлто-коричневых, а у корешков и совсем чёрных, прокуренных до основания зубах всё свободное от уроков географии, которую преподавал Фигура, время была зажата дымящаяся папироска. Довершали портрет (хотя по отношению к нормальным, без явных патологий, людям это служит, как правило, началом описания – «зеркало души» всё-таки) огромные, светлые, добрые-предобрые глаза блаженного…
Вот, исходя-то из внешней характеристики, или, поменяв слова местами, – характерной внешности, определяющей натуру Фигуры, интернатским и казалась, по меньшей мере, странной внезапно возникшая тесная дружба такой личности с типажом прямо противоположным, внушавшим всем, кто физически не сильнее его, безотчётное чувство опасности. А слабее того типа, признаться, были здесь все, в том числе и преподавательский состав полностью, включая физрука.
Недавно устроившийся на работу в интернат новый воспитатель шестого «А» необычно долго, ко всеобщему удивлению, ходил без клички. Ну, не липло к нему ничего оригинального, и всё тут. Имя, как имя – Саид. Отчество – тоже не подкопаешься – Алимович. И фамилия – ничего особенного, обычная – Ходжаев. Внешность безупречна: атлет без единого видимого изъяна, разве что выражение лица устрашающе свирепо, как у турецкого янычара в разгар боя.
По этому, кстати, выражению лица мальчишки шестого «А» сразу же уверенно определили, что добра от Саида, как пока что, за неимением подобающей «кликухи», называли они его между собой, ждать не придётся. И – не обманулись. Жёсткость стальных кулаков этого воспитателя в первые же дни его деятельности в данной должности заставила присмиреть даже самых бойких. Но присмиреть, – надо оговориться, – лишь внешне. Одним-двумя синяками под глазом или на других частях тела вроде «мягкого места», да хоть и выбитым зубом дух интернатских сломить было невозможно. И за каждый подзатыльник, за каждую пощёчину, особенно на глазах девчонок, пацаны в душе клялись отомстить. Как и когда – они ещё слабо представляли, но отомстить Саиду божились не только ученики шестого «А», но и нередко походя обижаемые им пацаны из других классов. Таким образом, число его недругов во всеинтернатском масштабе росло как снежный ком. И если видимые проделки нарушителей порядка заметно поутихли, то внутренний ропот нарастал необратимо.
С другой стороны, дисциплинированность Саида Алимовича и успехи его в воспитании учеников неблагополучного по многим показателям класса пришлись по душе старшему воспитателю Геннадию Алимжановичу. Тот принял Ходжаева на работу по протекции своего давнего знакомого Баймурата Тохтамышева – влиятельного человека, известного на всю республику руководителя одного из лучших в Узбекистане сельхоззаготовительных предприятий, депутата Верховного Совета. Ходжаев приходился тому Тохтамышеву двоюродным или троюродным племянником, то есть каким-никаким, а родственником, и его очевидный успех в деле воспитания подрастающего поколения был старшему воспитателю как нельзя кстати. Это – объективный повод для Геннадия Алимжановича приблизить Ходжаева к себе, посодействовать введению его в состав партбюро, и вообще оказания ему всяческой поддержки и заслуженного доверия. А тем самым автоматически укрепится и доверие товарища Тохтамышева к нему, Геннадию Алимжановичу – старшему другу и наставнику педагога-передовика Саида Ходжаева. С непредсказуемыми дивидендами, надо полагать, когда-нибудь в будущем.
Карьера Саида Алимовича естественным образом пошла в гору. Скоро он был назначен на специально для него введённую в штатное расписание должность заместителя старшего воспитателя, оставался за Геннадия Алимжановича на время отъездов того в командировки, болезней и просто в выходные и праздничные дни. И в его-то дежурства особенно несладко приходилось тем нарушителям дисциплины и распорядка дня, кто украдкой покидал территорию интерната, затевал игры после отбоя, опаздывал к какому-либо построению, и тому подобное… Расправа была всегда одна, но безотказная – разящий наповал удар. Бывало с сотрясением мозга, а чаще с банальным «фингалом» под правым или левым глазом (Саид Алимович одинаково мастерски владел в битве с малолетними воспитанниками обеими руками), или кровоподтёком в области того же мягкого места.
Почему не жаловались? А – как и куда?.. С родителями большинство интернатских виделось редко, да и многие родители, как и их дети, не могли похвастать подходящей для обращения в инстанции респектабельностью и достаточной для этого образованностью и боевитостью, а посему вряд ли способны были всерьёз вступиться за своё чадо… Писать мальчишкам и девчонкам самим в органы народного образования? Но даже те редкие поползновения найти управу на Саидов да Сыщиков, что и доходили до нужных адресатов, по писаным или неписаным законам бюрократического документооборота неизменно возвращались в дирекцию интерната «для принятия мер», незамедлительно попадая в руки тех же педагогов. И меры принимались… да только в отношении кого, опять же. Горе было подписантам. А во-вторых, и это, пожалуй, главное – слишком уж жгла души пацанов солидарная жажда собственной мести. Именно собственной…
Развязку ускорило небольшое, пустяковое в глазах педагогического коллектива, но переполнившее чашу терпения интернатских пацанов событие, приключившееся сразу по выписке из больницы в октябре братьев Тимохиных-Пожарников, пострадавших от огня в сгоревшем перед началом учебного года продуктово-вещевом складе. Полуторамесячное пребывание в стационаре, в общем-то, и спасло обоих от направления в детскую исправительную колонию как злостных хулиганов-вредителей, учинивших такое бедствие, как пожар, безжалостно сожравший немалую часть
находившегося на балансе интерната госимущества.
Но не только, и даже не столько больница смягчила участь братьев, сколько ненавидимый школьниками всей советской Средней Азии хлопок. В
те годы на хлопкосеящих территориях южных республик страны все до единой школы в конце сентября или начале октября приостанавливали учебный процесс. Учащиеся поголовно, кроме самых младших, рекрутировались для сбора рекордных (а по официальным теле- радио- и газетным сводкам они только таковыми и бывали) урожаев «белого золота». В иные, не самые удачные, годы это продолжалось вплоть до новогодних праздников. Выезжали, в зависимости от удалённости полей, с ночёвками или без таковых, но работали полный световой день без выходных, обедая прямо в поле у походно-полевых кухонь.
Само собой разумеется, что в разгар хлопкоуборочной компании, когда за ежедневными показателями в килограммах и тоннах неусыпно следили лично руководители партийно-советских органов, судьба каждого из которых полностью зависела от конечного итога уборочной, любая пара даже неокрепших детских рук была на учёте.
И братья Пожарники – Павлуха и Митяй – вместо ужасной, по рассказам очевидцев, колонии прямо из больничной палаты направились помогать вскормившему их государству решать важнейшую народно-хозяйственную задачу.
Конечно, с не меньшим успехом они могли участвовать в решении этой задачи и будучи на исправлении в колонии, но тогда за собранный ими хлопок в этом сезоне отчиталась бы и повысила свои показатели администрация колонии, а не дирекция интерната. Интернату это было невыгодно. Хотя, вроде бы, что такое две пары рук да в составе не очень крупной организации? А вот – то, и такое… Партийно-государственная установка «каждый грамм белого золота – вклад в могущество Родины» была свята, понималась и принималась настолько буквально, что иное, вольное (упаси, Боже!) её толкование оценилось бы как кощунство, а высказанное вслух, да, опять же не приведи Господь, публично хоть маленьким должностным лицом – и вовсе как предательство интересов родного социалистического государства. Ну, и, конечно, не следует забывать, что вся страна жила тогда отчётными плановыми и сверхплановыми показателями, от уровня которых, позволим себе повториться, впрямую зависело благополучие любого руководителя – территориального или ведомственного, неважно. Правдивость этих показателей, все из которых проверить было практически невозможно – вопрос десятый… главное – правильно организованный процесс.
Но, и больница, и хлопок, вместе взятые, не спасли Пожарников от другой напасти – возникшей с первого взгляда неприязни сурового как само возмездие нового воспитателя. Почему-то сразу невзлюбил их подтянутый, сильный, мускулистый Саид Алимович. Тем осенним утром, когда они с приподнятым настроением возвратились из совхозной больницы, в первую очередь принялись радостно здороваться-обниматься на интернатском дворе с одноклассниками и другими мальчишками. При этом братья не вовремя встали в строй, чтобы с песнями грузиться в отбывающей в общей колонне на хлопковые поля автобус. И… получили по сильнейшему пинку – на глазах у всех, кто их только что так приветливо встречал, в том числе и девчонок.
Нет, не испугались, хотя и сконфузились под тактично отводимыми девчачьими взглядами, Пожарники. В глазах их вспыхнуло в первую очередь горькое недоумение – за что? Почему?! Неужели одного садиста – Сыщика мало инкубатору? Зачем и откуда взялся ещё и этот верзила со зверским лицом? Да катись оно всё!..
Не сговариваясь, братья взялись за руки и направились вон от строя в сторону открытых интернатских ворот.
В строю шестого «А» воцарилась гробовая тишина. Никто не шевельнулся, чтобы образумить Тимохиных, спасти их от логически неизбежной расправы со стороны «сурового как возмездие» – ибо страшные пинки и тумаки нового воспитателя прочувствовать успел каждый без
исключения… Опыт сей горек.
А логика есть логика, да ещё в сочетании с опытом. Там, где не надо, она срабатывает, увы, безупречно. Не успели бунтовщики сделать и нескольких шагов, как воспитатель настиг их. С лёта сбив обоих с ног мощными оплеухами, и подняв одного правой, другого левой рукой за шиворот, подволок к стоявшему с открытыми дверьми и заведённым мотором автобусу и забросил, как кули, поочерёдно внутрь.
Лучше бы Саид Алимович этого не делал… да на глазах не только шестого «А», а и множества других интернатских, ожидавших посадки в автобусы и грузовые такси. Но поймёт он свою роковую ошибку много позже, когда за ним прочно закрепится, наконец, идеально подходящая к его изменившейся внешности кличка. Произойдёт это после такого унижения Саида Алимовича, которое сведёт на нет всё воспитательное значение его недюжинной физической силы.
А пока, приехав на поле и расставив учеников подопечного ему класса по хлопковым грядкам и объявив сегодняшнюю норму обязательной выработки с учётом недобранных килограммов дня вчерашнего, он, подрагивая от возбуждения в предвкушении очередной порции запретного по уголовному закону и постыдного в глазах общественной морали, а оттого ещё более притягательного удовольствия, направился, поминутно оглядываясь, к противоположному от видневшихся невдалеке лесопосадок краю поля, чтобы соблюсти необходимую конспирацию для отвлечения внимания любопытных, и окольным путём зайти в заросли с другой стороны никем не замеченным. Здесь, в облюбованном заранее уголке природы, он, бросив под голову мешок, частично наполненный мягким тёплым хлопком, поспит часок-другой в ожидании своего нового друга…
ПУТИ В ПЕДАГОГИКУ НЕИСПОВЕДИМЫ
(краткое отступление в ретроспективе)
Как и большая, здоровая часть южной молодёжи, Саид Ходжаев созрел в
репродукивном отношении раньше общеобычного. Был он от природы силён
и ловок, недурён собой, глупостями вроде излишней застенчивости не страдал. Жгучий брюнет, темпераментный и нагловатый, что, в сочетании с остальными вышеперечисленными данными, заведомо обрекало его на успех у определённого склада существ противоположного пола, он ещё в старше-школьные годы не имел ни малейшего недостатка в женской взаимности, особое предпочтение отдавая пышнотелым блондинкам.
Призвавшись в оптимальные сроки в армию и закончив четырёхмесячную школу сержантского состава, Ходжаев был направлен служить сменным командиром отделения в отдалённый таёжный гарнизон, на секретную «точку». Контингент этой уединённой точки состоял из одного офицера, одного старшины-сверхсрочника, двоих, включая самого Саида, сержантов срочной службы, и «освежаемого», то есть сменявшегося раз в несколько месяцев отделения солдат.
Поначалу сержант Ходжаев чуть не выл от тоски без женского общества, мастурбируя тайком на журнальную фотографию какой-то зарубежной киноактрисы, но, мало-помалу, успокоился. Оказалось, что, в принципе, выжить можно где угодно, надо только уметь подчинить обстоятельства своим потребностям и нуждам, а не идти на поводу у этих обстоятельств. Благо – тайга кругом на сотни километров, и закон далеко…
Облюбовав парочку белокурых молодых бойцов поупитаннее и послабее характером, сержант с одним из них справился без всякого труда. Тем более, что тот и сам был вроде не прочь. А со вторым пришлось повозиться – сдался только после соответствующей силовой обработки, в результате которой при каждой последующей встрече подобного рода постыдную близость без колебаний предпочитал зубодробительному нокауту. В ходе всей дальнейшей службы сержанта Ходжаева таких присмиревших находилось достаточно, тем более что это давало им послабления по службе.
Вошёл во вкус Саид очень быстро. Покорность младших по званию и должности, практически безграничная власть над ними ему уже не просто нравились, а незаметно стали неодолимой, сродни наркотической, потребностью, постепенно вытеснявшей из его естества прошлую тягу к не всегда ухоженным, но зачастую излишне требовательным обычным традиционным шлюхам. И, отъевшись и отоспавшись, изрядно обленившись, будучи относительно удовлетворённым в плотских потребностях и приноровившись, таким образом, к имеющей свои несомненные плюсы полуотшельнической жизни, начал он временами задумываться, а не остаться ли ему на сверхсрочную службу.
Тем временем солдатики чуть ли не через день жарко натапливали баньку, благо за дровами в тайге далеко ходить не надо. В баньке этой от души намывались сами, затем мыли, парили и массажировали сначала офицера и старшину-сверхсрочника, а после них – сержантов, из которых с особым усердием – иное себе дороже – Ходжаева, в дела которого офицер и старшина, тесно дружившие между собою (больше здесь было не с кем – не с медведями же…) и беспробудно пьянствовавшие, не имели ни малейшего желания вмешиваться. Идёт служба – да и пусть себе идёт. Чего ей мешать?
В бане солдаты решали и множество не только чисто банных вопросов. Стирали своё и старших по званию бельё, стригли обоим сержантам ногти на руках и ногах, раз в месяц-два брили им и друг другу головы. Периодически баловались татуировкой, нанося на молодые тела не всегда бесталанные произведения изобразительного искусства. И, конечно же, между всеми этими занятиями регулярно доставляли товарищу сержанту Ходжаеву требуемое удовольствие – отдавались ему поочерёдно, кто с желанием, кто без такового, но всегда одинаково пассивно.
И все эти солдатики, за исключением разве что тех редких экземпляров, кого такая жизнь не только не тяготила (на «гражданке» у некоторых бывало не намного лучше), а то и одаривала плохо скрываемым «нетрадиционным» наслаждением, ждали, изнывая от тоски, как можно более скорого избавления от этого. Внешне смирившись с действительностью, в душе каждый, или почти каждый, страстно хотел, чтобы командование взяло, вдруг, да и перевело его куда-нибудь в другое место, подальше отсюда, вернее поближе к какому-то подобию цивилизованной службы. Но такое везение бывает крайне редко: замена одного отбывшего здесь своё отделения (только отделением, а не индивидуально) на другое – строго по графику. А те, кому служить вообще оставалось меньше, чем до такой замены – скрупулёзно подсчитывали даже не дни, а часы до вожделенного «дембеля».







