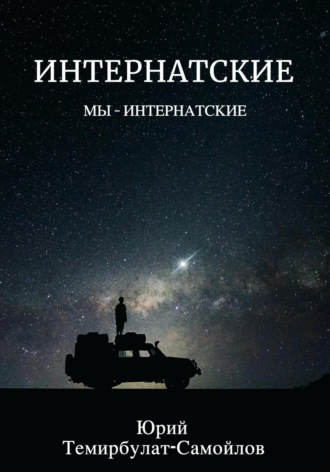
Юрий Темирбулат-Самойлов
Интернатские. Мы – интернатские
Если бы сержант Ходжаев имел возможность подслушать мысли этих скрытых своих оппонентов, он бы удивился: чудаки! Не понимают всей выгоды ситуации. Во-первых, если на такой отдалённой точке хорошо живёшь с начальством, в данном случае с ним, сержантом, то служба быстро и легко превращается из ада в рай. Во-вторых, никаких тебе венерических болезней, коими чревата доступность женского пола. Уж поверьте опытному человеку. Тем более что парная баня изгоняет даже намёк на антисанитарию, в условиях которой холостая молодёжь на гражданке частенько занимается этим делом. В-третьих, – а этот аргумент неоспорим хотя бы в силу законов природы, – здесь исключена беременность. Люби себе подобного хоть до упаду, и ничего не бойся. В четвёртых – огласка тут тоже отпадает: ну, кому охота распространять о себе то, за что в передовом советском обществе могут легко посадить в тюрьму, да с позором куда большим, чем за любое другое преступление? При желании можно найти и пятое, и десятое, и сотое…
Но вот тут-то, на четвёртом аргументе (касаемо страха огласки) сержант Ходжаев, если бы подобная дискуссия состоялась, проиграл бы спор с треском. И события наглядно и неумолимо подтвердили это.
Закончилось всё неожиданно. Остаться на сверхсрочную ему не удалось, а вместо неё пришлось отправиться под конвоем на нары следственной тюрьмы. Один сосунок-салажонок первых месяцев службы, среди присланных на точку в порядке замены уходящих «на дембель» бойцов, с виду особенно аппетитный для Саида размазня-интеллигент – толстенький, нежный, «кровь с молоком» розовощёкий флегматик, от которого, на первый взгляд, трудно ожидать какой-то твёрдости характера, на поверку оказался коварным, упёртым строптивцем. Не поняв своего счастья, он с первых же часов пребывания здесь проявил злостное неповиновение, не убоявшись ни оглушающих, отшибающих малейшую охоту к сопротивлению кулаков, ни прочих безотказных армейских средств подавления инакомыслия. Да ещё и сумел каким-то образом сообщить (на точке из средств связи с внешним миром была лишь охраняемая рация, с которой обращаться умели всего три-четыре строго конкретных, сменяющих друг друга по графику солдата, в составе которых этот не числился, и ещё – офицер со старшиной, в планы которых утечка информации никак не входила) о царивших в отряде нравах на «большую землю». Разразился скандал. Военная прокуратура возбудила уголовное дело, замять которое впоследствии удалось с огромным трудом, да и то только благодаря вмешательству влиятельных саидовых родственников из Узбекистана, а точнее, одного родственника… но – какого!
Освободившись из-под стражи и вернувшись в родные края, Саид был удостоен аудиенции своего знаменитого родича, с которым он до этого никогда не встречался – Баймурата Тохтамышевича Тохтамышева. В ходе непродолжительной беседы проницательный Баймурат-ака в душе оценил некоторые достоинства горе-племянника. Однако вслух попенял ему на несерьёзное для настоящего джигита поведение и, туманно пообещав когда-нибудь в будущем устроить его на приличную, хорошо оплачиваемую службу, если тот исправится, предложил пока что потрудиться для послеармейской и послетюремной адаптации, да пообтереться где-нибудь попроще… под патронатом, например, кое-кого из приятелей Тохтамышева. Так Ходжаев стал штатным воспитателем шестиклашек, а по совместительству – учителем узбекского языка в школе-интернате № 13.
ЦИКЛОП И ФИГУРА
(продолжение ретроспективы)
Приступив к исполнению должностных обязанностей, Саид Алимович
сразу же поймал себя на том, что, помимо его воли, в каждом из мальчишек-подростков этого интерната, или – «инкубатора», как называла между собой детвора своё учебное заведение, ему чудится потенциальный солдат-новобранец, униженно спускающий штаны при встрече с ним наедине. Это выводило Саида Алимовича из состояния душевного равновесия, порой до бешенства, гасить которое ему удавалось лишь жестоким избиением кого-нибудь из виновников этих непрошеных грёз.
Спасти подростков от систематических побоев могло бы, вероятно, хотя бы периодическое удовлетворение тайной страсти Ходжаева, но трогать детей в плане интимном он всё-таки побаивался. А вот от раздачи направо и налево крепких, доставлявших ему неизъяснимое наслаждение подзатыльников и сильных пинков каждому замешкавшемуся в чём-то, удерживаться, как ни старался, не мог. Ни одного дня, и даже часа… ни с одним подвернувшимся под его всегда горячую руку пацаном.
Хорошо выручило терзающегося такой своеобразной неудовлетворённостью самца в данном отношении удачное тесное знакомство с ближайшим новым своим коллегой по работе – классным руководителем того же шестого «А», в котором Саид Алимович подвизался работать воспитателем. Слабовольный крупнотелый рохля с женским именем и не менее бабьими формами Антонин Валентинович покорился сразу, будто только и ждал, когда им овладеет сильная личность. У женщин это более чем некрасивое существо непонятной с виду половой принадлежности мало что не пользовалось успехом, но и внушало физическое неприятие, граничащее с отвращением. И первое же проявление нетрадиционного физиологического интереса со стороны крепкого мужчины сразу его возбудило и обнадёжило. Он с готовностью услужливо отдал мягкую нижнюю часть своего тела в полное распоряжение эротического благодетеля и всячески старался угодить ему в моменты их всё более регулярных свиданий. Саида Алимовича эта близость возбуждала не менее чем самого Антонина Валентиновича. И вот теперь он, лёжа в лесопосадках на мягком мешке с хлопком, с нетерпением
ждал…
РАЗВЯЗКА
(окончание ретроспективы)
Интернатские, и, в первую очередь, мальчишки шестого «А», к тому времени уже начали смутно догадываться о причинах каждодневных уединений за пределами хлопкового поля воспитателя и классного руководителя. Сделав несложные логические вычисления, они с великим разочарованием, если не сказать с потрясением, поняли, наконец, откуда Саид Алимович и его руководитель-покровитель Сыщик заблаговременно узнают о многих мальчишеских планах, и почему тем хорошо известно об истинном отношении интернатских к самому Сыщику и многим другим его подчинённым, о ком как пацаны отзываются в разговорах между собой, и кого как промеж себя прозывают.
И решили пацаны, заклеймив позором «жалкого стукача» Фигуру, и сгорая от жажды мести Саиду за всё и сразу, доведённые до суровой решимости к незамедлительным крайним мерам его сегодняшним поведением по отношению к братьям Пожарникам, забросить ему через Фигуру некую дезинформацию. Ни дать, ни взять – как в приключенческих фильмах про шпионов.
Когда Саид ушёл с поля окольными путями в лесопосадки, Пожарники Павлуха с Митяем, захватив с собой для солидности своего друга-отличника Колюху Академика, приблизились к засобиравшемуся в те же лесопосадки Фигуре и повели с ним душевную беседу. Поговорив для затравки понемногу о том, о сём, в том числе проехавшись по любимой Фигурой географической теме, плавно переключили разговор на характеристику преподавательско-воспитательского состава интерната. Начав с исключительно положительной оценки лучшего в их жизни учителя географии Антонина Валентиновича, похвалив вкусовые качества любимых им тропических фруктов вроде банана и ананаса, которые на самом деле ни один из троих не только никогда в жизни не пробовал, но и не видел кроме как на киноэкране или на картинках, плавно перешли к персонажам отрицательного, на их взгляд, характера. Немного, вскользь, пожаловались на старшего воспитателя Сыщика, от всевидящего ока которого никуда ни спрятаться, ни скрыться, все трое принялись наперебой возмущаться поведением Саида, обзывая его «зверем», «козлом» и ещё совсем уж грубо, матерно, самих матерных слов полностью, правда, не произнося, а только – первую букву (а дальше и так понятно…)
Фигура, беспокойно озираясь по сторонам, не слышит ли их, ненароком, кто-нибудь из случайно оказавшихся поблизости коллег-педагогов, сочувственно кивал, соглашался со всеми эпитетами собеседников по отношению к этим коллегам, и осторожно пытался выспросить, а не собираются ли мальчишки куда-нибудь жаловаться, скажем, на Геннадия Алимжановича и Саида Алимовича. Жаловаться бесполезно на все «сто пудов» – отвечали ему пацаны, но, поскольку их терпению пришёл конец, то единственное, что остаётся, это – бежать из интерната. На этот раз – в массовом порядке. И акция эта состоится, мол, сегодня в полночь.
Хоть и спешил Фигура поскорее уйти в прямом смысле слова в кусты, но последнее сообщение, касаемо побега, не пропустил мимо ушей, восприняв его как чрезвычайно важное, и постарался получше запомнить.
Сразу же после того, как завершившие беседу с Фигурой Пожарники и Академик возвратились на свои рядки собирать хлопок, весь шестой «А», и не только, начал зорко следить за каждым движением классного руководителя. Когда тот, поминутно оглядываясь, почти бегом направился прочь с поля, ситуация прояснилась окончательно. Особенно выдавало Фигуру то, каким образом покидал он поле – в точности повторяя путь классного воспитателя: не прямо в лесопосадки к ожидавшему его Саиду Алимовичу, а – соблюдая примитивную конспирацию – в противоположную от зарослей сторону, а затем, окольным путём – в лесочек.
Нашлись смельчаки, решившиеся отследить весь путь Фигуры, крадучись на определённом расстоянии за ним следом. И то, что они в результате увидели и услышали, повергло их в шок. Причём – не столько подтвердившееся наглядно «стукаческое» предательство обожаемого некогда
учителя, сколько отвратительная интимная сцена, представшая перед мальчишечьими глазами.
В течение ближайших получаса весть об обнаруженной «похабщине» облетела в первую очередь весь находившийся этим днём на поле контингент «негнилых пацанов», то есть тех, кому можно доверять, каждый из которых дал торжественную клятву, подтверждающую решимость свершить, во что бы то ни стало, ближайшей же ночью долго вынашивавшийся в юных головах акт возмездия.
Кончилось тем, что на исходе суток примчавшаяся к интернатскому спальному корпусу номер два машина «скорой помощи» увезла в районную больницу истекавшего кровью воспитателя шестого «А» Саида Алимовича Ходжаева, кличка которого отныне – Циклоп. Жизнь воспитателю врачи сумели спасти, но один глаз его, несмотря на все старания экстренно вызванных из области хирургов-офтальмологов, вытек полностью, а через весь лоб наискось пролёг глубокий шрам.
Бить детей с тех пор Циклоп перестал, долго после возвращения из больницы сначала с тряпичной повязкой, а позже со специальной кожаной накладкой на глазнице ходил притихший, с раздражением натыкаясь на меловые или угольные надписи на стенах и заборах: «Циклоп – козёл», Фигура – шалава». Скрежетал от злости зубами, но своих любимых и привычных мер физического воздействия так ни разу применить и не решился. Да и к кому конкретно принимать эти меры? Любой из нескольких сотен стервецов готов плюнуть ему, Саиду, в спину. Так что, и не выискивал он авторов этих надписей, а просто ненавидел всех интернатских скопом самой жестокой ненавистью, на какую только была способна его душа.
Через некоторое время Циклоп, а за ним и Фигура покинули интернат. Фигура устроился где-то так же учителем географии, а Циклоп, по слухам, пошёл в помощники к небезызвестному своему родичу-заготконторщику.
А произошло в тот поздний, трагический для Саида Алимовича и, рикошетом, для классного руководителя Антонина Валентиновича Фигуры час вот что. По доносу Фигуры старший воспитатель Геннадий Алимжанович Сыщик и Саид Алимович решили «накрыть» готовящихся к побегу дезертиров» на месте преступления, и показать им такую кузькину мать, что навсегда, щенки шелудивые, зарекутся покушаться на подобное. И в интернате после этой показательной взбучки-порки воцарится, наконец, порядок. А если ещё парочку-тройку заговорщиков, да хоть и одного, спровадить в исправительную колонию, то и вовсе интернат на пансионат станет похожим. Шёлковые ученики, спокойная жизнь – что ещё желать сплочённому, уважающему себя коллективу педагогов-единомышленников?
После отбоя, ближе к полуночи, Геннадий Алимжанович и Саид Алимович, экипировавшись удлинёнными «дальнобойными», в несколько батареек, китайскими фонариками из нержавеющей стали, которые в случае чего можно использовать в качестве дубинок, двинулись во второй спальный корпус, чтобы взять врасплох готовившихся к побегу. Тут Геннадий Алимжанович вдруг вспомнил, что именно в настоящий момент его ждёт любимая девушка, которая незадолго до этого говорила с ним по телефону так нежно, и так ласково просила прийти хоть на минутку, что отказать ей он был не в силах.
Попросив Саида Алимовича подождать его несколько минут, Геннадий Алимжанович как на крыльях устремился к ближайшему от интернатских ворот дому, где ждала его возлюбленная (хоть это, наверное, и некрасиво, но выдадим-таки чужую тайну, которая всё равно, рано ли, поздно ли, тайной быть перестанет: той любимой девушкой старшего воспитателя была далёкая до совершеннолетия дочь ночной нянечки по кличке Швабра – Верка).
Больше часа прождал Саид Алимович своего наставника по педагогическому ремеслу. И, не дождавшись, боясь упустить беглецов, решил действовать в одиночку в твёрдой уверенности, что справится и сам.
В корпусе было тихо, как бывало далеко не всегда после отбоя. Над
входом горел фонарь, в коридорах – обычный полумрак, подсвечиваемый какой-нибудь редкой лампочкой через матовый плафон. Вошёл, поднялся на второй этаж, где располагались спальные комнаты его подопечного шестого «А» в соседстве со спальнями других классов. Из воспитательной «дежурки» доносился мощный бармалейский храп с присвистом – это после тяжких трудов по усмирению «фулиганских» проявлений детворы изволила отдыхать ночная няня Швабра, с дочерью которой, как мы успели сообщить, и развлекался в сей момент Сыщик Геннадий Алимжанович. Верка, ученица шестого класса, – только не подчинённого Саиду Алимовичу «А», а шестого «Б» этого интерната, – была девицей-«скороспелкой» ростом, в свои всего двенадцать лет, почти с мать, и выглядела на все семнадцать, в которые замуж выходят сплошь и рядом. В те ночи, когда мать дежурила в интернате, Верка ночевала, с её разрешения, дома, и на всю катушку крутила любовь (а это уже – мать не спрашивая) не только с местными совхозными парнями, но и с «нужными людьми», данном случае – со старшим воспитателем.
Саид Алимович сделал несколько крадущихся шагов по коридору, подошёл к одной из дверей, чтобы заглянуть в спальню. И как только толкнул дверь, неяркий «дежурный» свет во всём корпусе неожиданно погас. Видимо, какой-то юный злоумышленник из хулиганских побуждений выключил общий рубильник. В кромешной тьме сунув руку в карман, фонарика Саид Алимович вынуть не успел – страшной силы удар спереди в лицевую часть опрокинул его назад на пол. Очнулся он только после операции, на больничной койке…
ВРЕМЯ ЛЕЧИТ?..
Сухоруков и братья Тимохины подрагивающими от волнения руками прикурили-«присмолили» по очередной сигарете от не потухших ещё предыдущих. Трудно сказать, как повели бы они себя сейчас, появись на форуме Циклоп или Фигура, а ещё того хлеще – оба вместе взятые. Наверное, всё-таки, сдержанно. Ведь не потянуло же их в драку, за исключением ерепенившегося больше «для куражу» Тимохина-младшего, явление народу, да под ручку, бывших соратников в необъявленной войне против интернатских пацанов – Сыщика с Веркой-Шваброй… Время излечивает и не такое. Но, в любом случае, встреча с очередной парой подобных соратников мало обрадовала бы их.
Зато…
Мамочки! Неужели живы? Добрейшие люди того же «тринадцатого» интерната, не сильно уж и постаревшие…
И все трое кинулись обнимать его и целовать руки ей – пожилой паре, подошедшей к рыльцу тихо и скромно.
БЕГЕМОТ С ЁЛОЧКОЙ И СЕРАЯ ШЕЙКА
(ретроспектива)
Учитель химии и биологии Исаак Моисеевич по паспорту, а ученикам при первом знакомстве представившийся как Иван Михайлович, поставь его, необъятного своими телесами, на весы даже нагишом, без просторнейших его одежд со множеством карманов, всё время набитых всякой всячиной, потянул бы, наверное, ненамного меньше, чем настоящий бегемот.
Был он очень-очень, ну невероятно толст, ходил, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, отдуваясь и непрерывно вытирая всегда имевшимися у него наготове носовыми платками обильный пот с добродушного лица и мощной шеи. Крупнолицый и большерукий, медлительный в движениях и с неторопливой обстоятельной речью, увалень увальнем в обыденной жизни, на уроках он, однако, преображался настолько, что тяжеловесная внешность его куда только девалась. Иван Михайлович, – так, действительно, произносить полегче, чем Исаак Моисеевич, – превращался в настоящего чародея, преподавая традиционно скучнейшие для большинства интернатских предметы настолько интересно и живо, что уроки его пролетали как одно мгновение, на едином, можно сказать, дыхании.
Каждый урок, будь то химия с демонстрацией почти мгновенного
растворения медных монет в кислоте и иными «фокусами-покусами», или биология с весьма редко практикуемым в советской школьно-педагогической практике препарированием лягушек для показа в натуре их нервной системы, превращался им в увлекательное событие. Мало того, Бегемот, как единодушно окрестили Ивана Михайловича за его внешность интернатские, никогда и ни на что не обижался, не раздражался, и ни разу на памяти своих учеников не повысил своего рокочущего уникальным «шаляпинским» басом голоса даже на отъявленных нарушителей дисциплины. А уж о каком-то рукоприкладстве с его стороны и подумать было бы странно, при всей популярности данного воспитательного средства в этом учебном заведении.
И Бегемота зауважали, даже полюбили сразу, как только в начале этого учебного года он и его жена Нинель Фёдоровна, устроившись на работу в интернат, провели свои первые уроки.
Нинель Фёдоровна не менее творчески, чем её добрый благоверный супруг, трудилась в должности «англичанки». И тоже ни разу не отлупила ни одного ученика, хотя многие этого ещё как заслуживали. Преподавала она свой предмет ещё даже интереснее, чем Бегемот химию и биологию. И преподавание это выходило далеко за рамки официально утверждённой школьной программы. В результате интернатские всё чаще хвастались друг перед другом близким к настоящему английскому произношением слов и фраз на разных британских наречиях, с удовольствием заучивали стишки на этом языке, а те, кто обладал хоть каким-то музыкальным слухом, пытались пленять публику ещё и англоязычными песенками – на первых порах это были не приветствуемые советской государственной властью «буржуазно-стиляжьи» произведения всемирно известного квартета «Beetl`s», что могло грозить рисковой преподавательнице служебными неприятностями.
Но если кличка мужа Нинели Фёдоровны, самозабвенно любящего детей – своих обидчиков, звучала не просто жестоко, а ещё и неблагодарно в ответ на его к ним отношение, то её собственная кличка, с учётом её не меньшей любви к этим обездоленным во многом созданиям, была совсем уж
кощунственной, хотя и звучала куда более мягко. В иных обстоятельствах кличку эту можно было бы назвать даже ласковой – «Ёлочка». Но, только не в данном случае…
Беда в том, что «англичанка» пришла в интернат инвалидом без одной ноги, ампутированной после прошлогодней автокатастрофы полностью, до основания. Ходила Нинель Фёдоровна на костылях, носила длинные расклешённые юбки, плащи, пальто, и её единственная существующая нога, на взгляд интернатских, более всего напоминала, в сочетании с подобным подолом, низ ствола обыкновенной ёлки. И когда при её с мужем первом появлении на территории интерната один мальчишка-остряк громко выдал, словно одарил: «Ёлочка!» – хохот разразился неимоверный. И тот же голос тут же изрёк в довесок: «А дядька – бегемот».
Дрогнули в тот не делающий чести интернатским пацанам момент губы супругов, покрылись влагой глаза, но никак не проявили они своей обиды, не повернули назад, не ушли.
Поистине беспредельна неосознанная детская жестокость. Но, может быть не совсем она беспредельна? Есть, наверное, и граница её, где-то же начинается и доброта? Может, стоит, не ожесточаясь, не поддаваясь сиюминутным реакциям на обиды, на шалости, порой переходящие грань между баловством и прямым правонарушением, пробовать добраться до зачатков этой доброты, развить их во что-то большое и светлое? Иначе – какова цена званию Педагог?..
… Супруги Берги остались в интернате.
Насмешки и остроты детской толпы в адрес их внешности прекратились как-то сами собой. Приняли интернатские Бегемота и Ёлочку, о чём никогда потом не жалели. А когда узнали об этой семье побольше, то и вовсе туго пришлось бы озорнику, позволившему себе хоть малейшую вольность по отношению к этим людям. Мальчишеский самосуд иногда не менее жесток, чем сами их шалости.
Оказывается, у Бергов была дочь, которая по возрасту, с учётом
потерянного по болезни года (ей было одиннадцать), могла бы учиться здесь же, в четвёртом «А» или «Б». Но случилось так, что, несмотря на направление обоих родителей на работу в этот интернат, свободных мест в здешних четвёртых классах на тот момент не было ни одного, и Светка вынуждена была отправиться учиться в интернат другого района той же Сырдарьинской области. Немного успокаивало, правда, что директор того интерната был давним приятелем Берга-старшего, и по-дружески обещал позаботиться о том, чтобы девочка не ощущала без родителей особого дискомфорта. Хотя… даже мало-мальская опека администрации над любым отдельно взятым воспитанником любого учебного заведения всегда вызывает неприязнь сверстников. Дети есть дети…
Светлана Берг, как и мать, была инвалидом, хотя и в меньшей степени – у неё не сгибалась одна нога после аварии, в которую в прошлом году попала вся семья, и в результате которой мать лишилась целиком одной нижней конечности, а отец до сих пор мучился последствиями тяжёлых ушибов по всему телу. Начиная входить в тот волнительный возраст, когда незнакомые люди вот-вот начнут обращаться к ней и её сверстницам совсем по-взрослому: «Девушка, а не подскажете ли…» и так далее, она чрезвычайно стеснялась своей хромоты, болезненно переживала по этому поводу, стала замкнутой, тихой, почти не играла в совместные с одноклассниками игры. Сразу и накрепко прилепилась к ней в её интернате кличка «Серая Шейка» – по жестокой аналогии с прозвищем инвалида-утёнка из одноимённого литературного произведения. Её, отчасти в пику дружеской опеке директора интерната – товарища её отца, обижали, над её походкой, передразнивая, смеялись одноклассники, среди которых особенно изводил Светку своими злокозненными проделками Игоришка Рыбин по кличке «Налим» – забияка и двоечник, заводила во всех непотребных выходках худшей части класса.
Однажды на перемене сладкоежка Рыбин, в очередном порыве хулиганского вдохновения затеявший по пустячному «конфетному» поводу ссору с не меньшей чем он сам сластёной Серой Шейкой, у которой конфеты,
хоть простенькие, не переводились, да редко доставались в качестве угощения тому же грубияну Рыбину, подначил некоторых своих дружков на громкое скандирование: «Ка-стыль, храман-дыль! Ка-стыль, храман-дыль!» Светлана в истерике бросилась к открытому окну второго этажа, на котором находился класс, чтобы навсегда избавиться от надоевших до смерти издевательств. Но вовремя была поймана буквально за ноги самым сильным мальчишкой класса – Валеркой Богатырёвым-Азимовым. Сняв Светку с подоконника, Валерка передал её с рук на руки своему подбежавшему приятелю – классному отличнику Илюхе Сухорукову, а сам, в мгновение ока оказавшись в гуще скандировавших, несколькими ударами кулаков раскидал всю налимову шайку-лейку в стороны. Больше всех досталось, по справедливости, зачинщику Рыбину, одно ухо которого сразу же заметно распухло. Под глазом Игоришки ярко-сизым фонарём горел большущий синяк.
Под диктовку Валерки Рыбин покорно пробормотал в адрес Светки извинение, обещая больше никогда-никогда…
После уроков, уже в конце обеда в интернатской столовой Светка Серая Шейка встала со своего места и прохромала к столу, где понуро допивал в одиночестве (остальные одноклассники ушли, как положено, на улицу строиться, чтобы организованной колонной, с песней приступить к очередным пунктам распорядка дня) свой компот Игоришка Налим.
– Рыбин, а ты, правда, больше не будешь меня бить?
– Ну… – понуро пробурчал тот в ответ.
– На, возьми! – с ослепительной белозубой улыбкой (вот тебе и – невзрачная, почти всеми вокруг сверстниками, и в первую очередь им, Налимом, отбракованная из среды дружеского общения Серая Шейка!) Светка протянула своему злостному гонителю руку открытой ладонью вверх.
На ладони лежало несколько конфет-горошинок, которые Налим пытался отобрать у неё в классе, и из-за которых она чуть, было, не распрощалась с жизнью.
– Спасибо… – из уцелевшего после тумаков Валерки Богатырёва-Азимова глаза (второй совсем заплыл) первого классного хулигана прокатились крупные мальчишечьи слёзы, причину которых ему не забыть никогда в жизни.
Вечером Светка отписала письмо родителям в «Тринадцатый» интернат, и радостно сообщила, что отныне её в классе обижать не будут, что у неё теперь куча друзей – Валерка, Илюха, Игоришка. Как здорово!..
Иван Михайлович и Нинель Фёдоровна, хотя и с трудом, но предпочли, всё же, поверить дочери, что малолетний циник и автор-изречитель большей части интернатских кличек Рыбин вдруг вздумал исправиться, и с некоторым облегчением вздохнули, продолжив, тем не менее, хлопоты по переводу либо их самих в интернат, где училась дочь, либо – дочери в их интернат, поближе к родительской ласке.
А пока супруги Берги, проживая на территории школы-интерната номер тринадцать в «учительском домике» на несколько семей, всё свободное от уроков и проверки ученических тетрадей время общались с бесконечной чередой гостивших у них мальчишек и девчонок. Это общение, в противовес не слишком ласковому обращению с учениками других педагогов, стало истинной отдушиной для всех тех, кому особенно не хватало как минимум простого человеческого участия. Бегемоту и Ёлочке детвора, с аппетитом поедая за вкусно заваренным чаем ещё более вкусное варенье из запасников Нинели Фёдоровны, изливала душу, жаловалась, искала у них если не прямой защиты, то хотя бы сочувствия после общения прямо противоположного – с теми педагогами, что соревновались, казалось, друг с другом в суровости обхождения с подопечными.
Кардинально изменить положение дел Берги вряд ли могли, но, как умели, утешали, а иногда, по мере сил, и защищали обиженных… и вот теперь, более двух десятков лет спустя, они искренне, от души, то и дело утирая слёзы, радовались и за генерала-лётчика Колю Сухорукова, и за офицеров-пожарных Митю и Павлика Тимохиных, и за всех тех интернатских воспитанников, которые, несмотря ни на что, сумели стать настоящими людьми.
Зазвучала торжественная маршевая музыка. По громкоговорителю всех прибывших на форум начали приглашать в зал…
ИЛЮХА. ОПОЗДАНИЕ В ДЕСЯТОК ЛЕТ
Профессор Илья Николаевич Сухоруков был сегодня счастливейшим человеком на свете. Какой сюрприз, приготовленный им, ожидает его брата Колюху, да и многих других интернатских на Втором ташкентском форуме (да-да, уважаемый читатель, это не опечатка – уже не на том вышеописанном Первом с Пожарниками, Бегемотом с Ёлочкой и Сыщиком со Шваброй-младшей, а именно на Втором, десятилетие спустя после Первого)! Через час, максимум через два он такое объявит! А главное – покажет…
Да-а… ради такого результата стоило потратить несколько лет жизни, и не только. Боже! Неужели?.. Сам бы не поверил в такое, кабы не собственноручно сотворил этот сюрпризище. Не в одиночку, конечно, сотворил, а с помощью некоторых верных друзей. Вот, он, один из этих верных, похрапывает в соседнем кресле…
Интересно, а что это ему, Кариму, снится-мерещится такое, отчего блаженная улыбка на его лице то и дело уступает место гневной гримасе? Конечно же, есть заслуженному учителю Узбекской ССР товарищу Умурдзакову что вспомнить – как из недавних пережитых вместе с ним, Ильёй Сухоруковым, событий, так и из тех незабываемых детских и юношеских лет, не говоря уже о многолетней и многотрудной педагогической стезе. Гнев, скорее всего, предназначен кое-чему из давнего. А вот улыбка – яснее ясного – более чем удачному исходу и расследования, и всей эпопеи, и… – опять-таки тому же давнему, что и гнев – неоднозначной, но в целом счастливой школьной поре, которую хоть и не вернёшь, но вспоминать с грустью будешь всегда. Тем более, если ты, как уважаемый Карим-ака, стал учителем, безупречно проработал им всю свою трудовую жизнь, и перед твоими глазами ежедневно с утра и до ночи бурлит и кипит жизнь школьников всех возрастов, поколение сменяясь за поколением…
Нет, мало Каримчику звания Заслуженного… – вернулась мысль Ильи Николаевича к регалиям своего друга, – почему он не Герой труда до сих пор?.. Ведь, с детства даже, если поискать…
Однако, сколько профессор ни тужился, как ни напрягал память, так и не смог припомнить в детско-юношеском периоде жизни Карима хоть чего-то выдающегося, из ряда вон выходящего. Это сейчас Умурдзаков расцвёл, стал мудрым и уважаемым в республике педагогом и, в конечном итоге – человеком, без помощи которого Илья Николаевич вряд ли пришёл бы к предстоящему сегодня событию с чувством выполненного долга. А тогда… бесхитростный и безвредный, отзывчивый в беде и не жадный, но и без геройских замашек, скромный узбечонок-хорошист, не страдающий особыми амбициями и не отличающийся яркими достижениями. Вот, некоторые другие – это да!..
Предательское чувство самодовольства, вспыхнувшее в душе, Сухоруков всё же постарался быстро и безжалостно подавить. Не всё, далеко не всё, уважаемый Илья Николаевич, в твоей и той далёкой школьной, и в этой взрослой жизни заслуживает бесспорного восхищения, – мысленно изрёк в свой адрес бывший отличник, танцор, симпатюля и счастливый влюблённый-возлюбленный, а ныне солидный, известный в широких кругах деятель науки. – А поскольку не обо всех моментах своей жизни ты готов рапортовать как о подвиге, то постыдился бы надуваться сейчас как индюк. Вспомни-ка об ошибках и промахах, а то и малодушии там, где тот же Карим повёл бы себя куда умнее, твёрже, достойнее.
Ошибок и промахов этих, посмотри честно сам себе в глаза, у тебя никак не меньше, а то и больше, чем побед. Ну, взять хотя бы то, что летишь ты сейчас уж никак не на такое удачно организованное, как более десятка лет назад здесь же, в Ташкенте, первое подобное мероприятие, затеянное тобой, но на которое сам ты не попал…







