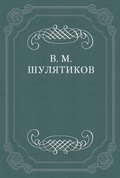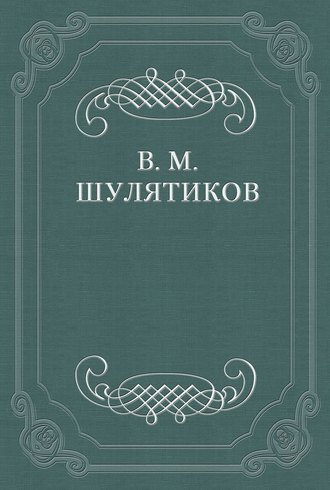
Владимир Михайлович Шулятиков
Восстановление разрушенной эстетики
«Аристократическая» реакция катится широкой волной. Форменный романтизм, романтизм, рационализировавшийся, давший, например, ницшеанскую систему с ее культом героев, презрением к «демосу», апофеозом аристократического «рода», эстетизм, увлечение индивидуально-психологическим искусством – все это проявления одного и того же прогресса. Каждая отдельная клетка, «интеллигентного пролетариата» берет из архива прошлого то, что ей по вкусу, что отвечает ее инстинктам и потребностям. Если клетки, более слабые, более способные поддаваться, зачастую, патологическим формам маразма, то есть клетки, одаренные наименьшим социальным самочувствием, заимствуют из названного архива все экзотическое, то сравнительно более нормально организованные клетки пользуются архивным материалом с большей осторожностью и разборчивостью. В результате заимствования создается или романтическая сказка, или аристократический роман, или психологическая новелла, или рассказ настроений, или лирическое стихотворение, воспевающее личные переживания.
Но – повторяем – за вычетом преднамеренно кричащих или явно патологических примеров, романтика, эстетизм, литературный «индивидуализм», возродившись, в наши дни потеряли свой первоначальный колорит. Как все интеллигенты, которые наметили путь к реабилитации «родной старины», так и те, которые восприняли предание чужой культуры, – одинаково не в состоянии воскресить былого произвола и фантазии. Творческое воображение все-таки рационализировалось. Все-таки уроки, преподанные разночинской интеллигенции классических времен, не пропали совершенно даром для интеллигентного пролетариата.
VIII
«Как вы все мелки, как жалки, как вас много! О, если бы явился суровый и любящий человек, с пламенным сердцем и могучим всеобъемлющим умом! В духоте позорного молчания раздались бы вещие слова, слова – как удары колокола, и, может быть, дрогнули бы презренные души живых мертвецов!..
«Мне нужен учитель, потому что я человек; я заплутался во мраке жизни и ищу выхода к свету, к истине, красоте, к новой жизни, укажи мне пути! Я человек. Ненавидь меня, бей, но извлекай истины из моего равнодушия к жизни! Я хочу быть лучшим, чем есть: как это сделать? Учи!..»
Так Максим Горький устами своего «читателя» нападал на, современную школу беллетристов и требовал возвращения к прежним традициям литературы, к временам «пророков», проповедников, учителей жизни. Явившийся из общественных «низов» писатель нес оттуда иное, более высокое представление о задачах деятельности художника, чем то, которое узаконялось идеологами интеллигентного пролетариата.
Но осуждение «слабых духом», капитулировавших перед действительностью «молодых» беллетристов за то, что последние не могли заявить себя учителями, указывать и открывать новые пути в лабиринте общественных отношений, будить дремлющих «мертвецов», – это осуждение не было равносильно в устах Максима Горького безусловному признанию несостоятельности мировоззрения «слабых духом». Напротив, многое сближало автора «Троих» и «На дне» с «интеллигентным пролетариатом», многое из настроений названной группы находило отклик в его духовном мире. Даже принято некоторой частью критики не выделять Максима Горького из сонма представителей «молодого» поколения художников-интеллигентов… И, в свою очередь, М. Горький выступал с «изъявлением своих больших симпатий к носителям «нового» мировоззрения»[40], указывая тем самым на узы духовного сродства, связывающие его с последними.
Эти узы – его индивидуализм и идеализм.
Общественный класс, отражением интересов которого служат рассказы, повести, драмы Максима Горького, – противник реалистического миропонимания. Опять мы имеем дело о общественной группой, беспомощно стоящей перед лицом действительности, и на этот раз беспомощность означает не удаление в область узко групповой борьбы за жизнь, не заражение обывательскими стремлениями, а бессильную агонию низверженных в прах гладиаторов. Босяки – действительно люди, которым «нет ходу в жизни».
Правда, Горький заставляет своих босяков говорить о строительстве жизни, о проявлениях активной энергии, о героизме. Но на какой героизм способны босяки и куда ведет их героизм, какого рода победу одержать они могут над «враждующей судьбой». Вот яркие примеры доступного для них торжества. Илья Лунев, в образе которого Максим Горький наиболее полно обрисовал психологию босяка, долго накапливает силы для того, чтобы дать решительный бой своему неприятелю – «мещанскому» обществу. Наступает минута боя: Лунев на именинах своего компаньона по торговле, бывшего полицейского чиновника, делая неожиданное признание в убийстве, произносит резкую обличительную речь против общества. И когда присутствующие поражены, как громом, его признанием и его обличениями, Лунев чувствует себя победителем, наслаждается их паникой. Но лишь только все, что он имел сказать, было сказало, Лунев тотчас как бы опускается с неба на землю. «Он почувствовал, что устал говорить, что в груди его образовалась равнодушная пустота, а в ней, как тусклый месяц на осеннем небе, стоял холодный вопрос: а дальше что?»
А дальше ничего: Лунев отомстил, как мог, за «обиды жизни»; цель жизни была им отныне потеряна, и автор спешит своего героя удалить со сцены.
Точно так же далее подобного минутного торжества не пошел другой носитель босяцких настроений – Фома Гордеев. И он излил недовольство жизнью в резко обличительной речи перед собранием пирующих «мещан», чувствовал себя одно мгновение победителем и затем погрузился в состояние «равнодушной пустоты», и так закончилась повесть его исканий света и счастья.
Босяцкий героизм, одним словом, сводится к вспышке, иногда очень яркой, бессильного гнева: это – героизм отчаяния, героизм гибели. Песнь о «Смелом Соколе», испытавшем счастье битвы, падающим с высоты с разбитой грудью, бьющимся в «бессильном гневе о твердый камень» – апофеоз этого героизма. Характерно, что в «Песни о Соколе» описывается именно момент гибели, характерно, что Сокол видит в битве самую цель, а не средство к достижению других, положительных целей.
«О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я… к ранам груди… и захлебнулся моей бы он кровью!.. О, счастье битвы!» – восклицает умирающий Сокол. Максим Горький переводит на поэтический язык те положения, в которых приходится стоять и Луневу и Фоме Гордееву в минуту расчетов с «мещанским царством». В духовном мире босяков доминирует чувство «обиды на жизнь»; с обличениями против мещанского царства они выступают уже тогда, когда отчаялись в существовании для них иных путей исхода из «хаоса» действительности; давая решительный бой, они преследуют одну цель – отомстить за, обиды; о плодах победы они не думают, потому-то момент боя совпадает для них с моментом достижения цели, ради которой битва предпринята; потому-то после битвы им ничего больше не остается делать и желать.
Lumpen – пролетариат не принадлежит к числу общественных единиц, который дано принимать участие в строительстве жизни. Он, в его целом, обречен лишь довольствоваться пассивною ролью, реагировать пассивными ощущениями на тревогу «громадной несущейся вперед жизни».
«Живи и ожидай, когда тебя изломает, а если изломает уже – жди смерти! Только и есть на земле умных слов… Проходит жизнь известным порядком, ну, и проходи, – так, значит, надо, я тут не при чем. Законы-с, против них невозможно итти», – так выясняет свою позицию в процессе реальной жизни проницательный представитель своего класса, безрукий босяк, фигурирующий в рассказе «Тоска».
Эмпирическая безысходность – полнейшая. И она порождает отрицание реалистического взгляда на вещи. «Рассуждают люди, – исповедуется безрукий босяк, – о том, о другом и прочее… Глупо-с! Очень глупо! О чем рассуждать, когда существуют законы и силы? Как можно им противиться, ежели у нас все орудия в уме нашем, и он тоже подлежит законам и силам? Значит, живи и не кобенься, а то тебя сейчас же разрушит в прах сила, состоящая из собственных своих свойств и намерений и из движений жизни! Это называется философией действительной жизни…»
Думать – это значит для босяка воскрешать скорбную память прошлых падений и неудач и убеждаться в непоправимом трагизме своего положения.
Челкаш, образец сильной и цельной, по мнению М. Горького, личности, на минуту предстает перед читателями упавшим и жалким. Разговор с Гаврилой навел его на думы о прошлом. «Память, – замечает автор, – этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в выпитый некогда яд подливает капли меда… и все это затем только, чтобы давить человека сознанием ошибок и, заставив его полюбить это прошлое, лишить надежды на будущее». И Челкаш лишается на мгновение своего «героического облика», сознает себя несчастным, одиноким человеком, «вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах».
«Задумавшийся» человек – синоним человека, потерянного для жизни.
«Ты думаешь, – говорит босяк Сергей Мальве, – вот оно что!.. А кто думает, тому скучно жить… Задумаешься – разлюбишь жизнь. Это всегда так бывает», – формулирует босяцкий страх перед жизнью Макар Чудра. Ту же мысль в своеобразной форме высказывает Кравцов («Ошибка»). «Думать – это даже благонамеренно, – потому что от дум человек погибнет сам, и вы не тратите своих копеек на то, чтобы погубить его!»
Как на пример человека, погибшего от «яда дум», Максим Горький указывает на Коновалов. Но раз думы о действительности, раз «правда жизни» убивают человека, то, естественно, эмансипироваться от власти этих дум, от признания этой «правды».
«Правда, которая, падая на голову человека, как камень, убивает в нем желание жить, – да погибнет!..[41]. Бегай от дум про жизнь»…[42]
Кто сумел приказать себе «не думать», кто сумел отбросить память прошлого и заставил замолкнуть в себе сознание своей полной неудачи на жизненном пиру, тот, – объявляет босяцкая мудрость, – устоял в борьбе за существование. Единственное, что остается «бывшим людям», беспомощным перед неумолимыми законами жизни, – это избавить себя от «излишних и бесплодных страданий». Босяк постольку хозяин своей судьбы, поскольку ему удается облегчить тяжесть агонии. Скрасить мгновение неизбежного конца – единственно доступное для босяка счастье. И величайшее несчастье для него – не уметь этого сделать. А раз только таким путем он может оказать сопротивление «враждебным» обстоятельствам, только таким путем проявить свою жизнеспособность, то, естественно, возникает босяцкое учение о силах личности, как единственных очагах человеческой жизни и человеческой истории.
Все (то есть «все» конца) зависит от самого человека, имеет ли он в себе достаточно душевных сил (то есть сил мужественно встречать конец) или нет.
Корень всех зол в том, что люди «слабы», что слишком много «нищих духом». Все спасение в «богатстве духа»: надо заботиться только о приобретении этого богатства; надо воспитать в себе сильную и цельную личность, надо уверовать в себя. И «нет крепче оружия, чем эта вера, вера в человеческую личность». «Человек – вот правда…»
«Все – в человеке, все для человека! Существует только человек. Все же остальное – дело его – рук и мозга! Чело-век! Это – великолепно звучит… гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека!..»[43]
Таковы основоположения босяцкого индивидуализма.
Вместе с тем, проповедуя спасение от убивающей «правды» действительности и отравляющих дум, босяцкая житейская мудрость открывает широкие пути к усвоению идеалистических взглядов. Взамен логически рассуждающего ума, признанного ею непригодным для приспособления в борьбе за существование, она предлагает обратиться к, помощи «возвышающего обмана» – «свободной» фантазии.
В одном из наиболее ранних произведений Максима Горького рассказан следующий характерный случай. Проститутка просит студента написать от ее имени письмо ее возлюбленному. Студент пишет. Через несколько дней новая просьба о новом письме: только на этот раз письмо должно быть адресовано самой Терезе (имя проститутки) от имени ее Болеся. Первое письмо оказывается не отправленным по назначению, а лежащим в столе у проститутки. Студент поражен; у него даже мелькает подозрение, не сошел ли кто-нибудь из них – Тереза или он сам – с ума.
«Слушайте, Тереза! Что все это значит? Зачем вам нужно, чтобы писали другие, сам я вот написал, а вы его не послали». – «Куда?» – «А к этому… к Болесю?..» – «Да его же нет!..»
И Тереза объясняет, что в данном случае это безразлично: «Ах, Иисус-Мария! Ну что же, что нет, ну? Нет, а будто бы есть! Я пишу к нему, ну – и выходит, как бы он есть… А Тереза – это я, и он мне отвечает, и я опять ему…»