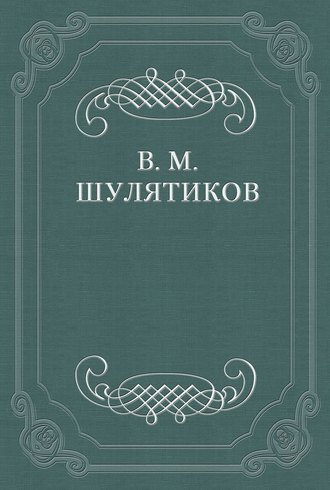
Владимир Михайлович Шулятиков
Восстановление разрушенной эстетики
Отступление от области «действительности» легализируется.
IV
С потерей своего прежнего значения художники-беллетристы долгое время примириться не могут. Первый писатель, заявивший категорически о том, что служители искусства сошли с общественного пьедестала, развенчаны как общественные деятели, заплатил за подобное признание ценой тяжелых душевных переживаний.
Юноша – Надсон лелеет идеал писателя-гражданина. Художники, по его убеждению, должны перерождать действительность «огненным словом». Обладая даром «огненного слова», он сам мог бы «прорубить» мир:
Как беспощадно б, как сурово
Порок и злобу я клеймил…
Я б поднял всех на бой со мглою,
Я б знамя света развернул
И в мир бы песнею живою
Стремленья к истине вдохнул!..
Но способствовать перерождению действительности он не властен. И это обстоятельство диктует ему пессимистические строки:
Мне не надо такого слова…
Бессилен слабый голос мой,
Моя душа к борьбе готова,
Но нет в ней силы молодой…
В груди – бесплодное рыданье,
В устах – мучительный упрек,
И давит сердце мне сознанье,
Что я, я раб, а не пророк. Поэт-юноша объясняет свое беспомощное положение тем, что «муза» обделила его, наградив слабым дарованием. На самом деле, с первых шагов литературной работы Надсона обнаружился его яркий талант. Впоследствии поэт указал, что источник зла не в особенностях его дарования, что бессилие врачевать недуги современности – общий удел поэтов его времени. Отвечая на упреки за то, что его песни не являются «ярким маяком во мраке молчаливом», он восклицает:
…Не требуй от певцов
Величия души героев и пророков!
В узорах вымысла созвучных звонких строк,
Разгадок не ищи и не ищи уроков…
Поэты – только «голос» родной страны, а не учителя жизни, открывающие светлые горизонты будущего.
Учить не властны мы!..
Учись у мудрецов,
На жадный твой запрос у них ищи ответа;
Им повторяй свой крик голодных и рабов:
Свободы воздуха и света!..
Больше света!..
Поэты «исхода» не знают: «ночь жизни» окутала их, как и прочую толпу. И облегчить «роковые недуги» действительности они не могут, лишь давая отклик и привет толпе.
Надсон, отказываясь от непринадлежащей ему роли, утешает себя мыслью, что давать «отклик и привет» толпе, страдать ее страданиями – благородное призвание. Но это весьма слабое утешение для него… Образ пророка слишком заманчив и привлекателен. Не быть пророком, в глазах Надсона, – синоним духовного банкротства. Отсутствие «пророков» художников – признак «жалкого, дряхлеющего века». Единственно, кто может спасти современное человечество из «бездны зла», – это именно «могучий пророк».
В минуты же гнетущего отчаяния Надсон не раз призывал этого пророка явиться:
Где ж ты, вождь и пророк?.. О, приди,
И встряхни эту тяжесть удушья и сна!
восклицает он, убедившись в том, что душевный дар без пользы им растрачен, и будущее не обещает ничего хорошего.
Изнемогает грудь в бесплодном ожиданьи,
Отбою нет от дум, и скорби, и тревог…
О, в этот миг я весь живу в одном желаньи,
Я весь – безумный вопль: Приди, приди, пророк!
еще яснее подчеркивает он спасительную миссию «пророка».
И призывом пророка он заканчивает свою литературную деятельность, подводит итоги всего жизненного опыта:
Пора! Явись, пророк всею силою печали,
Всей силою любви взываю я к тебе.
Взгляни, как дряхлы мы, взгляни, как мы устали,
Как мы беспомощны в мучительной борьбе.
Теперь иль никогда… Сознанье умирает,
Стыд гаснет, совесть спит… Ни проблеска кругом,
Одно ничтожество свой голос возвышает…
При такой высокой оценке «пророческого» начала низведение себя в простые «рядовые» должно было означать, во всяком случае, тяжелую душевную драму, не могущую быть устраненной при помощи паллиативных средств. Слияние Надсона с «толпой» не было прочно. Толпу Надсон определял постоянно как массу поглощенных будничными заботами борьбы за существование людей. С толпою объединяли его лишь непонимание «хаоса» действительности, страх перед действительностью и проблески некоторых настроений, грозивших временами поэту застоем «полдороги». Делить с толпою «будничный удел» поэт постоянно отказывался; против «мещанских» настроений постоянно боролся.
Правда, борьба с последними была подчас нелегка, покой «полдороги» казался подчас весьма соблазнительным; жажда личного счастья говорила в нем подчас слишком властно, стараясь заставить его забыть обязанности «гражданина». Надсон даже называл соблазн «полдороги» более опасным врагом, чем прочие враги:
Есть у свободы враг опаснее цепей.
Страшней насилия, страданья и гоненья;
Тот враг неотразим, он в сердце у людей,
Он – всем врожденная способность примиренья.
Но восторжествовать над собой «неотразимому врагу» он все-таки не давал. И уже одна борьба с этим врагом ставила его над «толпой».
Неопределенные, смутные, но страстные, сильные порывы демократических чувств делали невозможным его пребывание в среде «мещанского царства».
Поэт имел право утверждать, что он рано разбужен «грозою», выделился из толпы, пошел вперед к. дали будущего, в начале исполненный радужных надежд… Но вскоре выяснилось, что вести за собой других он не может, видения дали исчезли; «безнадежность» и «глухая тоска» сменили светлое настроение… Фигура Надсона типична на фоне восьмидесятых годов. Рассказанная в его стихотворениях катастрофа «разбитых усилий», «подрезанных крыльев» есть именно катастрофа «восьмидесятника».
Социальный агностицизм и пессимизм названной эпохи нашел в Надсоне наиболее яркого выразителя. В его лице «восьмидесятники» договорились до формулы, определяющей «жизнь» – как сумму случайных феноменов, быстро сменяющих друг друга, по воле неведомых сил:
Вот жизнь, вот этот сфинкс. Закон ее – мгновенье.
И нет среди людей такого мудреца,
Кто б мог сказать толпе, куда ее движенье,
Кто мог бы уловить черты ее лица.
Отношение к «сфинксу», к «хаосу» действительности определили для него невозможность «пророчества». Именно начинается самая интересная и важная сторона его душевного разлада.
Попыток разгадать загадку «сфинкса», «уловить черты лица» действительности Надсон делал немало. «Реалистический» анализ, «бесстрашие истины» – признается им обязательным для «перла создания», «разумного человека». Он говорит о себе:
Жалкий трус, я жизнь не прятал за обманы
И не рядил ее в поддельные цветы,
Но безбоязненно в зияющие раны,
Как враг и друг, вложил пытливые персты,
Огнем и пыткою правдивого сомненья
К все проверил в ней. боясь себе солгать…
Для того, чтобы верить, он должен знать… Пусть познание обесценивает «много светлых грез», открывает много «ужасов», пусть «бездна отрицаний» слишком мрачна и черна: но нельзя «опускать перед нею испуганных очей»; нужно нести «светоч познания» в ее холодную глубину, и, «не робея, итти до дна».
Пусть даже на «дне» ожидает гибель спустившегося в «бездну»; пусть «познание» осветит одни лишь картины ужасов и вид их убьет искателя истины, – все же поэт готов встретить подобную смерть, предпочитал ее успокоению «наверху», в царстве «поддельных цветов», «прекрасных», но лживых грез, нарядных «обманов». Он приветствует ум, свободный ум, не видящий исхода и не смирившийся перед жалкою судьбой.
Но трагический апофеоз ума не является окончательный подведением итогов отношения к «хаосу» действительности. Спускаясь на «дно», Надсон в то же время иногда оглядывался на «верхи». «Ум», действительно, открывал перед ним лишь «одни ужасы», и героизм «отрицания» оказывался слишком тяжел, требовал, употребляя выражения поэта, «нечеловечески великого страдания».
Замкнувшийся в сферу ограниченного «опыта» «восьмидесятников», то есть судивший о жизни на основании знакомства с обрывкам действительности[31], знакомства только с двумя общественными группами – «обществом буржуев» и «обществом» ставшей на распутай интеллигенции, Надсон не выдерживал роли «реалиста». Трагизм «эмпирической безысходности» подавлял его.
Проповедуя «бесстрашие истины», он в то же время сознавался, что у него мало сил «взглянуть без ужаса, очей не опуская» в лицо окружающей его действительности. Он отрекался от культа ума. Ум объявлялся банкротом, могущим лишь «иссушать бесплодной тоской», приносящим лишь «мрак уныния, да злобу жгучих слез».
Ум вносит только дисгармонию в душевный мир, разлагает цельность последнего, не дает жить, делает современного человека жалким. Современный человек – «мертвец»:
…Потому что он с детства не жил, Потому что не будет до гроба он жить, Потому что он каждое чувство спешил, Чуть оно возникало, умом разложить.
Ум, этот хранитель «опыта», отравляет малейшую улыбку счастья; воскрешал воспоминания о былых «ранах» и былых впечатлениях, он заставляет с недоверием встречать все, что говорит о «ясных днях» будущего. Возможность счастья пугает поэта…
О любви твоей, друг мой, я часто мечтал,
И от грез этих сердце так радостно билось,
Но едва я приветливый взор твой встречал,
И тревожно и смутно во мне становилось.»
И боялся за то, что минует порыв,
Унося прихотливую вспышку участья,
И останусь опять я вдвойне сиротлив
С обманувшей мечтой невозможного счастья.
Из союзника ум становится врагом. Смерть рисуется поэту как избавительница от гнетущей работы ума, от пытки «сомнений».
Надсон ищет спасения; из глубины бездны он смотрит «наверх». «Поддельные цветы», нарядные, но лживые «грезы», «обманы» – все это, с негодованием отвергаемое им в минуты подъема духа, теперь, в минуты отчаяния, приобретает для него большую ценность.
В такие минуты он проповедует «ложь» и «слепую веру».
Он обращается с горьким упреком к писателям, доказывающим несостоятельность тех, кто думает прокладывать дорогу в хаосе современности, не зная этой действительности, увлекаемый иллюзорными надеждами:
Быть может, их мечты – безумный смутный бред
И пыл их – пыл детей, не знающих сомнений,
Но в наши дни молчи, не верящий поэт,
И не осмеивай их чистых заблуждений.
Молчи или даже лги…
Лгать нужно, потому что и так слишком много жалких слез, «и так кругом «отчаяние и сон»… В другом стихотворении признается законность «обманов», «возвышающих» хотя бы на «краткий миг».
В больные наши дни, в дни скорби и сомнений,
Когда так холодно и мертвенно в груди,
Не нужен ты толпе, неверующий гений,
Пророк погибели, грозящий впереди:
Пусть истина тебе слова твои внушает,
Пусть нам исхода нет, – не веруй, но молчи..
И так уж ночь вокруг свой сумрак надвигает,
И так уж гасит день последние лучи…
Пускай иной пророк, пророк, быть может, лживый,
Но только верящий, нам песнями гремит,
Пускай его обман, нарядный и красивый,
Хотя на краткий миг нам сердце оживит.
«Возвышающий обман» прогресса не двигает, часто ведет к непосредственному поражению: это Надсон знает, избирая своим героем Икара, обманувшего себя и бесплодно погибшего. Но не содействие движению прогресса поэт имеет в виду, предлагал как радикальное средство – «возвышающий обман»; веру в прогрессивное развитие он во время кризисов обостренного отчаяния теряет. Речь идет лишь о том, как бы сделать существование сознающих безысходность своего положения «восьмидесятников» хоть несколько сносным.
«Только бы верить во что-нибудь, верить душой». Только бы брать от текущего момента полноту, цельность «внутренних» переживаний «личности».
На что б ни бросить жизнь, мне все равно. Без слова
Я тяжелейший крест безропотно приму,
Но лишь бы стихла боль сомненья рокового
И смолк на дне души безумный вопль: «к чему?»
Допускается ряд различных решений вопроса. Подобная формула освящает как работу в сфере общественной деятельности, так и удаление в область идеологических надстроек. Главное требуется: личности уйти от собственных страданий, избавиться от собственного «настроения». Кладутся в основу всего индивидуалистические стимулы.
Почва для бегства из мира действительности, где «одинокая» личность чувствует себя погибающей, в традиционную крепость спасения дана: «мир сна» – «сладкий обман» эстетического воображения оправдан.
Надсон явился на литературное поприще с высоким представлением о «чистой поэзии», вынесенным из той «культурной» обстановки, которая воспитала его. Поэзия рождена, – по мнению поэта-юноши, – не на лоне действительности: поэзия – дочь небес, некогда сошедшая на землю из «тихой сени рая», увенчанная душистыми розами, с «молодой улыбкой» на устах:
Она сошла в наш мир, прелестная, нагая
И гордая своей невинной красотой.
Она несла с собой неведомые чувства.
Гармонию небес и преданность мечте,
– И был закон ее
– искусство для искусства.
– И был завет ее – служенье красоте.
Но действительность сурово встретила небесную гостью: венок душистых цветов был сорвал и растоптан; нежные, «девственно прекрасные» черты богини покрылись «обликом сомнений и печали», гимны «красоты» перестали звучать, смененные песнями «душевной муки».
Чистому искусству нет места на «позорище жизненной битвы». Один только терновый венок может теперь украшать чело поэзии. Надсон в ряде стихотворений выставляет себя сторонником «гражданского» искусства. Но уже из приведенной цитаты ясно, что отношение его к «чистой» поэзии далеко не враждебное. Культ красоты уступил позицию «гражданским» мотивам – по его мнению – только в силу печальной необходимости. Надсон с сожалением относится к «разрушенной эстетике». Истинным поэтом, наряду с поэтом-»гражданином», он продолжает считать и жреца «звуков сладких и молитв». Теперь такие жрецы не должны существовать, теперь «эстетика» – отступничество от прямого пути, соблазн «полдороги», – это прекрасно сознает Надсон-гражданин. Но Надсон – сын «усталого», «больного» поколения – нарисовал гордый образ поэта, ведущего современников «в бой е неправдою и тьмою, в суровый, грозный бои за истину и свет», сейчас же рисует иной образ:







