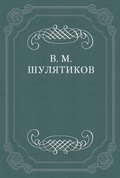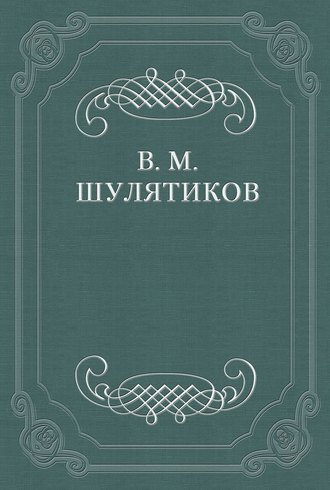
Владимир Михайлович Шулятиков
Восстановление разрушенной эстетики
И так постоянно. Леонид Андреев везде выступает служителем искусства-игры. Не изменяет он себе и в тех произведениях, за которые получает наименование крайнего натуралиста. Создавая их, он также руководится целью воспроизвести «настроение». Реалистические описания сами по себе не имеют в его глазах ценности. Те или другие явления действительности приковывают его внимание лишь как источники тех или иных эмоциональных комплексов. И Леонид Андреев пользуется ими как составными элементами для строительства «мира сна», мира обманов», как удобным материалом, которым можно распоряжаться, повинуясь требованиям творческого воображения.
Отсюда понятны его быстрые переходы от разработки «натуралистических» тем к фантастическим и «декадентским» сюжетам. Эти переходы не знаменуют для него переходов из области одного искусства область другого. Из осколков ли действительности или из обрывков кошмарных видений фантазии, он одинаково может создать свою мозаичную работу, оставаясь в среде одного и того же процесса творчества. В свое время П. Михайловский отметил рассказ «Ложь» – как облако на ясном горизонте художественной деятельности начинавшего беллетриста. С тех пор по этому горизонту заходили и грозовые тучи: появились «Стена» и «Набат». Но и облако и тучи не были неожиданностью; они лишь придали зловещий колорит горизонту, очерченному и без того туманами: ясного горизонта не существовало. Quasi – реалистические произведения Леонида Андреева – тоже своего рода «облака»; о «громадно-несущейся вперед жизни», о жизни действительности понятия они не дают.
«Я действительности нашей не вижу, я не знаю нашего века», – эти слова, сказанные одним откровенным enfant terrible современной поэзии, мог бы применить к себе Леонид Андреев. Он знаком лишь с миниатюрными уголками реальной жизни, а все остальное скрыто от него завесой неизвестности. И свой «опыт» жизни он формулирует: жизнь – это игралище «равнодушных слепых сил», фаталистически действующих по неведомым для человечества законам и обращающих судьбу человека в клубок каких-то иррациональных случайностей.
«Интеллигентный пролетарий» высказывается определенно и решительно… Выше мы указали, как сложилось подобное миросозерцание: кажущаяся «глубина» и «широта» взглядов Леонида Андреева свидетельствует лишь о бессилии разгадать загадку сфинкса и о «бегстве» от «действительности».
Типичнейшие герои Л. Андреева – это люди, живущие «грезами» или «мечтами», люди «воображения» – «imaginatifs» et «reveurs».
Чиновник Андрей Николаевич («У окна») отсиживается от «действительности», уйдя в свой внутренний мир. И вот каким образом он удовлетворяет себя за неудачи на поприще реальной жизни. В свободные от службы часы он подходит к окну своей комнаты и смотрит на красивый барский дом, находящийся на противоположной стороне. «Даже… когда все кругом стояло безжизненным и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо вырезаясь, казались молодыми, свежими, радостными, точно для них никогда не умирала весна, и сами они обладали тайной, вечно зеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображать, как живут «там смеющиеся, красивые люди неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногой в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы, с ее грязью, и все там так красиво, уютно и чисто. Очутиться самому на положении обитателя красивого! барского дома Андрей Николаевич не желал бы жить для него вообще значит только «испытывать тот страх, который идет вместе с жизнью», а тем более «страшна» шумная, открытая жизнь. Его идеал: – ограничиваться созерцанием, точнее – работой воображения по поводу созерцаемого. Работа воображения избавляла Андрея Николаевича от страха перед жизнью. «Время застывало для него в эти минуты, и его зияющая, прозрачная бездна оставалась недвижимой». Также за бесцветность и убожество своего существования вознаграждает себя игрой воображения Сергеи Петрович («Рассказ о Сергее Петровиче»). Он «ординарный», ограниченный юноша, мечтал о каком-то «чуде», благодаря которому «он преображается в красивого, умного и неотразимо-привлекательного» человека. После оперы он представлял себя певцом, после книги – ученым; выйдя из Третьяковской галереи – художником, но всякий раз фон составляла толпа, «они»… которые преклоняются перед его красотой или талантом, а он делает их счастливыми. Когда длинными неуверенными шагами, опустив голову в выцветшем картузе, Сергей Петрович шел в столовую, никому в голову не приходило, что этот невидный студент с плоским ординарным лицом в настоящую минуту владеет всеми сокровищами мира». Героем его воображения был жюль-верновский капитан Немо, ушедший в сказочную глубь океана, прельщавший Сергея Петровича своею «стихийно-свободной личностью». Впоследствии «яркое до боли в глазах и сердце», «чудесное и непостижимое» видение сверхчеловека вытеснило все остальные призраки, «возвышавшие» ординарного юношу над действительностью.
Сашка и его отец («Ангелочек»), способные поддаться чарам возвышающих обманов, воплощающие в ангелочка, все свои грезы о светлой жизни, о счастье, Валя («Валя»), упивающийся игрой волшебного вымысла, грезящий о царстве печальных русалок и таинственных чудовищ – разновидности все того же общего типа «мечтателей».
И сам автор принадлежит к категории последних: он наделил своих героев своим собственным «imagination creatrice».
Его «творческое воображение» отмечено тем же характером, какой отличает и грезы Вали. Вале кажется, будто перед его глазами проносятся ужасные люди-чудовища. «В темную ночь они летели куда-то на своих колючих крыльях, и воздух свистел над их головой, и глаза их горели как красные угли. А там их окружали другие такие же чудовища, и тут же творилось что-то таинственное, страшное. Острый, как нож, смех, продолжительные, жалобные вопли, кривые полеты, как у летучей мыши; странная дикая пляска при багровом свете факелов, кутающих свои кривые огненные языки в красных облаках дыма; человеческая кровь и мертвые белые головы с черными бородами… Все это были проявления одной загадочной и безумно злой силы… гневные и таинственные призраки».
Сравните описание «Стены» и «Набата»: те же дикие образы, то же нагромождение мелькающих неясных форм и очертаний, тот же кошмарный импрессионизм. Воображение Леонида Андреева – это не «воображение пластическое», а «воображение расплывчатое»[35]. «Расплывчатое» воображение, импрессионизм характеризуют также – что подчеркивалось уже литературной критикой – и манеру описаний всех рас скалов нашего художника, которые свободны от декадентского колорита, Мы не будем останавливаться на социологической оценке импрессионизма и расплывчатого творчества в области художественной литературы. Ограничимся лишь одним важным для нас указанием: импрессионизм, как и всякий другой вид «imagination diffluente», говорит об удалении художника от действительности. Определяющая роль от внешних факторов творчества переходит в импрессионистическом и декадентском искусстве к фактору внутреннему. Образы, с которыми оперирует расплывчатое воображение, суть «эмоциональные абстракции»[36].
Другими словами, художник «нового искусства» берет от «внешнего» мира лишь то, что может служить удовлетворением потребностям обособленной жизни его «я». Потому-то «новое» искусство так дорого «интеллигентному пролетариату»: это искусство позволяет обращаться с явлениями действительности произвольно, пользоваться лишь ее «осколками», возвышаться над нею, почаще позабывать о боли поражения, понесенного на ее лоне. Импрессионизм, декадентство, символизм имеют «идеалистическое»[37] значение: они служат прикрытием для того, кто отступает перед стремительным натиском реальной жизни. «Поменьше действительности» – этому правилу следует импрессионист Андреев, рисующий вместо тел контуры, вместо людей – силуэты, и передающий вместо тонов – полутона, вместо жизни – отзвуки жизни. Но, освобождаясь, таким образом, от «действительности», он остается ее узником.
Мы выше указали социологический смысл того «настроения», которое Леонид Андреев старается постоянно воспроизвести тем или иным путем – то есть подбирая искусно «ужасы» реальной жизни или пользуясь какой-нибудь искусно придуманной психологической антитезой или обращаясь к техническим приемам «упадочников» – к обрисовке кошмарных видений.