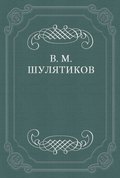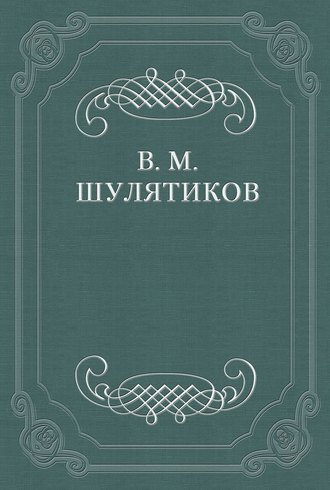
Владимир Михайлович Шулятиков
Восстановление разрушенной эстетики
Труд – как средство забыться от страхов и сомнений, тоски и сплина, труд – как радикальное снотворное средство, труд – как род самоубийства, – вот какой идеал трудовой деятельности выставляют чеховские герои. Если в свое время и Гаршин заставлял своих героев уходить от себя, чтобы спасти самих себя, то есть руководиться индивидуалистическим настроением, совершая акт отречения от «мещанской» неподвижности и бессилия, – все же он иначе, чем Чехов, рисовал и оценивал ту «новую» жизнь, которую решают начать обанкротившиеся на лоне мещанского царства интеллигенты. «Новая» жизнь для гаршинских героев – это цепь страданий; новая жизнь для чеховских героев – это, последовательное притупление нервов. Глухарь в глазах Рябининых – «язва растущая»; рабочий в глазах Тузенбахов – существо, имеющее возможность «крепко спать». В Гаршине говорят одновременно голоса и демократа и индивидуалиста. Чехов, решительный провозвестник эгоцентризма.
От «гражданских» чувств «гражданского» прошлого Чехов принес в литературу лишь обрывки отдаленных воспоминаний, форму без содержания, бесплотный фантом. И он не верит «воспоминанию».
Радикальное снотворное средство при проверке оказывается мало пригодным. Загляните в повесть «Моя жизнь», где обстоятельно изложена попытка использовать данное средство: разве герой повести выходит в конце победителем? Разве ему, надевшему костюм маляра, (удалось уснуть крепким сном?.. Повесть заключается в высшей степени минорным аккордом.
Также мечта о грядущей заре всечеловеческого счастья, подаренная Чехову воспоминанием, неспособно сообщить его «сереньким людям» силу сопротивления натиску действительности. Безусловно верить в «зарю», приветствовать восторженно ее пришествие в будущем может из числа чеховских героев один экзальтированный Иван Дмитрич; другие лишь выражают робкую надежду: заря, быть может, настанет.
Наконец, рассуждение о тяжести физического труда и равномерном распределении его… Мы уже знаем, при каких условиях типичные чеховские герои могут обращаться к трудовой деятельности и что значит для них разделять труд с «ломовиками». Если же Чехов заставляет героя «Дома с мезонином» отметить положение «миллиардов», то получается своеобразная постановка вопроса. Скорбь чеховского героя о настроениях жизни – не скорбь гражданина, а скорбь – художника-индивидуалиста. Не самый факт голода, холода, страданий смущает его душу; все это страшно для него лишь постольку, поскольку не дает почвы для процветания среди «миллиардов», искусств и наук; «весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать», – подумать о душе и есть именно, как выясняется из дальнейшего, заняться искусствами и науками. При современном общественном устройстве все служит мелким и преходящим интересам. Человечество грозит выродиться и потерять «всякую жизнеспособность». Одни художники и ученые составляют исключение из общего правила, раз они служат вечной красоте и вечным истинам. Но таких людей мало, и деятельность их сопровождается надлежащим успехом: «ученых, писателей, художников кипит работа, по их милости, удобства жизни растут с каждым днем… между тем до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным… При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и, чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного». Другими словами, Чехов заставляет своего героя повторить старо-романтические сетования на скорбный удел одиноких «аристократов духа», погибающих среди «толпы», погруженной в «материальные» интересы. Сетования «романтиков» выливались в безнадежную философию Weltschmerz'a. «Воспоминание» говорит Чехову о возможности перерождения «общества», об активной деятельности на пользу перерождения; и Чехов делает поправку к мировоззрению романтиков. Но «воспоминание» сохранилось очень смутное. Нужно только и богатым и бедным согласиться работать по два-три часа в день: тогда прогресс, по заявлению героя «Дома с мезонином», будет осуществлен, то есть создастся почва, благодарная для развития искусства; таким образом, социальная гармония водворится без устранения экономических «противоречий»… А к мысли о необходимости взять на себя часть физического труда, – подчеркиваем еще раз, – чеховского героя привела «индивидуалистическая» необходимость. Высказавши подобную «формулу прогресса», художник не обнаруживает уверенности в справедливости своего взгляда. Герой «Дома с мезонином» ни малейшего желания содействовать осуществлению прогресса не заявляет. Финал речи, выяснившей его profession de foi, не оставляет сомнения в истинном смысле его «гражданственности»: «Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары!» – восклицает он, «одинокая душа», пессимистически настроенный «аристократ духа», дав описание участи современных служителей «вечной» красоты. В минуту увлечения он проговорился. «Воспоминание» улетучилось. Плохо спаянная амальгама обрывков воззрений разной ценности и разного происхождения распалась.
Итак, о Чехове как проповеднике «гражданских» начал говорить не приходится; писателем, задумывающимся над социальными проблемами, никак считать его нельзя. Если иногда обмолвится он намеком на «гражданственность», упомянет об общественном вопросе, то сделает это не как «человекоубеждение», а под диктовку соответствующего «настроения».
К людям убежденным он относится с нескрываемым доверием. Он развенчал, например, «неизвестного человека». И как развенчал! Он не объявил его носителем хищнических инстинктов, дерзким parvenu – аферистом или даже душегубом-бандитом, как поступали в аналогичных случаях беллетристы охранительного лагеря. Не прибег он даже к доказательству несостоятельности его миросозерцания. Нет, он низвел его с пьедестала, наделив его психологическими чертами, присущими обитателям «мещанского царства», он сделал его «рыцарем на час», заразив его «индивидуалистическими» настроениями.
Перед читателями человек, погребающий гражданские идеалы во имя «раздражающей жажды обыкновенной обывательской жизни». Какие причины вызвали подобный перелом в духовном мире «неизвестного человека», Чехов отказывается точно определить: может быть, это случилось «под влиянием болезни», может быть, под влиянием «начавшейся перемены мировоззрения», – догадывается «неизвестный человек». Но дело не в болезни и не в перемене мировоззрений, о которой автор ничего более подробного не сообщает и которая вовсе не важна для него. Внутренний перелом, пережитый «неизвестным человеком», отказ от широких задач, – явление типичное, в глазах Чехова, для всей современной интеллигенции. «Отчего мы утомились? Отчего мы, вначале такие страстные, смелые, благородно верующие, к тридцати – тридцати пяти годам становимся уже полными банкротами? Отчего один чахнет в чахотке, другой пускает пулю в лоб, третий ищет забвения в водке, в картах, четвертый, чтобы заглушить страх в тоску, цинически топчет ногами портрет своей чистой, прекрасной молодости? Отчего мы, упавши раз, уже не стараемся подняться и, потерявши одно, не ищем другого?» Ответа не дано.
Рассказывается история обычного для «рыцаря на час» опошления. Автор вселяет в духовный мир своего героя, «мещанские» стремления. «Неизвестный человек», почувствовав влечение к любовнице своего врага, грезит о мещанской идиллии тихого счастья «в уголку»: он исповедуется: «Орлов брезгливо отбрасывал от себя женские тряпки, детей, кухню, кастрюли, а я подбирал все это и бережно лелеял в своих мечтах, любил, просил у судьбы счастья, и мне грезилась жена, детская, тропинка в лесу, домик»… «Мне жить хочется!.. Жить, жить! Я хочу мира, тишины, тепла!»
Оказывается, что «неизвестный человек» до сих пор не жил, его личное «я» до сих пор пропадало. И на фоне пробудившихся «мещанских» настроений складывается апология индивидуализма: «я верю в целесообразность и необходимость того, что происходит вокруг, но какое мне дело до этой необходимости, зачем пропадать моему «я»… Я верю, следующим поколениям будет легче и виднее, к их услугам будет наш опыт. Но ведь хочется жить независимо от будущих поколений, и не только для них». «Неизвестный человек» называет это «бодрой, осмысленной, красивой жизнью». «Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю». Опять «гражданственность» Чехова получает должное истолкование: «осмыслить» жизнь – значит для «неизвестного человека» прежде всего удовлетворить своим эгоистическим побуждениям; непременным условием возможности играть «благородную роль» выставляется воспитание цельной личности, то есть личности, не чуждающейся «обывательских» инстинктов.
В том же духе, то есть с «обывательской» точки зрения, разнес Чехов прогрессистов и другой раз. Его Лихарев («На пути) – «инвалид», и причина, его «инвалидности» заключается в его пренебрежении потребностями личной жизни. Отдаваясь весь идейным увлечениям, он не живет; настоящая жизнь проходит мимо пего. «Мне теперь сорок два года, – делает он собственную характеристику, – а я бесприютен, как собака, которая отстала ночью от обоза. Во всю жизнь мою я не знал, что такое покой. Душа моя беспрерывно томилась, страдала даже надеждами… Я изнывал от тяжелого беспорядочного труда, терпел лишения… Я жил, но в чаду не чувствовал самого процесса жизни. Верите ли, я не помню ни одной весны, не замечал, как любила меня жена, как рождались мои дети. Что еще сказать вам? Для всех, кто любил меня, я был несчастьем… Моя мать вот уже пятнадцать лет носит по мне траур, и мои гордые братья, которым приходилось из-за меня болеть душой, краснеть, гнуть свои спины, сорить деньгами, под конец возненавидели меня, как отраву»… Одним словом, Лихарев ведет «неосмысленное и некрасивое существование».
Люди убеждения спутаны с толпой разных дядей Ваней и докторов Астровых, этих хилых пустоцветов «мещанского царства»… И бытописатель последнего стоит «одинокий и потерянный», пессимистически настроенный, исполненный «неверия» и агностицизма, – как подобает истинному «восьмидесятнику», – подавленный своими «настроениями», удалившийся в мир искусства игры. Но его пессимизм не отмечен тем трагическим колоритом, который отмечает Weltschmerz других представителей восьмидесятых годов, – бурную, страстную скорбь Надсона и гаршинский пафос ужаса перед жизнью. Перед лицом «эмпирической безысходности» Чехов спасся, успокоившись на неглубоком скептицизме и уравновешенной меланхолии. Его тоска есть, таким образом, компромисс между отчаянием безусловного пессимиста, и «обывательским» примирением с «хаосом» действительности.
Позиция, до известной степени, спокойная и безопасная.