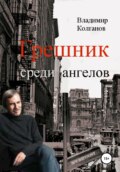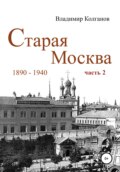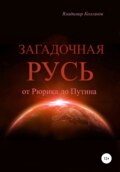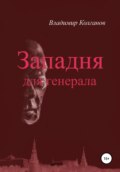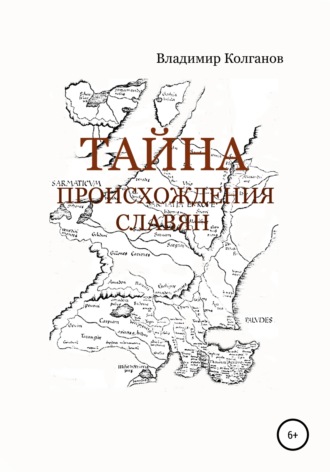
Владимир Алексеевич Колганов
Тайна происхождения славян
С.В. Назин тоже видел признаки «дикости» в подобных версиях, однако находил им оправдание:
«Всё же какими дикими ни казались бы рассуждения Курты, он не получил бы такого успеха, если бы в них не содержалось зерно истины. Истина же состоит в том, что румыно-американский учёный скандальным образом привлек внимание к мысли, что переселения славян, известные в письменных источниках, никак не отразились в археологических находках».
Итак, прародину славян искали в Польше и Прибалтике, в Чехии, на Украине, в Белоруссии, в Словакии и Румынии. Однако археологам так и не удалось найти ту археологическую культуру, которую можно было бы назвать истинно славянской. Что ж, придётся обратиться к помощи лингвистов. Вот что пишет С.В. Назин:
«Действительным, а не мнимым "третьим путем" в поиске древнейших славян будет разыскание прародины славян на Дунае, откуда выводят славян их собственные исторические сказания. В конце XIX века дунайская теория была похоронена как ненаучная… Вернул её к жизни выдающийся русский лингвист Олег Николаевич Трубачёв. Обратиться к ней его заставили исследования славянской ремесленной терминологии, которая обнаруживает параллели прежде всего в западных языках: латинском, кельтском и германском – и имеет мало общего с балтийской. Свои изыскания он подытожил в 1991 году в фундаментальной работе "Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистическое исследование"… Лингвистический центр славянского мира, откуда языковые инновации распространялись на окраины славянского мира, располагался на среднем Дунае, восточнославянский же ареал располагался на периферии. Имя славян происходит от глагола "*слути" и означает "говорящие на понятном языке"».
Понять связь слов «слути» и «славянин» так же непросто, как и поверить в существование прародины славян на Среднем Дуная. Причина в том, что у сторонников этой версии аргументов кот наплакал – кроме легенды, изложенной в ПВЛ, и не слишком убедительных изысканий лингвистов нет буквально ничего. Однако С.В. Назин настаивает на своём – чтобы не цитировать его обширные рассуждения на эту тему, изложенные в книге, ограничимся отрывком из статьи, размещённой на одном из интернет-форумов. Вот его версия происхождения этнонима «славяне»:
«Это было самоназвание автохтонного нероманизированного населения римских провинций на Среднем Дунае. Речь идёт в первую очередь о паннонцах, которые говорили на своем языке (Pannonicalingua), отличном от кельтского и германского… Очевидно, что местное нероманизированное население, говорившее на "народном языке" (sermovulgaris) и в той или иной степени владевшее латынью, отлично понимало смысл слова sermo "устная речь". Славянское слово "слово" (*slovo) является точным эквивалентом этого термина ("Слово о полку Игореве"). Скорее всего, и сам этноним *slověne был праславянской калькой какого-то разговорного латинского слова, обозначавшего людей, использующих собственное sermo – какого-нибудь *sermons или *sermiani. Об этом говорит сам облик слова*slověne: вместо "нормального" славянского сочетания: поляне – польский, древляне – деревский, мы имеем "ненормальное": славяне – славянский, стоящее в ряду с такими явными заимствованиями как армяне – армянский и крестьяне «христиане» – крестьянский».
Чем дальше в лес, тем больше дров – иначе и не скажешь, поскольку «какое-то разговорное латинское слово» не может стать основой для научной версии. Если пользоваться карточной терминологией, это что-то вроде козырного туза в рукаве. Но чтобы достать его, необходима ловкость рук – не всякому картёжнику это под силу, да и нет никакой гарантии, что туз в рукаве поможет победить в игре.
Вот и в истории славян возникла чем-то схожая ситуация: можно очень долго жонглировать мнениями историков и лингвистов, можно сколько угодно тасовать археологические культуры в надежде на то, что «выпадет флеш-рояль», и на этом завершатся поиски прародины славян. Но сколько ни тасуй и ни жонглируй, это напрасные усилия. Впрочем, к столь важному делу пытаются привлечь ещё и антропологов с генетиками, но достоверных данных явно недостаточно, чтобы создать стройную теорию, – можно всё окончательно запутать.
Итак, требуется найти ответ на два вопроса: где зародился праславянский язык, и каким образом он получил распространение на огромной территории от Вислы до Нижнего Дуная? Попробуем воспользоваться аналогией с романскими языками, которые возникли в результате смешения местных диалектов с вульгарной латынью – её носителями были римские колонисты в период с III в. до н.э. до V в. н.э. По мере развала Римской империи произошло обособление этих смешанных языков от вульгарной латыни.
Понятно, что для возникновения на огромной территории смешанных языков с единой основой необходимо централизованное управление этой территорией. Мог ли Аварский каганат (VI-VIII вв.) претендовать на роль невольного создателя праславянского языка? Однозначно – нет, поскольку Иордан свидетельствует о том, что к VI в. венеды и родственные им племена антов и склавинов уже обитали на огромной территории – от Вислы до низовьев Дуная. Вряд ли это родство выражалось в том, что они лепили одинаковые горшки, и у них была схожая культура погребения. Логика подсказывает, что без уверенности в сходстве языков этих племён недопустимо делать вывод о том, что они имеют общее происхождение.
Конечно, Аварский каганат сыграл определённую роль в распространении праславянского языка, но сам процесс его образования начался гораздо раньше, возможно, в период существования государства Германариха (IV в.), покорившего территории от Причерноморья до Прибалтики, и продолжился в державе гуннов (V в.), также контролировавших большую часть Восточной Европы. К сожалению, нет достоверных сведений о происхождении и языке гуннов, поэтому нельзя определить степень их влияния на славянский язык.
Впрочем, из трудов Приска Панийского известно, что гунны увлекли за собой из Северного Причерноморья в Восточную Европу местные ираноязычные племена скифо-сарматского происхождения, в том числе часть алан. Вот что писал об аланах Аммиан Марцеллин:
«Почти все аланы высоки ростом и красивы, с умеренно белокурыми волосами; они страшны сдержанно-грозным взглядом своих очей, очень подвижны вследствие лёгкости вооружения и во всём похожи на гунов, только с более мягким и более культурным образом жизни…».
А вот что через два столетия Прокопий Кесарийский писал о склавинах:
«Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый или золотистый и не совсем чёрный, но все они тёмно-красные».
Приск пишет, что в ставке вождя гуннов Атиллы, находившейся на территории Дакии, его угощали напитком, называемым по-туземному μέδος (мёд). После погребения Атиллы, на его кургане справляли strava (на славянском «страва» – кушанье, еда). Помимо этих признаков вероятного родства гуннов и будущих славян, Приск отметил использование местными жителями для переправ моноксил (лодок-однодревок), которые, по мнению византийских авторов, были характерны только для славян.
Центром державы гуннов считается Паннония, так что, в определённо смысле, её можно было бы считать «прародиной славян», если кому-то очень хочется.
Но причём же здесь венеды? И как объяснить влияние балтского языка на праславянский? По мнению американского слависта А.М. Шенкера, если локализация Птолемеем венедов на побережье Балтики не была ошибкой географа, то это племя не являлось славянским.
Ещё более усложняют ситуацию с прародиной славян результаты лингвистических исследований. Американский славист Х. Бирнбаум пришёл к следующему выводу:
«Внутри такого обширного ареала, который с различной плотностью населяли славяне к началу VII в., должны были существовать диалектные различия. Однако кажется, что приблизительно до 500 г. н.э. их общий язык, хотя и распространенный на значительной географической территории, был ещё в большой степени однородным».
Отсутствие диалектов вроде бы означает, что когда-то праславяне обитали на небольшой территории, с которой началось их расселение – к этому выводу подводит нас Бирнбаум:
«Такое предположение подтверждается выводами, сделанными лишь недавно… Есть серьёзные основания полагать, что приблизительно до 500 г. н.э. общий язык славян был ещё в высокой степени единообразным».
Каковы же эти основания?
«Не имеется прямых свидетельств, говорящих о фонологической и грамматической (морфосинтаксической) структурах и основном словарном составе общеславянского языка, которые развивались, будучи в общих чертах однородными, до 500 г. Фактически все попытки восстановить эти ранние этапы общеславянского праязыка должны поэтому основываться на методе внутренней реконструкции, т. е. технике, с помощью которой данные последней фазы уже неоднородного общеславянского языка периода 500-1000 гг. н.э. могут быть спроецированы в прошлое».
Итак, сначала поставлено под сомнение «славянство» венедов, потом при отсутствии прямых доказательств возникло «кажущееся» предположение, которое позволило историкам сделать вывод, будто существовала единая прародина славян, причём на относительно небольшой территории, откуда их язык распространился на всю Восточную Европу. В принципе, нечто подобное происходило в истории – примером может служить распространение английского языка на значительную часть Северной Америки. Однако следует учесть, что это произошло в результате переселения множества эмигрантов из Европы и уничтожения местного индейского населения. Есть ли тут что-то общее с тем, что произошло в Восточной Европе в IV-VI вв., когда на этой территории господствовали готы и гунны? Если бы завоеватели почти полностью уничтожили коренное население, тогда здесь утвердился бы язык завоевателей, как это произошло гораздо позже в Северной Америке. Если же истребления аборигенов не было, тогда возникает ситуация, которая напоминает завоевание Россией Прибалтики (в начале XVIII в.), Средней Азии (во второй половине XIX в.) и Кавказа (в XIX в.). При этом народы, вошедшие в состав Российской империи, сохранили свой язык, а немалая часть населения этих территорий освоила и русский – иначе возникали трудности в общении с новыми властями. Но дело в том, что под властью России эти земли оставались лишь в течение одного века, да и миграция населения на территорию собственно России не приветствовалась. Именно поэтому русский язык не утвердился на этих территориях, разве что в Казахстане, где было много переселенцев из России. Так что же получается – пришедшие с готами и гуннами племена полностью заменили коренное население?
И всё же допустим, что прародина славян существовала, и там возник праславянский язык. Затем произошёл «демографический взрыв» и «прорыв» венедского или придунайского «котла», а в результате праславянский язык стал распространяться на территории от Прибалтики до Причерноморья. В принципе, это возможно в том случае, если земли к северу от Карпат были безлюдны, но для такого предположения нет ни малейших оснований. Тогда возникает вполне естественный вопрос: неужели у остальных народов Восточной Европы не было никакого языка, и они объяснялись только жестами? В этом случае они бы с радостью ухватились за возможность освоить хоть какой-то диалект. Однако эта версия абсурдна! Тогда следует предположить, что их заставили освоить «праславянский» язык под угрозой поголовного истребления – на эту роль претендуют пришлые завоеватели. Но позвольте, неужели готам, гуннам и аварам больше делать было нечего кроме как заниматься просветительской деятельностью среди местных жителей? Конечно, вожди племён и командиры воинских подразделений, входивших в состав аварской армии, должны были общаться между собой на едином языке, однако большинству населения это было ни к чему. Вот и на Украине значительная часть жителей общается на русском языке, игнорируя государственную «мову».
Получается какая-то нелепица: по мнению лингвистов и историков, прародина славян должна была существовать, хотя, по нашему мнению, её существование не имело смысла, так как не могло привести к распространению праславянского языка на другие территории. Неужели придётся взять за основу высказанное выше предположение, будто завоеватели заместили большую часть населения Восточной Европы, тем самым создав условия для того, чтобы здесь укоренился их язык? Таким народом-завоевателем могли быть только готы и гунны, господствовавшие на территории Восточной Европы в IV-V вв., ну а авары уже явились «на готовенькое» – это если верить лингвистам, считающим, что праславянский язык уже вполне сложился к 500 г. Готский язык нам не подходит, поскольку он принадлежит к германской группе языков, существенно отличающихся от славянских. Так что же, во всём «виноваты» гунны? Недаром Прокопий Кесарийский утверждал, что склавины и анты «во всей чистоте сохраняют гуннские нравы».
Коль скоро лингвисты не могут подсказать, как возник славянский этнос, снова обратимся к древним источникам и припомним, что писал Клавдий Птолемей в «Руководстве по географии»:
«Заселяют Сарматию следующие великие народы [очень многочисленные племена]; венеды – по всему Венедскому заливу; выше Дакии – певкины и бастерны; по всему берегу Меотиды язиги и роксоланы; далее за ними внутрь страны – гамаксобии и скифы-алауны… Менее значительные племена, населяющие Сарматию, [следующие]: около реки Вистулы, ниже венедов – гитоны, затем финны, далее сулоны, ниже их – фругундионы, затем аварины около истоков реки Вистулы; ниже их омброны, далее анартофракты, затем бургионы, далее арсиеты, сабоки, пиенгиты и биессы возле Карпатских гор».
Здесь следует обратить внимание на то, что Птолемей в перечень великих народов, наряду с венедами, включил певкинов и бастарнов, обитавших к северу от Дакии, на территории нынешней Украины и Молдавии.
В I в. Страбон представил бастарнов как весьма многочисленный народ, населявший территорию от Вислы до Днепра и Дона:
«Внутри материка бастарны живут в соседстве с тирегетами и германцами, вероятно, и сами принадлежа к германскому племени и будучи разделены на несколько колен: некоторые из них называются атмонами и сидонами, те, которые заняли остров Певку на Истре, – певкинами, а самые северные, занимающие равнины между Танаисом [Доном] и Борисфеном [Днепром], это роксоланы».
Бастарны упоминаются и в сочинении римского историка II-III в. Марка Юниана Юстина:
«Даки – потомки гетов. Этот народ, воевав несчастливо под началом царя Оролеса против бастарнов, был принужден его распоряжением в качестве наказания за проявленную трусость класть головы во время сна на место ног и исполнять женские работы».
О певкинах писал в VI в. Иордан:
«Впоследствии, в правление Диоклетиана и Максимиана, их [племя карпов] победил и подчинил римскому государству цезарь Галерий Максимин. Присоединив к ним готов и певкинов с острова Певки, который лежит при устьях Данубия, впадающего в Понт, он [предводитель готов Острогота] поставил вождями во главе [всех этих племен] Аргаита и Гунтериха знатнейших людей их [готов] племени».
Версию происхождения этнонимов «бастарны» и «певкины» можно построить на основе следующих данных. Греческое πευκη означает «сосна», а βαστακτης – «носильщик». Латинское слово греческого происхождения basterna обозначает «наглухо закрытые носилки для женщин». Тогда бастарны/певкины могли быть поставщиками леса для строительства кораблей византийского флота, а территория их проживания находилась в лесистой местности на западе от низовьев Днестра, к северу от Карпат.
Далее припомним, что на Пейтингеровой карте венеды обозначены не только близ Вислы, но и в Причерноморье, а ведь примерно в этих местах Птолемей поместил пектинов/бастарнов. Так, может быть, это близкие по происхождению и по языку племена, и бастарнов надо поставить в один ряд с венедами, склавинами и антами? Жаль, что Иордан не смог разобраться в их «родстве». Впрочем, Страбон в «Географии», написанной в начале I в. н. э., сообщал, что бастарны из рода германцев, однако никаких аргументов в пользу этого утверждения не привёл. В то же время, известно, что германские племена вместе с готами двинулись из Прибалтики на юго-восток только во II в. н.э.
О территориальной близости земель венедов и певкинов писал Тацит:
«Здесь конец Свебии. Отнести ли певкинов, венедов и феннов к германцам или сарматам, право, не знаю, хотя певкины, которых некоторые называют бастарнами, речью, образом жизни, оседлостью и жилищами повторяют германцев. Неопрятность у всех, праздность и косность среди знати. Из-за смешанных браков их облик становится всё безобразнее, и они приобретают черты сарматов. Венеды переняли многое из их нравов, ибо ради грабежа рыщут по лесам и горам, какие только ни существуют между певкинами и феннами».
Но если венеды испытали на себе влияние бастарнов, тогда следует сделать вывод , что эти племена были соседями, а граница их земель располагалась к северу от Карпат. В этом случае племена, которые ныне принято называть славянскими, населяли земли от Прибалтики до Причерноморья. Напрашивается вывод, что это и есть та территория, где обитали «праславяне» до VI в.
Как же мог возникнуть «праславянский» язык? Аналогию этому можно найти в нашей жизни. Допустим, что по соседству живут англичанин и русский, причём каждый из них владеет только одним языком. Очевидно, что они не смогут общаться между собой, разве что один из них согласится выучить язык соседа – это гораздо проще, чем создавать какой-то смешанный, англо-русский язык. Совсем другое дело, если соседями являются русский и поляк. При всём различии русского и польского языков со временем они смогут выработать некий смешанный язык, несомненно, коверкая исходные слова, и это будет своеобразный lingua Franca – язык межнационального общения «в миниатюре».
То же самое могло произойти при общении соседних племён, например, венедов и бастарнов, если языки этих народов принадлежали, условно, к одной языковой группе. В противном случае возникновение lingua Franca и полное замещение прежних языков нескольких племён языком какого-то другого племени невозможно – примером может служить то, что жители значительной части территории Восточной Европы, хотя и находились под властью авар в течение почти трёх веков, так и не стали разговаривать на одном из тюркских или монгольских диалектов.
Но вот беда, при общении бастарнов с венедами мог возникнуть один lingua Franca, а при общении бастарнов со склавинами – совсем другой. Так неужели правы те историки, которые верят в существовании прародины славян на какой-то относительно небольшой территории?
Иордан утверждал, что венеды, склавины и анты «происходят от одного корня», и это как будто бы указывает на то, что у них была общая прародина. Но можно ли представить себе такую ситуацию, чтобы один народ, населявший небольшую территорию, занял огромные пространства от Прибалтики до Чёрного моря? В принципе, такое возможно, но только если этот народ достиг относительно высокого уровня развития, чтобы подчинить себе другие племена. Однако, судя по археологическим находкам, о венедах, бастарнах, склавинах и антах этого не скажешь. Что уж тут говорить, если даже римляне не сумели навязать свой язык народам Западной Европы – в результате возникло только несколько смешанных языков романской группы. Впрочем, «праславяне» могли заселить ранее необитаемую территорию, но это маловероятно, поскольку люди издавна жили вдоль рек – Вислу, Днепр и Днестр нельзя считать исключением из этого правила.
Похоже, без вмешательства внешних сил тут не обошлось. Во II в. под натиском готов, пришедших из Скандинавии, некоторые племена с запада Восточной Европы ушли на восток, а затем, после нашествия гуннов в конце IV в. двинулись на запад. И вот некоему племени приходилось переселяться на земли другого племени, налаживать с ним добрососедские отношения, а через какое-то время люди снова отправлялись в путь, надеясь найти новую землю для спокойной жизни. При этом одна культура, преобладавшая на этой территории, сменялась другой, и можно посочувствовать археологам, которым далеко не всегда удаётся связать найденные артефакты с определённым племенем, «прародителем» славян. Переселение народов продолжалось вплоть до VI в. – в этот период смуты и безвременья, затянувшийся на четыре-пять столетий, и возникла объективная необходимость создания некоего языка для общения «родственных» племён, т.е. принадлежащих к одной языковой группе, – этот смешанный язык позже стали называть «праславянским». Возможно, его распространению способствовало и объединение племён в составе Аварского каганата с VI по VIII в.
Итак, праславянский язык возник в результате регулярного общения нескольких многочисленных, «великих» племён на территории от Вислы до Причерноморья. Необходимость такого общения могла быть вызвана разными причинами – борьбой с общими врагами, заимствованием технологии изготовления изделий из керамики или речных судов, торговыми связями или заключением межплеменных браков. Что же касается «происхождения из одного корня», то этот корень находится где-то в глубине веков, и нам до него не суждено добраться. Впрочем, есть версия, предполагающая, что основной вклад в создание славянской общности внесли венеты.