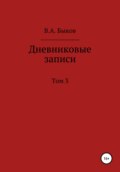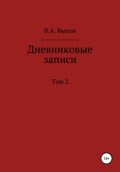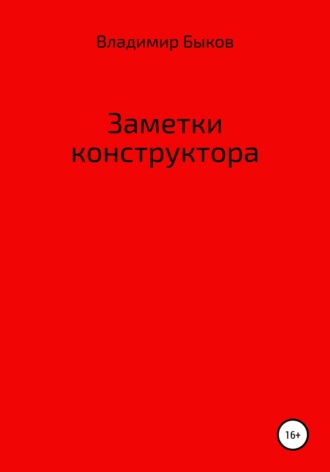
Владимир Александрович Быков
Заметки конструктора
Демократия ориентирована на подтвержденную законом голосовательную процедуру решения вопросов, а она по своей структуре, даже при высокой культуре, органически не способна к созиданию чего-то значительного, оставляющего след в истории и памяти людей. Принимать окончательные решения должен один по закону, а не в обход его, как это делалось и продолжает делаться при демократии, дабы хоть чего-то соорудить мало-мальски полезное. Короче, демократия уже довела страну до такого состояния, что достаточно появиться на горизонте человеку с притязаниями на силу, и он уверенно будет поддержан большинством народа. Нелепо? Но, что поделаешь, если мы почти привыкли резко бросаться из одной крайности в другую.
Только культура в противовес ханжескому себялюбию может победить трусость, раболепие и самоунижение, воспитать в людях истинную самостоятельность, достоинство и честь, привести в соответствие их мысли, слова и дела, так резко расходившиеся между собой и ранее и сейчас. В рамках воспитания такой культуры государству нужно научиться: убийство и предательство не воспринимать, какими бы они мотивами не прикрывались; ложь и демагогию, обман и мошенничество презирать; честь и справедливость превозносить, милосердие не проповедовать, а вершить; говорить и писать только от себя, а не от имени народа.
Когда еще это будет? А потому на переходный период требуется разумная диктатура, а в ней от демократии лишь одно – свободный выбор народом главных руководителей страны и регионов с гарантированной законом, мобильной и очень четкой системой отзыва с поста любого им избранного, но не оправдавшего доверие. Нужен порядок, исходящий изначально от единовластия.
Сегодня исчезло огромное число объектов и явлений, которые критиковались нами на протяжении последнего полустолетия, в том числе и почти весь негатив, о котором шла речь выше. И что же? Возникли новые, и, кажется, в количестве ничуть не меньшем, чем ранее. Появилось всё то, что подвергалось когда-то разносной (и справедливой) критике большевиками. Мы не вышли на нее сейчас только в силу инерции социального механизма. Всё впереди.
Власть поражающе удивительна. Ну, казалось бы, что ей стоило в спокойной обстановке по собственной инициативе устранить очевидные нелепости и спокойно еще пожить, хотя бы несколько лет? Нет, надо было довести дело до бунта. Поставить у власти новых людей и дать им возможность срочно вершить то же, но только другого знака. Вопрос чисто риторический. Ответ на него я пытаюсь дать в этих записках.
ПРИРОДА И ЖИЗНЬ
Прошлое и настоящее. Как оно представляется и воспринимается нами? Огромнейшее количество полемических статей последних лет на эту тему. От крайне правых до самых левых. От полного одобрения бывшего и существующего до его отрицания с пространными доказательствами, одинаково успешно обосновывающими прямо противоположное. Прославление и ниспровержение, защита и критика и еще раз критика, уже равно, как защищающих, так и критикующих. Читаешь многое, особенно, талантливо написанное, с большой увлеченностью, а прочитал – осадок от внутренней неудовлетворенности, от многословия, некоей односторонности, подтасованности, наперед придуманной концепции, а то и подгонки под официальные лозунги, признанные сегодня принципы. Откуда такое обильное собрание мнений, их борьба и, похоже, уже многократно повторяющийся об одном и том же спор? И в этом же плане еще один вопрос. Как удается явному меньшинству заставлять большинство верить в придуманные милоглупости, подчиняться им, буквально эксплуатировать себя, становиться толпой и загоняться, как стадо, на убой? Из столетия в столетие, из поколения в поколение фактически без изменений повторяется одно и то же. Меняется только окружающий фон. Сущность живого та же, лишь слегка припудрена этим фоном.
Еще большую неудовлетворенность испытываю от философских трудов, написанных профессионалами. О простейших вроде вещах в них говорится так, чтобы затуманить суть любого вопроса и затем иметь возможность аналогичным способом, при малейшей необходимости, оспорить написанное. Искусственность в постановке задач. Явно излишняя увлеченность надуманной терминологией. Пустословие, выспренность и амбициозность с притязаниями на абсолютность авторских представлений. Доказательство чего-либо на уровне, о котором я скажу ниже. Почти полное отсутствие граничных условий, определяющих пределы использования (применения) предлагаемых установок, положений, процессов и т. д. Всё совершенно не похожее по манере изложения на то, что имеет место в действительно серьезных научных трудах. Некий особый островок в океане знаний, жители которого нарочно придумали оградить себя от всего остального мира.
Однако в последнем ничего не случается просто так. Философия отработана жизнью. И содержание, и ее форма. По своему положению в обществе она всегда (в основной массе ее создателей) находилась на службе у государства и прежде всех привлекалась для защиты и оправдания существующих состояния и власти, где требовалось уметь черное «доказательно» объявить белым и наоборот. Правда, среди философов встречались и бунтари, но, кажется, им подобное одеяние также и всегда приходилось вполне по росту и фигуре.
Философия – инструмент для достижения поставленных задач и целей. Которые диктуются не потребностями жизни, а природой и конкретным характером человека. Чем сильнее личность, тем в большей степени действует данная формула. Человек становится рабом своих страстей, забывая о реалиях жизни и окружающей его действительности. И чем талантливее он, тем ограниченнее могут быть его представления. Вся энергия по закону сохранения как бы сосредотачивается на придуманной идее. Примеры тому: Кант – с «Критикой чистого разума»; Маркс – с «Капиталом», от которого в конце, кажется, не знал уже как отделаться; Толстой – с болезненным не противлением злу насилием.
Философия прямо, на мой взгляд, никогда не оказывала никакого прямого воздействия на настоящее движение жизни. Она способствовала лишь организации всплесков на плавной кривой эволюции увлекаемостью толпы идеологическим воспитанием. Но никогда не меняла среднего угла ее наклона, хотя косвенно воздействовала на умы и остальной, созидающей, части человечества талантливостью своих творцов, их способностью писать покоряюще складно и внешне логично, так же что-то воспевать или критиковать.
Великие открытия в науке и полезные практические дела вершились одинаково успешно как до жизни известных нам философов, так и после них. Ни Кант, ни Гегель, ни Маркс, ни все прочие ничего не дали человечеству в этом плане, а если что и объясняли, то делали это несравнимо хуже самих ученых, инженеров, врачей, писателей и других, никак не относивших себя к философам.
Читаю, к примеру, испанского философа Х. Ортега-и-Гассета, его «Размышления о технике», и никак не могу понять – зачем эта многостраничная писанина? Усматриваю одно авторское самовыражение. В действительной технике, о которой достаточно в философском плане знать, что занимаются ею по потребности жизни, а изобретают и делают открытия по причинам, о которых кратко также будет сказано ниже, подобное самовыражение без полезного выхода называется изобретательством ради изобретательства. Причем всем имеющим отношение к настоящему изобретательству отлично известно, что самым быстрым и легким путем рождаются либо никому ненужные изобретения, либо – не соответствующие действующим законам. Есть, правда, здесь одно дополнение. О полезности «Размышлений» можно бессмысленно спорить сколь угодно долго, в то время как полезность изобретения однозначно устанавливается с помощью формулы и цифры, в крайнем случае – подтверждается опытом (что, к слову, отнюдь не означает успешность его внедрения). Поэтому заявление Х. Ортега-и-Гассета о технократах, как «демагогах чистой воды, а, следовательно, людях неточных и ненадежных» (на что, допускаю, может он действительно имел какие-либо частные основания), могу с неизмеримо большей обоснованностью парировать той же фразой, отнеся ее к философам. Для пущей же доказательности своей правоты адресовать читателя к изумительной книге «Мои воспоминания» кораблестроителя А. Крылова
Вот, что мне хотелось сказать, прежде чем привести некоторые свои собственные представления о природе и жизни, добавив при этом, что они, не претендуют на некую их абсолютность и, естественно, исходят из незыблемой нормы – всё не без исключений.
Мир природы, пожалуй, в наиболее определяющем виде подчинен закону замкнутого цикла. В нем буквально царствуют рациональные формы круга и шара – уникальнейших изобретений вселенной. Движение тел совершается по устойчивым круговым орбитам. Всё подчинено повторяющимся актам смены событий: созидания и разрушения, рождения и смерти. Организованный в целом изумительно просто и однообразно он логически завершено совершенен и функционирует оптимальнейшим образом. И лишь человек в части собственных деяний усматривает в нем некую, причем все большую и большую, иррациональность. А есть ли она на самом деле? Нет, безусловно. Дела людей, определенные их текущим состоянием, так же естественны, как естественно появление вызывающей у нас отвращение огромной стаи саранчи. Однако это отнюдь не запрет на человеческие устремления к лучшему, ибо и они естественны. Это констатация факта для более правильного движения вперед. Человек не должен настраиваться на волну своего особого положения в мире живого оттого, что он здорово отличается от собаки. Ведь последняя, без каких-либо притязаний, не в меньшей степени, чем человек по отношению к собаке, умнее, например, червяка. Кажется нам, но не всем же одно и то же.
Всё, что было, есть и будет – запрограммировано природой и подчинено закону жизни: рождения, борьбы и смерти. Как естественна жизнь камня, растения и зверя, так же естественны и любые человеческие деяния. Естественно и зло и насилие, благо и добро, разрушение и созидание, философия и ее критика. Всё от природы, в том числе и то, что кажется в нашем представлении «сознательным» проявлением разума и воли.
Человека, хотя бы немного, но заинтересованно знакомого с наукой и техникой, не могло не покорить могущество законов физики, теорем и формул математики. Сила и красота их в железной логике доказательств и покоряющей воображение убедительности. Поражают даже гипотезы, выдвинутые давным-давно и не опровергнутые до сих пор. Нечто другое мы видим в мире социальных структур и человеческих отношений. Здесь взгляды не уточняются, а временами полярно меняются, неимоверно превозносятся или ниспровергаются.
Не кажущийся ли здесь хаос и непредсказуемость событий и не есть ли они оттого, что эта область исследований исторически оказалась в руках гуманитариев и политиков, мало понимающих в настоящих законах природы, а порой ненавидевших их еще со школьной скамьи? Ведь только они могли придумать такие основополагающие идеи, как бытие определяет сознание, классовая борьба. Писать многотомные сочинения о правилах мышления, способности суждения и разнице между «восприятием, идеей и впечатлением». Веками стимулировать бессмысленный спор между идеалистами и материалистами. Философские обоснования существования мира превратить в поток словоблудия, взаимных обвинений, идеологических, для пущей важности прикрытых словом «теория», постулатов и просто глупостей. Не разум и здравый смысл, а какая-то вакханалия чувств – конечно, не без оговоренных мною исключений.
Вот почему меня подмывает мысль посмотреть на проблему с другой стороны и попробовать еще раз перенести на жизнь живой природы законы физики и математики, ну хотя бы в их качественной характеристике. И хотя механистические взгляды на жизнь в прошлом не раз подвергались критике, что-то заставляющее к ним возвращаться есть. Меня лично в возможности такого подхода утверждает то, что жизнь на нашей планете исключительно взаимосвязана и взаимозависима, в принципиальной основе, повторяюсь, организована божественно простейшим и однообразным способом, и всё живое на Земле – производное материи, которая не могла не передать живому своих законов существования.
Начнем с самых известных трех законов созданной Ньютоном великой теории движения.
Первый – закон инерции. Им устанавливается, что мерой инерции служит масса. Чем больше масса тела, тем труднее его перевести из одного состояния в другое, сдвинуть с места или приостановить бег. Данный закон, учитывая его качественный характер, похоже, вообще без каких-либо ограничений может быть перенесен на любой объект, подверженный изменению состояния. Социальная система – маховик с огромной массой и потому необузданное желание скоротечных ее преобразований всегда заканчивалось провалом, а их гениальные дирижеры оказывались в положении, образно названном Гегелем «иронией истории». Разве наша – не нагляднейшее подтверждение этому? И разве не подчинены данному закону многочисленные примеры, которые уже упомянуты мною и будут еще приведены далее?
Второй и третий законы дают нам количественную характеристику движения. Они определяют зависимость ускорения тела от его массы и приложенной к нему силы, а также равенство сил действия и противодействия. Применительно к обществу это означает, что быстрые преобразования требуют больших усилий либо наличия в нем соответствующих сил, потенциальной готовности к такому акту. Что касается третьего закона, то он формулируется прямо в своей физической первооснове: действие равно противодействию.
Вспомним, как партия начала перестройку, объявив ее очередной революцией. В политической области действительно произошла революция и весьма быстрая. На то были соответствующие силы. Была подготовленность общества к данному переходу. Идеологическое воздействие на него со стороны партийного аппарата на протяжении сорока последних лет приняло настолько нелепые формы, что стала восприниматься народом, как игра, в которую низы позволяли играть с собой верхам. Страну сотрясало инакомыслие, и для взрыва оставалось лишь дать сигнал.
В области экономической – наоборот, хотя и действовала та же тоталитарная система, но тут, в отличие от политики, нельзя было обойтись игрой. Народ и потому, что надо себя кормить, и в силу
ПРЕДИСЛОВИЕ
Много лет на моем рабочем столе лежали блокноты под названием «Дневной план работы». По указанию администрации они регулярно печатались в заводской типографии и заботливо вручались нам перед каждым очередным годом. Планы были разбиты на месяцы, недели и дни с напоминанием руководителям что им делать, кого вызывать, какие и кому давать поручения, что просить и куда звонить в указанные там часы с 8 до 19 (считалось, что позже мы могли обходиться без них).
Не помню, использовал ли я когда-нибудь их по прямому назначению, однако в конце года «план» оказывался заполнен всевозможной чепухой – реакцией на то, что я называю «возмущениями» по разным случаям работы и жизни. Аналогичные блокноты я держал дома. Там сохранились записи более общего философского характера.
Сейчас, по прошествии достаточно длительного периода, мне показалось, что они могут представлять определенный интерес и я решил подготовить их к публикации, предпослав главному содержанию труда некоторые сведения о себе и своей работе.
Для нормального человека нет ничего сложнее усвоения общеизвестных истин. Хорошо подготовленный, при небольшом желании и кое-каких способностях, к восприятию абстрактных знаний в области точных наук, литературы, искусства, он не может даже самые элементарные из них перенести на собственную персону и познаёт сие, как правило, через свершенные ошибки. Кто из нас не испытал неудобств только оттого, что не внял своевременно совету старшего? Кто не был обманут, обведен вокруг пальца по моментам давно известным и не раз проверенным другими? Кто не сказал, не сделал чего-либо, не подумав об очевидно нежелательных для него последствиях? А кто не верил, не надеялся там, где была сплошная демагогия или явная ложь?
Житейские мудрости обычный человек осознаёт лет в шестьдесят, когда нет ни сил, ни стремления. Но и тот, кто взял их на вооружение в молодые годы, проходя по жизни, совершал практически те же, только более масштабные, ошибки, и не столько от незнания, сколько от нежелания знать, похоже, простейших, но несколько другого класса истин.
Вместе с тем не будь их – не было бы и никакого движения вперед. Крупицы полезного выносятся на поверхность в неослабевающем потоке не только неосознанной, но и сознательной глупости.
Так шли и продолжают идти люди по жизни. Так шли по ней и мы.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ
ВЫБОР ПУТИ
Я принадлежу к поколению, становление которого проходило в военные и последующие также не
очень легкие годы и поэтому не испытало, по крайней мере, в знакомой мне среде, тургеневской проблемы «отцов и детей».
Мы росли среди людей старой дореволюционной закваски, сохранивших самобытность и человеческую индивидуальность. Делаю решительную скидку на свое возрастное восприятие, и тем не менее могу сказать, что сейчас нет ни таких дворников и милиционеров, ни продавцов и парикмахеров, ни сапожников и точильщиков ножей, какие были в предвоенные и даже в первые послевоенные годы.
Многие из нас еще не осознали огромной инерционности социальных систем. А ведь именно в силу этой характеристики наше столь мощное движение в 30 – 40-ые годы, особенно, связанное с индустриализацией страны, явилось следствием того, что занималось ею первое поколение советских инженеров и рабочих, воспитанных в недрах прежней системы. Они умели и знали как работать на конечный результат и с максимальной пользой. Люди впитали в себя нужные навыки с молоком матери и выбить их тогда не смогли никакие катаклизмы тех лет. Сказалось унижение и оболванивание людей и, по тому же закону, стали убывать их потенциальные возможности уже в следующих поколениях. Не сразу теряли мы культуру, приобретали беспринципность и прочие негативные качества. Шел медленный процесс разрушения личности. Результат его, а ничего другого, есть наша действительность. Также, а не в какие несколько лет, если к тому будет желание, пойдет и ликвидация её последствий. Тем более что строить – не разрушать. Дело много более трудоемкое.
Думаю, и всё остальное положительное того периода поддерживалось старыми кадрами первого и отчасти второго поколения. В стратегическом же плане реальный социализм был прямо ориентирован на растление людей, низведение их до серой массы потребителей, что особо стало проявляться в следующих поколениях, подготовленных полностью вне благотворного опыта дедов и прадедов. Дети воспитываются отцами и матерями, а в наши школьные и студенческие годы они были вполне правильными родителями.
В июле 41 года я, окончивший 6-ой класс 13-летний паренек, вместе с группой таких же мальцов и с нашим молодым учителем физики Михаилом Михайловичем поехал собирать ягоды. Мы прожили в лесу неделю, никаким современным образом не экипированные, без сапог и антикомарина, и под лозунгом: всё для фронта, в который свято верили, набирали по 15-20 стаканов черники. Каждый день уходили за 5-6 километров. К вечеру, нещадно изъеденные комарами, возвращались к месту стоянки с тем, чтобы, сдав до последнего стакана собранное, получить кусок хлеба и чашку супа. Чем питались утром и днем? Наверное, оставшимся от ужина хлебом и кипятком. Не помню ни родительских охов и ахов при проводах, ни окриков учителя. А ведь были мы, привыкшие к свободе, не пай-мальчиками и лезли в воду и разбредались кто куда в лесу, и вечером на стоянке.
Переживали и беспокоились ли за нас? Вероятно. Но у старших того времени было одно глубочайшее понимание – в деле воспитания человека требуется предоставление максимума самостоятельности, уважительное отношение к личности. Это знали тогда, кажется, все взрослые.
Несколько раз меня, спрыгнувшего с подножки трамвая на Уралмашевском кольце, ловил милиционер и лишь грозил при этом пальцем, а один однажды отдал честь, спокойно сказав, что так не должно делать. Позже, уже в послевоенные годы, в центре на улице Ленина можно было почти постоянно видеть милиционера, солидного, с отличной выправкой и с мужественным бронзового загара лицом. Иногда, будучи в городе, норовил под каким-либо предлогом подойти к нему специально и получить исключительно четкий сверх вежливый ответ на свой вопрос. Создавалось впечатление, что я самый уважаемый и любимый гражданин Свердловска. Тогда я относил подобное к советской власти. Сейчас уверенно знаю, оно шло от старого городового.
В учебном 41 – 42 году мы разболтались до невозможного. Что только не устраивали: выключали свет, стреляли из рогаток, играли во всё, что можно было придумать или позаимствовать у соседей. Однако отец нашего физика, учитель математики Михаил Иванович, в ответ на подобные действия не заводился, не выскакивал из класса, а с уважительной на лице улыбкой призывал нас к спокойствию и порядку. Производило ли впечатление такое обращение? Нет. Но как оно сказалось потом, через два, может три года. Он великий учитель, по-другому его не назовешь, прекрасно понимал – добро не может остаться без оплаты.
Лет 25 спустя вызывают меня в школу. Прихожу в учительскую и вижу чернильные физиономии двух своих парней. Разбили случайно чернильницу. Боже, какое возмущение молодой, воспитанной комсомолом и партией учительницы: хулиганы, преступники и, почему-то… лодыри. Стоял растерянный, не знал, что сказать и вспоминал милых Михаилов. Или, в то же примерно время, 10-летняя дочка приятеля рассказала как-то нам про учительницу, поставившую одной девочке двойки по всем предметам за плохое ее поведение на уроке пения. Раз десять переспрашивали: может она перепутала, не так, а иначе было. Нет, говорила, так и было. Не поверил, а через пару лет мой старший сын, после, удивившей даже меня, сверх тщательной подготовки к экзамену по математике, не был допущен к нему из-за не сданного зачета… по физкультуре. В 1946 году весной и тоже после первого курса я четырежды бессовестно эксплуатировал преподавателя математики, чудесную женщину, которая при каждой очередной попытке сдать зачет лишь покачивала головой и, наконец, поставила его, обратив мое внимание на не очень достойный и не столь эффективный способ изучения нужного мне предмета.
Насколько тесно судьба человека связана с его деяниями – трудно сказать. Но едва ли взгляд из будущего на с любовью и душой им сотворенное, равно как и на что-то доброе, сделанное для него, не принес бы ему дополнительных минут удовольствия, гордости или благодарности. А если наоборот? Не связана ли трагически закончившаяся жизнь сына с тем первым потрясением от допущенной тогда по отношению к нему несправедливости?
1943 год был тяжелым. И как-то осенью, за разговорами о жизни, мама предложила мне попробовать поступить в техникум. Поехал во Втузгородок, напросился на прием к директору политехнического и был любезно принят. Получил одобрение и приглашение на второй курс. Однако что-то мне в нем не понравилось и, вернувшись домой, объявил: пойду работать, поступлю в вечернюю школу, а затем сразу в институт. Тут, вроде, не обошлось без протекции. На следующий день отправился на завод Уралэлектроаппарат.
Приняли меня в инструментальный цех учеником-разметчиком. Освоил я профессию быстро. Уже через месяц стал разметчиком 5-го разряда, и впервые почувствовал полезность полученных в школе знаний по математике и геометрии. Снова я оказался среди интересных людей – виртуозов-инструментальщиков, специалистов по изготовлению крупных штампов для вырубки фигурных пластин из электротехнического железа. Штампы были настолько сложны и многоэлементны, что и сегодня не представляю, какой точностью движений и каким терпением нужно обладать для обеспечения сопряжения двух главных их узлов (матрицы и пуансона) по доброй сотне поверхностей с равномерным зазором в сотые доли миллиметра. Однако кое-чего из более простого все же нахватался, и потому с благодарностью вспоминаю те два года за предоставленную судьбой возможность поработать непосредственно на производстве.
Вечерняя школа тоже оставила след в памяти. Или голодные годы войны, или возрастные изменения резко на мне отразились и я настолько потерял память, что произвел удручающее впечатление на своих новых учителей. С гуманитарными предметами дело было конченное, а вот по точным дисциплинам сумел в их глазах исправиться, догадавшись на контрольных работах просить дополнительное время и выводить все формулы и зависимости, начиная с самых азов. В результате школу я закончил с четким разделением предметов, открыв себе дорогу в технический вуз.
Война закончилась. Школьный аттестат получил. От отца, пропавшего без вести в 42-ом году, пришло первое письмо. Я решил увольняться с завода и поступать на дневное отделение Уральского политехнического института.
Мне показалось, что самой модной и определяющей мощь страны была металлургия, и я подал заявление на механический факультет по специальности – «Оборудование металлургических заводов». Так состоялся выбор моего дальнейшего жизненного пути.
ИНСТИТУТ
В институте вавилонское столпотворение. Опаленные войной взрослые мужи, поработавшие на производстве юноши, наивные мальчики и девочки – вчерашние школьники. После военного институтского застоя армия абитуриентов. Только на одну нашу кафедру шестьдесят желающих попробовать вкусить студенческую стезю. Именно попробовать, потому что уже после первого семестра нас осталось ровно половина, а ко второму и того меньше – всего двадцать человек. Они уже и дотянули до конца.
Что такое институт в 45-50 годы? Это годы Сталинских предначертаний, борьбы с космополитизмом, особых разрешений на получение из библиотеки иностранных журналов, разносных по персональным делам комсомольских собраний, начетничества и догматизма на занятиях по политэкономии и основам марксизма-ленинизма. И на фоне форменного насилия над личностью чудо – преподаватели. Директор института инженер Качко, о котором ходили легенды, связанные со строительством института. Это он на каком-нибудь новогоднем вечере считал долгом поздороваться и непременно пожать руку доброй сотне студентов.
Математик Малышев настолько увлекался своей лекцией, ничего и никого не видя, что студенты по своей надобности свободно покидали аудиторию и возвращались обратно.
Физик Кикоин удивил всех на первом экзамене, разрешив пользоваться любыми пособиями и учебниками, а тем, у кого не было последних, даже порекомендовал сходить в библиотеку. Затем удалился на все время нашей подготовки и, наконец, после короткой беседы с каждым поставил точно такие оценки, какие мы заслуживали в нашем собственном, а потому безошибочном, представлении.
Заведующий кафедрой Пальмов окончил гуманитарный и технический вузы и являл собой пример утонченной вежливости. У него была необыкновенная способность найти в каждом из нас то, что можно похвалить, одобрить. – Вы как всегда абсолютно точны, я к сказанному Вами ничего не могу добавить. – Просмотрел Ваш проект. Необычное решение задачи. – Вы применили оригинальный прием. Я вам этого не читал. Изумительно.
В отличие от Пальмова, читавший нам спецкурс Грузинов, бывший начальник конструкторского бюро Уралмашзавода, был на слова скуп, но ценил в студентах изобретательность и самостоятельность. Он мог поставить пятерку только за одну эту способность. – Сознайтесь, – говорил он, – Вы этого не знали и придумали только сейчас. Студент в ответ мямлил нечто малопонятное, так как и признаться, что ничего не читал по сему поводу неудобно и отказаться от действительно им тут придуманного нелегко. Получал ее, желанную, и выскакивал окрыленный собой, своим учителем и, похоже, на всю оставшуюся жизнь.
Теплотехника – предмет, который мы механики не очень жаловали, сохранилась в памяти по другому. Читавший ее седовласый человек покорил нас регулярным посещением филармонических концертов.
А мода тогда, в конце 40-х годов, на них была необыкновенная и вполне объяснимая. В свердловчан были влюблены, кажется, все знаменитости. Выступления Гилельса и Ойстраха, Иванова и Лисициана, да и собственного оркестра филармонии под управлением Павермана пользовались громаднейшим успехом. Царило послевоенное воодушевление. Вошло почти в норму после второго – третьего выступления на «бис» всем в зале вставать и слушать стоя. На фортепьянном концерте в то время мало известного пианиста Мержанова, бывшего в неописуемом угаре очарованности не то кем-то персонально, не то всем Свердловском, зал стоял целый час. На Лисициана мы бегали смотреть за кулисы и он демонстрировал нам, расстегнув рубашку, работу своей диафрагмы. Не меньшее восхищение у меня осталось от свердловских театров с Глазуновой, Китаевой и Вутирасом, Емельяновой и Мареничем, Ильиным и Максимовым. Посещение любого спектакля с их участием воспринималось большим событием. В помещениях театров чистота и порядок, обслуживающий персонал сверх любезен, публика празднично одета. В буфетах самое лучшее, что можно сыскать в городских магазинах.
Масса поучительного, радующего душу и сердце человека, заставляющего быть лучше, красивее и добрее. Но главное – много хороших умных людей. Учились ли мы у них? Да, но не всему. Становились на ноги, но не так как они. Не обо всем они с нами разговаривали, не все свои знания и опыт могли нам передать. Люди жили двойной жизнью. На трибуне – одни, в служебном кабинете – другие, дома – третьи. Но и дома, даже отец не полностью открывался перед сыном, скрывал свои сомнения, свой взгляд на жизнь либо из собственной боязни, либо боязни за свое чадо: дабы не знал, не проговорился, где не следует. И только мы, одержимые, как все молодые, не знавшие, а только слышавшие о репрессиях да к тому же больше о тех, которые кончались благополучно и где просматривалась вроде и справедливость, говорили то, что думали, и не признавали черное белым, по крайней мере, значительно чаще, чем это могли себе позволить старшие товарищи.
Наша студенческая группа была аполитична и потому из нее никто не вышел ни в партийные работники, ни в крупные руководители, от которых требовалось думать одно, а говорить убежденно другое. Кстати, одна из причин того, почему со временем огромное число способных и талантливых людей оказались за бортом управления хозяйством и страной и у власти становились главным образом одухотворенные не стремлением вершить полезные дела, а болезненным нетерпением подъема по ступенькам ее иерархии. Мы же руководствовались естественным природным принципом здравого смысла. Его часто критикуют как нечто неопределенное, схоластическое. Я же лично им всегда руководствовался и мало, когда не достигал цели. Окончательно утвердился в его правильности много позднее на одном из совещаний и самым неожиданным образом. Зная о моей приверженности данному принципу и постоянном моем упоминании о нем во время споров, видимо, в аналогичной ситуации, один из моих доброжелателей вытащил из ящика стола английский стандарт, открыл его на какой-то странице и в конце приведенных в нем четких и точных требований к изделию зачитал: «и далее – по здравому смыслу».