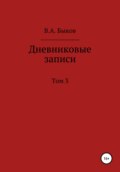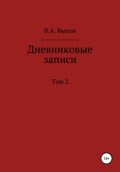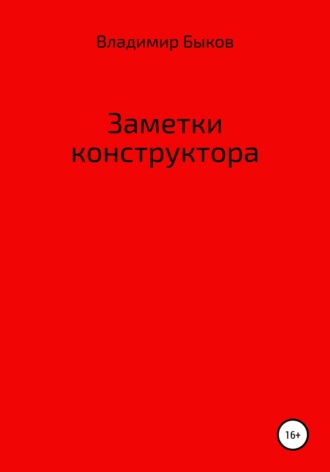
Владимир Александрович Быков
Заметки конструктора
И, может быть несколько предвзято, но довольно часто последнее время задавал себе вопрос. А не дичайшая ли бюрократизация инженерного труда явилась главным стимулятором развала социализма, в котором, по большому принципиальному счету, было не так мало достойного внимания и даже восхищения.
В нашем управлении экономикой и государством всегда было, есть и, видимо, еще долго будет больше политики и даже политиканства, чем науки и настоящей экономики. Если мы в инженерном деле работали бы вне четко отработанных правил анализа ситуации, подготовки решений, их рассмотрения и доведения до логического конца, а свои программы готовили бы на совещаниях с участием сотен людей и затем принимали в окончательном виде голосованием тысяч делегатов, то мы не имели бы сегодня, наверное, ни одного более или менее добротного, тем паче уникального, сооружения. Здесь каждый объект человекотворчества имеет своего единственного главного инженера проекта или руководителя программы, несущих ответственность в целом и делегирующих свои полномочия другим с такой же персональной ответственностью за отдельные его части. Действует такая главнейшая категория системы, как техническое задание, в котором отражаются потребительские требования заказчика к будущему объекту. И если он не способен четко сформулировать требования, то не только не начнут строить, но никому в голову не придет даже ставить вопрос о его создании. Есть и четкая процедура обсуждения и критики создаваемого на самых различных стадиях с привлечением любых специалистов. Но на каких условиях? На условиях рекомендаций, например, техсовета, и права принятия окончательного решения все же главным конструктором, автором проекта. Это решение может быть не принято заказчиком, но тогда он должен подыскать себе другого главного исполнителя, ибо только такой способ организации дела может дать нам завершенный по замыслу логически законченный и увязанный в частях проект. В противном случае – конгломерат противоречащих друг другу установлений. Музыкальная какофония, и тем большая, чем большим количеством участников, наделенных одинаковыми полномочиями, он, объект, будет сочиняться.
Возможно, в области управления и социальных вопросов допустимы и необходимы какие-то отклонения от приведенного порядка, но убежден, чем они дальше от него, тем больший эклектический сумбур мы получим. Коллегиальное творчество при равных правах его «творцов» пригодно только для разрушения, а не созидания. Решения и заявления от имени коллективов, народа, партии, государства – это безответственное разложение общества. Общество может принять или отклонить любую предлагаемую ему программу, но она должна быть программой конкретного автора, а не эмоционально голосующего собрания. Всё, что у нас плохо работало и работает или совсем не работает, есть продукт именно такой голосовательной скоропалительной процедуры. Голосовать можно только за цельное произведение, за весь памятник, представленный нашему взору, а не за хвост лошади с восседающим на ней Петром.
Но и этого мало. Для того чтобы что-то путное сочинить, надо иметь еще голову на плечах, да кое-какую практику, хотя бы чуть-чуть подходящую для вновь предлагаемого. Помните, как перед нами появились не разрозненные прожекты экономической реформы, а комплексная весьма вроде стройная и логически завершенная программа перехода к рынку – программа «500 дней». Смотрел я тогда на нее и думал. Всё в ней, все атрибуты рынка: и стабилизация финансов, и приватизация, и конкуренция, и антимонополизация. Не было одного, самого малого. Оценки того, где и кем они будут осуществляться. Для каких-нибудь немцев или американцев – полнейшая реальность, но у них и так уже давно цивилизованный рынок. А у нас? Не будет ли тот рынок, что я однажды, еще в добрые советские времена, наблюдал в небольшом курортном городке в разгар абрикосового сезона? Обочины местных дорог толстым слоем усыпаны абрикосами, а на базаре пяток сговорившихся между собой продавцов предлагают их по три рубля за килограмм. И никакой конкуренции. Простой расчет – купят. Не столько, сколько нужно, а столько, на сколько у покупателей есть денег. Для того и привезенных с собой, чтобы все истратить. Кому в такой ситуации залезет в голову мысль везти на базар двести килограмм, когда можно обойтись сотней. А какая сегодня, в условиях во всю развернутого рынка, самая популярная и самая дорогая у нас торговля? Хлебом. Почему? Да по той же причине – купят… Чтобы не умереть с голоду.
И этот автор упомянутой программы, горе-экономист Явлинский, которого бы и близко не подпускать к политической сцене, выдвигает себя на пост президента страны. И… При столь же бездарной, нынче предвыборной, программе, получает миллионы голосов избирателей.
Начиная примерно с 1987 года, когда сделалось очевидным, какая каша будет сварена в котле очередных революционных поползновений очередной группы рвущихся к власти людей, я стал задавать себе один и тот же вопрос. Начинался он во сне с доказательного отстаивания мною социалистической системы, ее главных принципов. Защищал ее, казалось, вполне успешно. В ней ведь действительно много было чего толкового и рационального, что позволяло и наяву в различных ситуациях чувствовать себя на высоте: будь то споры с приятелями, товарищами по работе и, даже во время зарубежных командировок, с представителями западного мира. Теперь же, после настырных ночных разговоров с самим собой, я каждый раз стал просыпаться с одним и тем же вопросом. Как же это, если столь много хорошо, то почему так плохо?
Сон, многократный вопрос и один и тот же ответ на него по пробуждении. Революция есть смена власти, а отнюдь не общества. Оно живет по своим собственным законам бытия и подвержено лишь медленному эволюционному преобразованию, которое можно направить, ускорить или замедлить, но не мгновенно изменить. То, что мы успешно вершили при Советах, мы пекли из теста, замешанного еще на отличных, как сегодня видится, дрожжах предреволюционных лет российской истории. Строили заводы, самолеты и ракеты прямые ученики Витте и Столыпина; соратники Иоффе, Капицы и Крылова. Культуру и искусство поднимали сподвижники Чехова, Толстого, Горького, Шаляпина, Собинова, Неждановой. Строили и творили по инерции, несмотря на все репрессии и казни. Они по другому не могли и не умели. Система же сама по себе делала лишь свое черное дело – она растлевала людей. И чем дальше, тем всё больше и больше основным правилом жизни большинства становилось – «не мое».
Помню, как в 1986 году я с группой конструкторов был приглашен на совещание к Рыжкову. Совещание задержалось и мы, в окружении человек двадцати самых главных министров, имеющих отношение к машиностроению, проторчали в «предбаннике» премьера целый час. Министры вели себя как школяры при опоздании на урок учителя. Главной темой их разговоров между собой было: кому и как удалось отвертеться от какого-либо поручения. Лучше – переложить на другие плечи. Своеобразный пир во время чумы. Наши беды, с которыми мы напросились к Рыжкову и куда они приглашались вместе с нами, – были им до лампочки.
Так что развалили всё, как многие, и в том числе бывший премьер Рыжков, еще продолжают считать, не Горбачев и не Ельцин. Они лишь слегка ускорили развитие событий. В стратегическом плане развал начался с Октябрьской революции, с утопических желаний ее вождей силовым воздействием изменить природу общества и естественный ход истории. То, что с нами произошло, то, чем мы возмущаемся сегодня, (не стройте иллюзий) – это ее результаты. Идеи прекрасны, но не надо их путать со средствами движения к целям. Они оказались сверх негодными, и не потому, что их осуществляли «плохие» люди. Таковы объективные законы жизни. И сейчас нам нужно думать не о различных реорганизациях, не о перекладывании денег из кармана в карман, а о конкретных, пусть самых маленьких, но делах. Не от реорганизации и денег к нужному товару, а через товар к ним. Так я думал всегда, так считаю и теперь.
Шесть лет перестройки сверхдоказательно показали, что мы стали фактически заложниками комсомольско-кавалерийского руководства страной. Вот вехи этих лет управления. Наивное обещание мгновенных перемен, наведения порядка, дисциплины, ответственности и высочайшей сознательности народа. Программы скоротечного подъема машиностроения, антиалкогольной кампании, госприемки, перехода на аренду. Обильнейшее законотворчество, идущее в разрез с реальными возможностями общества. Антиконституционное назначение президента. Реформа цен, которая привела к еще одному более злому витку первоначального накопления капитала путем мафиозного использования национального достояния, мошенничества, беззакония и спекуляции. И, самое главное, – опора на КПСС с ее абсолютно утопической идеологией.
Более 70 лет партийный аппарат при полнейшей свободе в выборе тактических средств и методов пытался построить новое общество. Однако, в силу полной оторванности своих социальных идей от жизненных реалий и сверхустойчивой природной сущности человека, эта попытка оказалась безуспешной. История не могла предоставить партийному аппарату возможность дальнейшего социального экспериментирования, ибо изменения, на которые он пошел, по-прежнему строились на сохранении генеральной идеологической концепции и явно просматриваемых эгоистических устремлений партийной верхушки. Она оказалась неспособной противостоять общественному движению и активно на него воздействовать, что подтвердилось всем ходом перестройки, всеми выступлениями партийных лидеров и результатами последних съездов. Провозглашенные тогда аппаратом свобода и гласность сопровождались, так же, как и раньше, общими демагогическими рассуждениями, бесконечными ничем не заканчивающимися реально совещаниями и заседаниями, цепью глобальных политических и хозяйственных ошибок, практических решений, не соответствующих ни состоянию общества, ни его подготовленности к «нововведениям». Партия в лице аппарата как была, так и оставалась организацией, главной задачей которой являлось – пребывание у власти. Но выполнить последнее она уже не имела возможностей в силу полной своей деградации.
Весь идиотизм партийного руководства последних дней его существования представлен в февральской 90-го года платформе ЦК КПСС. На двух газетных страницах более сотни раз тогда были упомянуты слова: решительно, вдохновенно, всемерно, настойчиво, четко, радикально, мощно, внушительно, безотлагательно, неукоснительно и т. д. Больше ничего добавлять не требуется. В этих словах сорняках весь партийный смысл, вся его потенция.
В современной истории партии вошли в нашу жизнь, как организации, главной целью которых является захват власти, а главным средством упомянутые критика существующего состояния и достаточно общие и весьма неконкретные обещания будущего благополучия. И то и другое слишком далекие от конструктивного процесса созидания.
Партии – продукт вандализма нашей эпохи: массового образования и не соответствующей ему культуры людей – должны сойти со сцены. Народу, трудовым и прочим коллективам нужны только низовые общественные организации без каких-либо центральных бюрократических надстроек. В условиях демократического государства и народом избираемой местной и верховной власти можно вполне обойтись без этих надстроек и ограничить взаимодействие между собой низовых общественных организаций одними горизонтальными связями. Только такая демократия «малых пространств» способна наиболее полно, экономично и непосредственно, а не через промежуточное и потому бюрократическое представительство отразить истинные интересы своих коллективов.
Что касается прочих организаций: партийных, молодежных, формальных и неформальных – пожалуйста, но с правом чего-то решать только от имени своих членов, а не от имени народа. Подобные объединения никогда его не представляли, а лишь узурпировали и, по сути дела, общественное мнение для них являлось объектом спекуляции, прикрытой, как фиговым листком, многоступенчатой «демократической» процедурой голосования.
Сейчас мы обратились к демократии, но, боюсь, при нашей культуре общества это ничуть не меньшее зло. Ибо, если для социализма требуется высочайшая сознательность людей, то для демократии – высочайшая культура. Такая культура, где эгоистические устремления подавляющего большинства подчинены интересам общества или хотя бы как-то корреспондируются с последними. Где достоинство и честь ставятся человеком выше любых денег. Желания увязываются с возможностями и не выдаются за действительность. Знания не заканчиваются знаниями, а переходят в умение и не столько к деятельности, сколько к получению полезного результата. Где (не по злодейству, а бессмысленно и массово) не делают того, что заведомо не нравится другим и не вписывается в известные общепринятые нормы поведения людей.
Вне указанной культуры установление демократического управления чревато колоссальными издержками, которые могут оказаться соизмеримыми с издержками советской власти. Демократия без надлежащей культуры – та же утопия. Это грабеж государства, национализм, массовая преступность, бессмысленная для большинства политическая борьба, неконтролируемое зверское обогащение меньшинства. Подобная демократия выгодна только этому меньшинству. Но она удобна и другой – западной демократии богатых, завоевавших в свое время, в силу природных, исторических и прочих благоприятствующих обстоятельств, место под солнцем и употребивших ее в национал-эгоистических целях своих стран. Заставивших третьи страны жить в нищете среди сверкающих огнями витрин, назойливой рекламы, красивых упаковок и тратиться на всю эту от излишнего жира придуманную мишуру в размерах не соответствующих возможностям отставших в пути, их культуре и действительным потребностям. Для богатых демократия – выгодное для них «свободное» соревнование с бедными. Современная форма утонченно-издевательской «культурной» эксплуатации последних. Нам в такой ситуации в обозримом будущем светит только полная экономическая зависимость на правах гигантской полуколониальной державы.
Демократия ориентирована на подтвержденную законом голосовательную процедуру решения вопросов, а она по своей структуре, даже при высокой культуре, органически не способна к созиданию чего-то значительного, оставляющего след в истории и памяти людей. Принимать окончательные решения должен один по закону, а не в обход его, как это делалось и продолжает делаться при демократии, дабы хоть чего-то соорудить мало-мальски полезное. Короче, демократия уже довела страну до такого состояния, что достаточно появиться на горизонте человеку с притязаниями на силу, и он уверенно будет поддержан большинством народа. Нелепо? Но, что поделаешь, если мы почти привыкли резко бросаться из одной крайности в другую.
Только культура в противовес ханжескому себялюбию может победить трусость, раболепие и самоунижение, воспитать в людях истинную самостоятельность, достоинство и честь, привести в соответствие их мысли, слова и дела, так резко расходившиеся между собой и ранее и сейчас. В рамках воспитания такой культуры государству нужно научиться: убийство и предательство не воспринимать, какими бы они мотивами не прикрывались; ложь и демагогию, обман и мошенничество презирать; честь и справедливость превозносить, милосердие не проповедовать, а вершить; говорить и писать только от себя, а не от имени народа.
Когда еще это будет? А потому на переходный период требуется разумная диктатура, а в ней от демократии лишь одно – свободный выбор народом главных руководителей страны и регионов с гарантированной законом, мобильной и очень четкой системой отзыва с поста любого им избранного, но не оправдавшего доверие. Нужен порядок, исходящий изначально от единовластия.
Сегодня исчезло огромное число объектов и явлений, которые критиковались нами на протяжении последнего полустолетия, в том числе и почти весь негатив, о котором шла речь выше. И что же? Возникли новые, и, кажется, в количестве ничуть не меньшем, чем ранее. Появилось всё то, что подвергалось когда-то разносной (и справедливой) критике большевиками. Мы не вышли на нее сейчас только в силу инерции социального механизма. Всё впереди.
Власть поражающе удивительна. Ну, казалось бы, что ей стоило в спокойной обстановке по собственной инициативе устранить очевидные нелепости и спокойно еще пожить, хотя бы несколько лет? Нет, надо было довести дело до бунта. Поставить у власти новых людей и дать им возможность срочно вершить то же, но только другого знака. Вопрос чисто риторический. Ответ на него я пытаюсь дать в этих записках.
ПРИРОДА И ЖИЗНЬ
Прошлое и настоящее. Как оно представляется и воспринимается нами? Огромнейшее количество полемических статей последних лет на эту тему. От крайне правых до самых левых. От полного одобрения бывшего и существующего до его отрицания с пространными доказательствами, одинаково успешно обосновывающими прямо противоположное. Прославление и ниспровержение, защита и критика и еще раз критика, уже равно, как защищающих, так и критикующих. Читаешь многое, особенно, талантливо написанное, с большой увлеченностью, а прочитал – осадок от внутренней неудовлетворенности, от многословия, некоей односторонности, подтасованности, наперед придуманной концепции, а то и подгонки под официальные лозунги, признанные сегодня принципы. Откуда такое обильное собрание мнений, их борьба и, похоже, уже многократно повторяющийся об одном и том же спор? И в этом же плане еще один вопрос. Как удается явному меньшинству заставлять большинство верить в придуманные милоглупости, подчиняться им, буквально эксплуатировать себя, становиться толпой и загоняться, как стадо, на убой? Из столетия в столетие, из поколения в поколение фактически без изменений повторяется одно и то же. Меняется только окружающий фон. Сущность живого та же, лишь слегка припудрена этим фоном.
Еще большую неудовлетворенность испытываю от философских трудов, написанных профессионалами. О простейших вроде вещах в них говорится так, чтобы затуманить суть любого вопроса и затем иметь возможность аналогичным способом, при малейшей необходимости, оспорить написанное. Искусственность в постановке задач. Явно излишняя увлеченность надуманной терминологией. Пустословие, выспренность и амбициозность с притязаниями на абсолютность авторских представлений. Доказательство чего-либо на уровне, о котором я скажу ниже. Почти полное отсутствие граничных условий, определяющих пределы использования (применения) предлагаемых установок, положений, процессов и т. д. Всё совершенно не похожее по манере изложения на то, что имеет место в действительно серьезных научных трудах. Некий особый островок в океане знаний, жители которого нарочно придумали оградить себя от всего остального мира.
Однако в последнем ничего не случается просто так. Философия отработана жизнью. И содержание, и ее форма. По своему положению в обществе она всегда (в основной массе ее создателей) находилась на службе у государства и прежде всех привлекалась для защиты и оправдания существующих состояния и власти, где требовалось уметь черное «доказательно» объявить белым и наоборот. Правда, среди философов встречались и бунтари, но, кажется, им подобное одеяние также и всегда приходилось вполне по росту и фигуре.
Философия – инструмент для достижения поставленных задач и целей. Которые диктуются не потребностями жизни, а природой и конкретным характером человека. Чем сильнее личность, тем в большей степени действует данная формула. Человек становится рабом своих страстей, забывая о реалиях жизни и окружающей его действительности. И чем талантливее он, тем ограниченнее могут быть его представления. Вся энергия по закону сохранения как бы сосредотачивается на придуманной идее. Примеры тому: Кант – с «Критикой чистого разума»; Маркс – с «Капиталом», от которого в конце, кажется, не знал уже как отделаться; Толстой – с болезненным не противлением злу насилием.
Философия прямо, на мой взгляд, никогда не оказывала никакого прямого воздействия на настоящее движение жизни. Она способствовала лишь организации всплесков на плавной кривой эволюции увлекаемостью толпы идеологическим воспитанием. Но никогда не меняла среднего угла ее наклона, хотя косвенно воздействовала на умы и остальной, созидающей, части человечества талантливостью своих творцов, их способностью писать покоряюще складно и внешне логично, так же что-то воспевать или критиковать.
Великие открытия в науке и полезные практические дела вершились одинаково успешно как до жизни известных нам философов, так и после них. Ни Кант, ни Гегель, ни Маркс, ни все прочие ничего не дали человечеству в этом плане, а если что и объясняли, то делали это несравнимо хуже самих ученых, инженеров, врачей, писателей и других, никак не относивших себя к философам.
Читаю, к примеру, испанского философа Х. Ортега-и-Гассета, его «Размышления о технике», и никак не могу понять – зачем эта многостраничная писанина? Усматриваю одно авторское самовыражение. В действительной технике, о которой достаточно в философском плане знать, что занимаются ею по потребности жизни, а изобретают и делают открытия по причинам, о которых кратко также будет сказано ниже, подобное самовыражение без полезного выхода называется изобретательством ради изобретательства. Причем всем имеющим отношение к настоящему изобретательству отлично известно, что самым быстрым и легким путем рождаются либо никому ненужные изобретения, либо – не соответствующие действующим законам. Есть, правда, здесь одно дополнение. О полезности «Размышлений» можно бессмысленно спорить сколь угодно долго, в то время как полезность изобретения однозначно устанавливается с помощью формулы и цифры, в крайнем случае – подтверждается опытом (что, к слову, отнюдь не означает успешность его внедрения). Поэтому заявление Х. Ортега-и-Гассета о технократах, как «демагогах чистой воды, а, следовательно, людях неточных и ненадежных» (на что, допускаю, может он действительно имел какие-либо частные основания), могу с неизмеримо большей обоснованностью парировать той же фразой, отнеся ее к философам. Для пущей же доказательности своей правоты адресовать читателя к изумительной книге «Мои воспоминания» кораблестроителя А. Крылова
Вот, что мне хотелось сказать, прежде чем привести некоторые свои собственные представления о природе и жизни, добавив при этом, что они, не претендуют на некую их абсолютность и, естественно, исходят из незыблемой нормы – всё не без исключений.
Мир природы, пожалуй, в наиболее определяющем виде подчинен закону замкнутого цикла. В нем буквально царствуют рациональные формы круга и шара – уникальнейших изобретений вселенной. Движение тел совершается по устойчивым круговым орбитам. Всё подчинено повторяющимся актам смены событий: созидания и разрушения, рождения и смерти. Организованный в целом изумительно просто и однообразно он логически завершено совершенен и функционирует оптимальнейшим образом. И лишь человек в части собственных деяний усматривает в нем некую, причем все большую и большую, иррациональность. А есть ли она на самом деле? Нет, безусловно. Дела людей, определенные их текущим состоянием, так же естественны, как естественно появление вызывающей у нас отвращение огромной стаи саранчи. Однако это отнюдь не запрет на человеческие устремления к лучшему, ибо и они естественны. Это констатация факта для более правильного движения вперед. Человек не должен настраиваться на волну своего особого положения в мире живого оттого, что он здорово отличается от собаки. Ведь последняя, без каких-либо притязаний, не в меньшей степени, чем человек по отношению к собаке, умнее, например, червяка. Кажется нам, но не всем же одно и то же.
Всё, что было, есть и будет – запрограммировано природой и подчинено закону жизни: рождения, борьбы и смерти. Как естественна жизнь камня, растения и зверя, так же естественны и любые человеческие деяния. Естественно и зло и насилие, благо и добро, разрушение и созидание, философия и ее критика. Всё от природы, в том числе и то, что кажется в нашем представлении «сознательным» проявлением разума и воли.
Человека, хотя бы немного, но заинтересованно знакомого с наукой и техникой, не могло не покорить могущество законов физики, теорем и формул математики. Сила и красота их в железной логике доказательств и покоряющей воображение убедительности. Поражают даже гипотезы, выдвинутые давным-давно и не опровергнутые до сих пор. Нечто другое мы видим в мире социальных структур и человеческих отношений. Здесь взгляды не уточняются, а временами полярно меняются, неимоверно превозносятся или ниспровергаются.
Не кажущийся ли здесь хаос и непредсказуемость событий и не есть ли они оттого, что эта область исследований исторически оказалась в руках гуманитариев и политиков, мало понимающих в настоящих законах природы, а порой ненавидевших их еще со школьной скамьи? Ведь только они могли придумать такие основополагающие идеи, как бытие определяет сознание, классовая борьба. Писать многотомные сочинения о правилах мышления, способности суждения и разнице между «восприятием, идеей и впечатлением». Веками стимулировать бессмысленный спор между идеалистами и материалистами. Философские обоснования существования мира превратить в поток словоблудия, взаимных обвинений, идеологических, для пущей важности прикрытых словом «теория», постулатов и просто глупостей. Не разум и здравый смысл, а какая-то вакханалия чувств – конечно, не без оговоренных мною исключений.
Вот почему меня подмывает мысль посмотреть на проблему с другой стороны и попробовать еще раз перенести на жизнь живой природы законы физики и математики, ну хотя бы в их качественной характеристике. И хотя механистические взгляды на жизнь в прошлом не раз подвергались критике, что-то заставляющее к ним возвращаться есть. Меня лично в возможности такого подхода утверждает то, что жизнь на нашей планете исключительно взаимосвязана и взаимозависима, в принципиальной основе, повторяюсь, организована божественно простейшим и однообразным способом, и всё живое на Земле – производное материи, которая не могла не передать живому своих законов существования.
Начнем с самых известных трех законов созданной Ньютоном великой теории движения.
Первый – закон инерции. Им устанавливается, что мерой инерции служит масса. Чем больше масса тела, тем труднее его перевести из одного состояния в другое, сдвинуть с места или приостановить бег. Данный закон, учитывая его качественный характер, похоже, вообще без каких-либо ограничений может быть перенесен на любой объект, подверженный изменению состояния. Социальная система – маховик с огромной массой и потому необузданное желание скоротечных ее преобразований всегда заканчивалось провалом, а их гениальные дирижеры оказывались в положении, образно названном Гегелем «иронией истории». Разве наша – не нагляднейшее подтверждение этому? И разве не подчинены данному закону многочисленные примеры, которые уже упомянуты мною и будут еще приведены далее?
Второй и третий законы дают нам количественную характеристику движения. Они определяют зависимость ускорения тела от его массы и приложенной к нему силы, а также равенство сил действия и противодействия. Применительно к обществу это означает, что быстрые преобразования требуют больших усилий либо наличия в нем соответствующих сил, потенциальной готовности к такому акту. Что касается третьего закона, то он формулируется прямо в своей физической первооснове: действие равно противодействию.
Вспомним, как партия начала перестройку, объявив ее очередной революцией. В политической области действительно произошла революция и весьма быстрая. На то были соответствующие силы. Была подготовленность общества к данному переходу. Идеологическое воздействие на него со стороны партийного аппарата на протяжении сорока последних лет приняло настолько нелепые формы, что стала восприниматься народом, как игра, в которую низы позволяли играть с собой верхам. Страну сотрясало инакомыслие, и для взрыва оставалось лишь дать сигнал.
В области экономической – наоборот, хотя и действовала та же тоталитарная система, но тут, в отличие от политики, нельзя было обойтись игрой. Народ и потому, что надо себя кормить, и в силу природного стремления к труду вынужден был заниматься делом, но делал его с каждым годом все хуже и хуже, с меньшим умением и самостоятельностью и все с большим упором на план, отчетность и лозунг. Он лишился в потенции способности к решительно быстрым изменениям в сфере экономики. Отсюда наступил ее крах. Строить надо было по-другому, опираясь на первый закон Ньютона. Но сейчас уже поздно. Пришлось, на фоне компьютерной техники и заграничных лимузинов, броситься в стремнину дикого рынка без надлежащей инфраструктуры и должной предпринимательской практики.
Вспомним и другое, как тогда партийный аппарат с возмущением воспринимал критику в свой адрес. А на что, спрашивается, он должен был рассчитывать? Насилия и разного рода дикостей допущено много, учинялись и пропагандировались они с такой силой, что не могли не вызвать адекватного им противодействия. Противник любого насилия, и такой нормы придерживаются многие другие – но это все же исключение. В массе действует третий закон и тут ничего не поделаешь. Замечание одно. В физике противодействие наступает мгновенно с действием. В социальной системе – с разрывом во времени. Думать о последствиях нужно раньше, до того, как они наступят. К сожалению, из-за незнания (или нежелания), в постперестроечный период властной частью народа дела вершатся по проторенному сценарию: ее хватательные функции, бездумное вранье и открытая ложь проявились в масштабах не меньших, чем в предшествующую историю. Не поймут, не осознают величины ими творимого – кончится аналогичной реакцией.
Еще один закон. Закон цикличности. Им устанавливается повторяемость событий. В отличие от законов механики он доказано действует не только в мире неживой материи, но работает в полную меру также в биологии и физиологии. А в части деяний человека, его труда? Есть основания, несмотря на такую же острую критику и этого, биологического, подхода к социологии, полагать, что человеческая сущность остается в основе постоянной. Она запрограммирована краткостью жизни человека и ее главными моментами: рождением и смертью. Воздействие последних на психологию его поведения имеет определяющее значение в сравнении со всем остальным, что связано с окружающей обстановкой. Отсюда, в частности, вытекает бессмысленность попыток революционного преобразования общества. В них одна видимость движения. На самом деле оно способно только к эволюционному развитию, медленному движению по кругу живой природы, изменение которой есть функция суммы накопленной информации в ее многообразной совокупности, а в целом – функция времени и общей культуры.