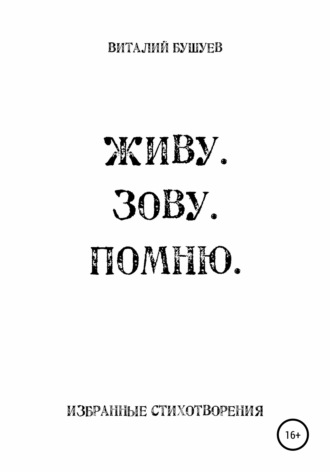
Виталий Васильевич Бушуев
Живу. Зову. Помню
Тротуары устали от мата
Тротуары устали от мата,
от окурков, плевков и дерьма,
от преступного автомата,
по которому плачет тюрьма.
Им бы ливнем обильным омыться
и зеленой травой прорасти,
чтоб злосчастная наша столица
облегченно вздохнула:
прости.
Вспрянь
Стынет от стона стена,
страстно струится струна -
стыдно так стадно стенать,
сонно-срамная страна.
Смяла себя ты сама,
за спину вскинув суму.
Снегом заносит зима
санные слезы – следы.
Вспрянуть сумеешь ли ты,
славной и сильною став,
снова себя осознав
сродницей своеуму.
Прости
Я не верю
ни в Христа, ни в черта,
в силу денег, в лозунги-слова,
ни в любовь какого-либо сорта,
в мысли, что рождает голова.
Я не верю в братскую обитель,
что пропахла дармовым добром,
и тем более,
когда святитель
окропляет собственный мой дом.
Я не верю
в завтра и в сегодня,
да и к прошлому доверья нет,
будто кто-то свет небесный отнял
и зажег мне отраженный свет.
Но сквозь мира тусклую завесу
я не верой,
а умом пробьюсь
в ту страну, что много старше Зевса,
где Перуном пестовалась Русь.
Именно оттуда все мы родом.
И мне жаль языческих потерь,
жаль утраты матери-природы,
что предсмертно шепчет:
верь мне, верь…
Я встаю пред Русью на колени
и шепчу: родимая, прости,
пусть не в этом -
в новых поколеньях
ты себя сумеешь обрести.
Реквием на День Победы
Озарена Москва огнями,
и триумфальными конями
тень славы прежней пронеслась,
в грязь ввергнув нынешнюю власть
Еще лежат в глухих болотах -
одна береза на двоих -
артиллеристы и пехота,
моложе сверстников своих.
Еще не все взорвались мины,
не все траншеи заросли,
а … эти…, греясь у камина,
землею русскою трясли,
ее меняя на банкноты,
стараясь не продешевить.
И пели реквиема ноты:
О Русь, ты будешь,
будешь жить.
Русь почернела от запоя
Русь почернела от запоя,
лишь березовые колки -
так у поднявшихся с забоя
шахтеров
светятся белки.
Во глубине души народной
хранится пласт чернопородный.
Лишь выдав уголь на-гора,
мы обожжем теплом друг друга,
не отдадим как юнкера
родную землю на поругань.
У России нет величины
У России нет величины -
лишь неизмеримое величье,
что хотят двуглавые чины
растоптать и растащить по-птичьи
Не пытайтесь нас перекроить
и привить нам чуждые манеры,
не умеем в одиночку пить,
только – на троих…
да чтоб без меры.
И работать можем -
для души,
а совсем не ради жалких денег,
потому и платят нам гроши
телеобозначенные тени.
Но… не надо нам судьбы иной,
не засыпать души пятаками,
не торгуйте нами и страной -
не считайте всех нас дураками.
Облака улетают на юг
Облака улетают на юг,
колокольные звоны – вослед им,
покидая родимый уют,
расставаясь с рябиновым летом.
Там, в краю чужеземном, тепло,
солнце, фрукты, цветущие розы.
Но не спрятать в чужое дупло
свою душу от здешних морозов.
Я на этой земле остаюсь,
мне на бегство наложено «вето».
Здесь сквозь зимнюю стужу дождусь
возвращенья весеннего цвета.
На фоне вечерней светлыни
На фоне вечерней светлыни
ажурные мачты опор
как новые наши святыни -
бездушному небу укор.
Несут они свет настоящий
взамен угасающих дней,
и вот над Россиею вящей
зажглись мирриады огней.
Не спят в городах и селеньях,
продленкою тянется жизнь.
Моим, а не божьим, веленьем
наземные звезды зажглись.
Над бренною планетой
Над бренною планетой
на бреющем полете
надтреснутые мысли
свершают виражи;
цепляясь друг за друга,
сплетаются в тенета,
ткут ауру земную -
энергомиражи.
А те – живут как волны,
рассеиваясь вольно
или сбиваясь кучно
в сверхплотные слова.
Слова рождают дело,
дела рождают тело,
тела рождают мысли,
и кругом – голова.
Мысль измерима в эргах,
а в джоулях – работа,
и аура весома,
и масса льется в свет.
Жизнь – вечная разборка:
кому, зачем и сколько.
И плодоносит сома*,
даря иной Завет.
* сома – (греч) тело, не имеющее половых клеток.
Объявляются общие выборы
Объявляются общие выборы.
А мне хочется всех выпороть -
ну, опять мы развесили уши,
затыкая и ум и души.
Вновь нас кормят гнилою морковью,
обещая житуху коровью,
обещая теплое пойло,
хлорофосом промытое стойло,
чтобы всех хорошенько выдоить,
а потом на говядину выдавить.
Не хочу быть мясистой тушею -
я свой голос внутренний слушаю,
он мне шепчет – будь человеком
наравне с XXI-м веком,
поверни к меркантильности спину,
знай, что мир уподоблен спину -
мысли взвихрены вечным крученьем,
подымаясь к высотам вечерним.
Там, где звезды сливаются с небом,
там, где я ощутимо не был,
там, где дух свой оставил Визбор -
в горних высях -
российский выбор.
03.07.96 г.
Естина
Выхожу из дома я -
а за углом
осень златотомная
грезит о былом.
Красный лист осыпался,
желтизна – как СПИД.
Суетой надыбался,
город нервно спит,
и заботой дольнею
взгляд его потух -
синей колокольнею
вверх стремится дух.
Над холмами грязными
молит крест грехи,
посулами прясными
на бедность -
с чужой стрехи.
Но рассветно-алое
солнце-пламень жжет,
стылое-усталое
небо чуда ждет.
Вновь фатой невестиной
облеклась река,
чувствуется -
естина
высшая рука.
Числа – это отзвуки небес
Числа – это отзвуки небес.
Единица – голосом гобоя
ввинчивается словно бес,
то явясь царицей, то – рабою.
Парным сочетаньем инь и ян
всякое движенье сотворимо.
Птица-тройка будит россиян
бубенцовым отголоском Рима -
мчимся мы на резвых вороных,
сиротами оставляя хаты,
и на все четыре стороны
рвутся колокольные набаты.
Падают наземь колокола
с пятиглавых золотых соборов,
и звезда на пять углов легла,
заглушив сомнения и споры.
Но в полночной русской тишине,
захмелев от звездного сиянья,
я склоняюсь на плечо к жене
и шепчу бессчетные признанья.

«Ш'ерше ля Фам»
«Ш'ерше ля Фам» – как часто эта фраза
доказывала истинность свою.
Лишь Ева укротила дикобраза,
легла к нему в послушную хвою.
Был Дон Кихот обязан Дульсинее
отвагой и комичностью своей,
а Лауре Петрарка, не старея,
сонеты пел как курский соловей.
Пусть всуе поминали матерь вашу,
но в час житейских праздников и склок
ведёт сквозь нас Толстой свою Наташу
и Незнакомкою пленяет Блок.
Мы образ женщины вносили в жизнь как знамя,
ему молились в тёмной тишине.
Своим рожденьем я обязан маме,
устойчивостью жизненной – жене.
Ты – мать моих детей и вечная подруга,
вы – женщины, чьи лица я люблю,
собой замкнули бесконечность круга,
в котором я себя за хвост ловлю.
Ты – женщина, судья моих поступков,
но ты же и первопричина их.
Твой образ и восторженно и хрупко
несёт в себе мой угловатый стих.
Ты – фея добрая, а может, ведьма злая,
ты – изначалье делу и словам.
Доподлинно и истинно я знаю:
всегда, везде, во всём «Ш'ерше ля Фам».
Надоело щетиниться копьями
Надоело щетиниться копьями,
бить в набат и пожары тушить.
Мне прильнуть бы к чему-нибудь
тёплому
вроде женской души.
В рамках моего воображенья
В рамках моего воображенья
твой портрет среди всеядных дел -
северного неба отраженье,
где не ощущается предел
времени и чувствам и пространству.
Вскинув кверху горизонта бровь
здесь взамен скупого постоянства
неизменно буйствует любовь.
(Незнакомке)
Ты похожа была на мадонну
с картин Рафаэля:
этот взгляд, отрешённый от вечной
земной суеты,
и улыбка в душе, от которой
глаза подобрели,
и печаль на лице – отраженьем
твоей красоты.
Я стою и любуюсь, как много
прекрасного в мире.
Как его оценить? Да и надо ль
его оценять.
Говорят, существует, всего
измеренья четыре,
красоту ж не измерить.
Её надо сердцем понять.
Я так хочу свои стихи прочесть
Я так хочу свои стихи прочесть
той неизвестной женщине планеты,
которой незапятнанная честь
влечёт меня на новые сонеты.
Нерастраченную нежность
Нерастраченную нежность,
недопетые слова
брошу под ноги небрежно.
Пусть все топчут. Трын-трава.
Ветка осеннего золота
Ветка осеннего золота
не в дорогом хрустале,
а в вазе с краем расколотым
стоит у меня на столе.
В оправе она не нуждается.
Как дорогой бриллиант -
памятью нашей огранится.
Памяти той – я гарант.
Даже отколотым краешком
стану всегда дорожить.
Если ты будешь не рядышком,
значит, во мне будешь жить.
Я тебя тыщу лет не видал
Я тебя тыщу лет не видал,
все бессонные прошлые ночи.
Не от дел я обычных устал.
Оттого, что хотелось мне очень
по бульвару каштанам вослед
прогуляться под вечер с тобою
и желтеющих листьев букет
подарить как кольцо золотое,
а ещё я хотел не во сне -
наяву целовать твои губы.
Пусть тебе не покажется глупым:
листья жёлтые – это к весне.
Не суди меня ты слишком строго
Не суди меня ты слишком строго.
Я мечусь, наверно, оттого,
что стою у самого порога
запертого сердца твоего.
Я стучусь, слова к двери роняя,
для разбега вдаль я отхожу.
В чём-то виноват, но в чём – не знаю,
оттого стихами исхожу.
Я не люблю, когда меня не любят
Я не люблю, когда меня не любят.
Я не люблю, когда меня не ждут.
До полусмерти пусть меня отлупят,
но только равнодушьем не убьют.
Я вернулся к тебе незапятнанным
Я вернулся к тебе незапятнанным,
но уставшем слегка от стихов.
Пусть судьбы приговор непонятен нам,
всё, что выпадет, взять я готов
и не стану себе оговаривать
ни особых условий, ни прав.
Чтобы тёплым держать жизни
варево,
чувства все надо сжечь на дрова.
Я устал, но об этом не знает никто
Я устал, но об этом не знает никто,
оттого, что мне всё достаётся легко:
И работа моя так как надо идёт,
и любимая женщина рядом живет.
Безмятежность все чувства сотрёт в
порошок,
будешь ползать потом,
собирая по крохам.
Если в жизни у нас всё всегда хорошо -
это… плохо.
В тебе сегодня женщина проснулась
В тебе сегодня женщина проснулась -
ласкаешься безудержно ко мне.
Как будто плазмой к сердцу прикоснулась,
сожжешь, будь оно даже из камней.
Если потом о любви сожалеешь
Если потом о любви сожалеешь,
значит, любовь не была таковой.
Не смотри на меня
Не смотри на меня
столь пронзительным взглядом,
Я тебе не откликнусь
стеклянной душой,
давшей вечный приют
столь же вечным наядам,
средь которых брожу я
живой, но чужой.
Ты разбей ненавистное
мне Зазеркалье,
вызволь душу мою из стеклянных оков.
Чтобы грани её от любви засверкали,
чтоб земля ощутила всю силу подков.
Орган молчал
Орган молчал.
Лишь скрипки ликовали,
никто им не мешал
плести музыки вязь.
И сквозь завесу звуков
пламенный Вивальди
в сегодня смотрит, плача и смеясь.
В тон мадригалам,
флейте и фаготу
дышал Италии далёкой аромат,
и согревал меня в морозную погоду
под звуки скрипок чей-то южный
взгляд.
Я наставил месяцу рога
Я наставил месяцу рога,
у него похитив из гарема
ту звезду, что небу дорога
как короне царской диадема.
Я похитил, песней заманя,
и звезда снежинкой обернулась,
опустилась около меня,
мне голубоглазо улыбнулась.
От улыбки кровь стучит виском,
я прилив подъёмных сил почуял,
словно шар воздушный высоко
между небом и землёй лечу я.
Я лечу не облаком в штанах -
силой моего воображенья,
всё передо мной в иных тонах,
единеньем песни и движенья.
Я лечу над суетою дел,
постигая новые вершины.
А звезда, с чьей помощью взлетел,
на земле осталась средь снежинок.
А звезда – снежинка там внизу
затерялась в общей снежной стае.
Перед кем ответственность несу,
ежели весной она растает.
Я лечу, а месяц – однорог
надо мной хохочет зло и дико:
Песнь твоя, Орфей, пошла не впрок,
ежели исчезла Эвридика.
Судьба – это штука, которой
Судьба – это штука, которой
всё также неймётся.
Над неудачником словно девчонка смеётся,
преуспевающих ценит она лишь для виду,
а на меня ни за что затаила обиду.
Хочет, чтоб был я всегда и во всём
ей послушен,
был у неё под пятою податливым мужем,
хочет себе хоть немного,
но бабьего счастья,
и не желает простить моего несогласья.
Я не хочу даже на ночь остаться с судьбою,
ибо давно обручён и навечно с тобою.
Я всё тебе сказал
Я всё тебе сказал и повториться
похожими стихами не рискну.
Слова как птица.
Пойманная птица теряет, к сожаленью, новизну.
А я хочу всегда во всём быть новым,
быть вечным откровеньем для тебя.
Нет, не лишусь своей первоосновы,
слова и чувства снова теребя.
Мне нужен свежий воздух перемены,
зимой – очаг, а в зной – холодный душ.
Вот почему хочу пренепременно
тебе отдать все виды моих душ.
Их не одна, их много, очень много,
все разные и все они мои.
Я не могу их про себя таить,
ища к тебе желанную дорогу.
А не таить, так значит снова петь
и с каждым новым словом обнажаться.
Слова как птица.
Им не залежаться, им надо вовремя к тебе успеть.
Нас любовь обошла
Нас любовь обошла
почему-то когда-то сторонкою.
Почему и когда – на себя остаётся пенять
Напиши мне письмо,
хочешь – длинное, хочешь – короткое,
напиши, чтобы сердце твоё
удалось мне понять.
Может быть, я напрасно
себе на тебя наговаривал,
может, просто не смог разглядеть
твои чувства внутри -
и в котле нашей жизни
не серое булькает варево,
а кипят, поднимаясь со дна
той любви пузыри,
но им трудно прорваться
сквозь нашу густую обыденность.
Не таи ничего в своём сердце
ни нынче, ни впредь.
Помоги ж обрести
ты кипению чувств наших видимость,
чтобы им не пришлось,
оставаясь на дне, пригореть.
(В самолёте)
Ночь позади,
самолёт прорывается в утро.
Солнечный диск
нам навстречу растёт и растёт.
Что ж, расписанье движенья
составлено мудро
в том, что под утро
приходит домой самолёт.
Вновь стюардесса вещает
историю города,
Но, как всегда,
помянуть забывает она
то, что сюда переехала жить
моя молодость,
то, что здесь дом мой,
работа моя и жена.
Что б ни случилось,
сюда я вернусь непременно,
здесь я живу
и здесь смысл моего бытия.
Но чтобы лучше понять,
нам нужны перемены,
вот почему
иногда улетаю и я.
Годы мои по стихам
Годы мои по стихам
ещё раз проскакали,
я прилетаю оттуда,
где был молодой, и загадал:
если встретишь меня на вокзале,
значит, я весь, навсегда
и воистину твой.
Уже снижаться начал самолёт
Уже снижаться начал самолёт,
Я возвращаюсь из небытия -
каким земля меня назад возьмёт,
каким предстану пред нею я?
Мгновенье – это тоже интервал,
порою равный вечности иной,
Что я в себе увидел и познал,
из прошлого что я возьму
с собой?
(В поезде утром)
Багряный диск всплывает
над туманом,
земля как женщина озябшая лежит,
а солнце своим лучиком румяным
уже скорей согреть её спешит.
Земля ещё не полностью проснулась,
с предутреннею негою в ладах.
К ней солнце осторожно прикоснулось,
пора будить, но жалко – молода.
Спит женщина,
прикрыв глаза рукою,
в стыдливой безмятежности своей.
Обтянутое тело простынёю
с двумя холмами острыми грудей.
Спит женщина
под мерный стук вагона,
что снится ей хорошего в пути:
быть может, расставанье у перрона,
быть может, встреча, та, что впереди.
Спит женщина,
блаженствуя минутой,
спит, память чувств при всех не теребя,
А я любуюсь ею и как будто
она напоминает мне тебя.
Где-то между мной и тобою
Где-то между мной и тобою,
воровато спрятавшись в тень,
стать грозится нашей судьбою
неуютный завтрашний день.
Погоди, ещё время не вышло,
разлучать нас ещё не пора.
Может быть расцветёт ещё вишня,
ожидающая топора.
Улыбкою, забыв про осторожность
Улыбкою, забыв про осторожность,
Вы новый шанс мне выдали: дыши.
Спасибо Вам за Вашу ненарочность
и за реанимацию души.
У нас с тобой всё заземлено
У нас с тобой всё заземлено,
и не страшны нам жизненные грозы.
Ток стрессов нас не опалит
и росы -
не высушит.
Всё будет зелено.
Но и болота тоже зелены,
и в них кувшинки
красочно цветут.
Но ряска буден -
это не батут,
чтобы взлететь в заоблачные сны,
туда, где грозы таинством манят
и ждут незаземлённого меня.
Это трудно – не быть
Это трудно – не быть,
отсидеть, отмолчаться,
никого не любить
и со злом не встречаться.
Я не могу перешагнуть черту
Я не могу перешагнуть черту,
делящую желанья и возможности
из осторожности,
чтоб не обидеть ту,
что в мыслях я зову
своей мадонной.
Остаток лет я проведу с тобой
Остаток лет
я проведу с тобой
не потому, что жизнью утомлённый,
покорствую перед своей судьбой.
Я чувствую себя Пигмалионом,
а созданная мною Галатея – ты.
Небо пахнет свежими грибами
Небо пахнет свежими грибами,
мокрый снег кашеобразно вял.
Я неутолёнными губами
не тебя, а воздух целовал.
Земля – словно женщина в белом
Земля -
словно женщина в белом
казаться невестою хочет,
не всё, знать, в груди отболело.
Но дни – холодней и короче.
Найти бы в прошедшее дверцу
и новой весной повториться.
А грусть серебристо струится
по елям, берёзам и сердцу.
По русским горкам
По русским горкам,
вверх ли, вниз ли,
летели камнем иль ползли,
мы настроением не кисли
и впечатления пасли.
Паслись на водной глади утки,
берёзы мёрзли без листа,
нас согревали прибаутки
и вера в здешние места.
Перебегал туман дорогу
и дождик выдавал фальцет.
А я улыбку – недотрогу
на Вашем ощущал лице.
Опавших лиственниц скелеты
Опавших лиственниц скелеты
и обречённая хвоя.
А мне напоминает лето
улыбка звонкая твоя.
Можно ли влюбиться в простоту
Можно ли влюбиться в простоту,
ту, что словно дважды два понятна,
ту, в которой тайны не найду,
но с которой быть всегда приятно.
Если слушать мудрую сову -
можно,
если сердце слушать – нет.
Я тебя без устали зову,
стань моею тайной наяву,
как ещё непознанный рассвет.
Море по-медвежьи валко
Море по-медвежьи валко
пережёвывало валы,
а мне мерещилась фиалка
в озябших ладонях волны.
А когда впечатленьями горд
я вернулся в прокуренный город,
лёг на душу делячества смог,
и цветок сохранить я не смог.
Перед женщиной всех поколений
Перед женщиной всех поколений
склоните, склоните колени.
Немного осталось явлений
подобных вселенскому чуду.
Чароит
Сиреневая нежность чароита
не вянет от веснушек-угольков,
они как несмышлёный
рой мальков
толпятся, в грани каменной
зарыты,
зовут меня в сиреневую глубь,
чаруя вездесущностью своею.
Я этим камнем не переболею.
Он жарок,
как огонь
желанных губ.
Берёзы-девчонки
Зелёной зарёю зарделись берёзы,
стыдливо и страстно бросаясь в судьбу.
Им ветер крикливо кидает угрозы,
и рваное небо берёт на испуг,
пытается платьице скомкать девичье,
сорвать, изорвать изумрудную ткань,
чтоб серая голость осталась в наличьи,
а яркую ярость – в ту Тьму-таракань.
Но юность не слушает злых наставлений,
румянец горит на щеках у берёз.
И я, отряхнувшись от буден и лени,
девчонкам стихи на свиданье принёс.
Белоствольные берёзы
Белоствольные берёзы
в белошалевом снегу -
вы стоите словно грёзы
на далёком берегу
Мне до вас не дотянуться,
не обнять девичий стан.
Ни заснуть и ни проснуться
не даёт, не даёт мне ваш дурман.
Зимнее утро
Предрассветная нега
шевельнулась в окне,
свежим набрызгом снега
потянулась ко мне.
Непорочной фатою
чуть коснулась берёз
и, искрясь чистотою,
понавеяла грёз.
А сквозь белую снежность
словно вишни кипень
осторожно и нежно
занимается день.
Он сперва как невеста,
а потом как жена.
Будет что – неизвестно,
а пока – тишина.
Я глажу тело твоё
Я глажу тело твоё,
тёплое
как налитая солнцем вишня.
Мы – вдвоём,
но я – лишний.
Ты замкнута на себя.
Судьба.
Стихи… неосязаемы как утварь
Стихи… неосязаемы как утварь
и бестелесны словно лунный луч.
Они как тайна, спрятанная внутрь,
и где-то мной обронен
нужный ключ.
Утренняя электричка
Огни разжижают утра
сиреневые чернила,
и снежная свежая пудра
искрится в ногах фонарей.
А в утренней электричке
девчонка на грудь уронила
невыспавшуюся косичку
и голову вместе с ней.
Естественно цвести фиалкам
Естественно
цвести фиалкам,
музыке -
накапливаться в гамме,
а женщине -
быть любимой.
Но когда Вы прошли мимо,
солнцу стало ничего не жалко,
и оно превратило
цветы и музыку
в молчаливые камни.
Это – всё, что мне от Вас
осталось.
На женщин надо любоваться сзади
На женщин надо любоваться сзади,
чтобы смущеньем их не обязать
и можно было б формулой Саади
их динамичность тонко описать.
Утро
По осенним полям,
занедужившим серым туманом,
отряхая с себя паутину
оголённых ветвей,
растекается рыжее солнце – подранок,
умывая озябшее утро
горячею кровью своей.
В небе слышится
птиц отлетающих клёкот,
уносящих меня
в своём дружном ряду.
С добрым утром,
хоть ты от меня и далеко.
Вместе с утренним солнцем
к тебе я подранком приду.
Маме
Зависть – это хорошо и плохо,
Мама, я завидую тебе,
на твоих глазах прошла эпоха,
от начала века до «теперь».
В эти годы грозы громыхали,
о победах пели соловьи,
только никогда не отдыхали
руки материнские твои.
И косынки красной
алый отблеск
ты сквозь годы пронести смогла.
Я бы дал тебе медаль «За доблесть»,
за твои несчётные дела.
Но медали нет, а только… дети,
внуки да и правнуки сейчас.
Вместе с ними
ты живёшь на свете
дважды, трижды и в четвёртый раз.
Так живи и хворости не ведай,
жизнь и окружающих любя.
Многие тебе желаю лета,
Мама, с днем рождения тебя.
Я сегодня один
Я сегодня один,
рядом место пустое,
что ж, луна, заходи,
всё-таки будет двое,
ты меня обними,
словно в давнюю молодость
Но попробуй, сними
эту жуткую жёлтость.
Ты нагая – не та,
нет в тебе наслажденья.
Суета, суета…
Жду любовь каждый день я,
но не едет она,
не спешит мне навстречу.
Только эта луна.
Одиночество.
Вечер.



