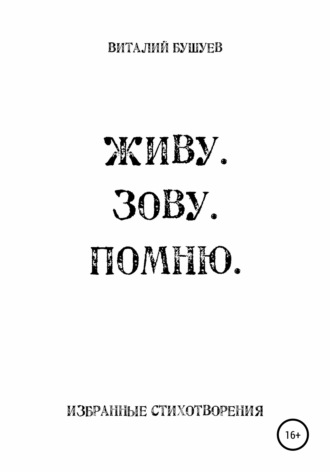
Виталий Васильевич Бушуев
Живу. Зову. Помню

1 000 000 000
Мы
соединяемся
как нули в биллион.
Был ли он
или только снится,
определит
верховодящая единица -
идея.
А где Я?
Я – концентрат всего земного
Я-
концентрат всего земного
и всех космических начал,
судам из прошлого – причал,
грядущим таинствам – основа.
Я – луч и тень
в пространстве тьмы,
Я – эхо в громогласном Мы.
Здравствуйте
Здравствуйте. Я -
миллионоподобен
как следы от галош,
но отпечатками души -
индивидуален.
Дуален я:
снаружи – ломовая лошадь,
внутри -
вуалью тая
стихи – мой допинг.
Мы похожи на черепах
Мы похожи на черепах -
мысли нежатся в черепах,
голос собственный к горлу присох,
и чуть что – головой в песок.
Серый панцирь ты не брани,
он нас прячет надежней брони,
он под цвет неприметных щелей,
где пройдет наша тыща лет.
Поэт – это тень мира
Поэт – это тень мира,
но как часто лишь в тени
нам становится яснее
особенности солнца.
Идейность и деятельность
Идейность
и деятельность -
синонимы.
Кто как не мы
не можем быть немы.
Но не только крича
в каждодневных речах,
в руки взяв молоток и зубило,
пока сытости накипь
нас не сгубила,
срубили ее,
чтоб заалели знаки
нашего изначалия –
ч-е-л-о-в-е-к
Вновь подо мною земля
Вновь подо мною земля.
Смогу ли я
не просто лицезреть триптих:
природа,
человек
и дело его рук,
а свой оставить штрих,
не нарушающий гармонию картины,
где я – на месте середины,
а все прекрасное – вокруг.
Ветер шершавой ладонью
Ветер шершавой ладонью
треплет зеленые косы берез.
Моя сума, что названа судьбой
По Вересаеву
Моя сума, что названа судьбой,
полна работы грязной, но святой.
Люди во власти пороков
Люди во власти пороков,
лености мыслей и дел.
Вот почему у пророков
распятость – вечный удел.
Нам, любящим давать
Нам, любящим давать
нравоученья,
не следует о том лишь забывать,
чтоб высказать любое изреченье,
нужна сначала мысль,
потом – слова.
Человек – не вещество
На полях книги
Мухтара Шаханова
Человек – не вещество,
а существо.
Тело – это только оболочка.
Главная же суть его -
душа, как набухающая почка.
Жить любя
Жить любя -
значит: волненьям не знать конца,
себя найти в общей массе людского
забега.
Что такое Отечество
как не образ отца,
вставшего на уровень века.
Любить его -
значит, встать за честь его.
Но можешь ли ты любить человечество,
если не любишь одного человека,
не считая себя.
Не к другим, а к себе
Не к другим, а к себе
будь особенно строг,
человек,
одноразовый сын человечности.
По ухабам и рытвинам
старых дорог
не добраться
к прекрасным созвездиям вечности.
Но не жди, не скули,
понукай лишь себя,
разгребай и тори и трамбуй
свою трассу.
Ведь на то и дана человеку судьба -
строить путь, по нему не проехав
ни разу.
Собрание
Стынет кофе.
Дохнут мухи.
Льются речи – бормотухи.
Мысли – в профиль,
звуки в стену.
Слов картечь и дремы пена
Я – одна из звезд
Я – одна из звезд, неоткрытых потомками,
потемками судьбы
пробираюсь в будущее.
Буду еще непохожей,
чем крапива на гладиолус,
голос мой – это эхо
судьбы человеческой.
Меж тем, что было
Меж тем, что было и что будет
сиюминутное «теперь»,
оно как дверь в моей хлабуде,
незапираемая дверь.
Дано мне лишь наружу выйти,
дано другим в меня войти.
На Востоке – алая рань
На Востоке – алая рань,
а на Западе – вялая синь.
Луч рассветный,
ночь протарань,
лаву солнца вниз опрокинь.
Обращен я лицом на Восток,
Где, бунтуя, рождается утро,
где сегодняшней жизни исток,
зачатой непорочно и мудро.
Нет, не быть поэту
Нет, не быть поэту
председателем шара земного,
слово массам не заменит мяса,
и какая-нибудь яркая обнова
часто веселей стиха гримасы.
Жарко
Жарко. Я,
ногами шаркая,
бреду
в усталостном бреду.
В одном ряду
со мной весь люд земной.
И солнечный кларнет
жжет в такт ногам,
но как фотону нет
покоя нам.
А солнце всадником
А солнце всадником
на спину гор забралось,
как после боя приоткрыв забрало.
На звезды глянешь
На звезды глянешь:
раз-два и обчелся,
а на земле – огней многоточие,
как будто горящим сердцем прошелся
по каждому дому и улице к ночи я.
Стоит туман
Стоит туман
о землю опершись.
Назидание
Кто б ни был ты, рабочий иль поэт,
тебя ничто не может не касаться.
Твоею сутью станет пусть завет:
сначала – быть,
потом – казаться.
Многомиллионным массам
Многомиллионным массам
не до Хлебникова и иже с ним.
Ее пятикнижием
служит ностальгия о мясе,
об ордере на собственное жилище,
о зарплате,
которой всегда не хватает.
Огонь каждодневных зевот
бьется о душ пепелище,
и в холоде вечных забот
прозрачность и призрачность тает.
Пусть я не стану идолом ничьим
Пусть я не стану идолом ничьим,
в энциклопедии
мне место не найдется,
но я в грядущем буду различим
тем, что о нем
сегодня сердце бьется.
Я не убит
Я не убит,
а выращен войной,
и с молоком,
не столь уж, правда, частым,
впитал в себя,
что небо надо мной
без крика «воздух»
называют счастьем.
Мы скованны привычками
Мы скованны привычками – тюрьмой
для нашего порывистого нрава,
не ходим равномерно по прямой -
бросаемся налево и направо.
Белое – черное
Белое – черное,
черное – белое,
заледенелое
и обгорелое -
надвое расчерченное.
В этой картине
я – посредине.
Жизнь – не стойло
Жизнь – не стойло.
Наличность перебирая,
в ожидании рая
под брюхом скребя,
жить бы не стоило.
Сумей
себя родить как Личность,
не увлекаемую бытия течением,
а живущую – с увлечением.
Я – многокоординатен
Я – многокоординатен.
Порывистое «Нате!»
и виолончелизм Петрарки,
чарку старки -
и в постель.
Пастель смирения
и яркость Первомая -
все принимаю,
все – мои измерения.
И только одно
не найдет места
в моей груди,
это – остановиться на полпути.
Работать – чтобы есть
Работать – чтобы есть,
а есть – чтобы трудиться.
Коль цель такая есть,
то… стоило родиться.
Пуржит по улицам и душам
Пуржит по улицам и душам,
баррикадируя пути,
а ты иди, иди и слушай,
себя молчанием буди.
Судьба – она как загнанная лошадь
Судьба – она как загнанная лошадь,
босыми пятками я бью ее в бока -
ни с места.
А другой-
идет в калошах,
идет и топчет в лужах облака.
Я не люблю ходить наискосок
Я не люблю ходить наискосок,
мне катеты милей гипотенузы,
пусть дальше путь, зато прямей,
и юзом
не надо добывать себе кусок.
По шершавому снегу
По шершавому снегу,
огрызаясь судьбе,
я не в теплую негу -
продираюсь к себе.
Дождь. Дрожь
Дождь. Дрожь.
Вождь. Вошь.
Ждешь. Лжешь.
Хоро-о-ш.
Жизнь – не созвездье улыбок
Жизнь – не созвездье улыбок.
Что-то в прошедшем кляня,
методом проб и ошибок
Время взрастило меня.
Безделье хуже чем боль
Безделье хуже чем боль,
как моль
разъедает,
и тает
привыкшая к ритму жизнь.
Мужись,
не дай покою и невесомости
себя побороть,
на обороте
предыдущей страницы
сохраниться сумей,
либо заново
напиши себя.
Вверху – одинокие звезды
Вверху -
одинокие звезды,
и море огней -
подо мной.
На небе не вымерить
версты
без точки отсчета
земной.
Кружево
Кружево
света и тьмы,
мир-
это ритмы…
и мы.
А самолеты сами не летают
А самолеты сами не летают,
а теплоходы сами не плывут,
маршруты им заране выбирают,
их штурманы по компасу ведут,
а нас…
Земля покой свой потеряла
Земля покой свой потеряла,
а я – тем более.
Во мне не граммы материала,
а тонны боли.
Я – фильтр
для всех земных страданий
и смут сердечных,
хотя мой век, увы, случаен,
земной же – вечен.
Что человек в сравнении с Вселенной
Что человек в сравнении с Вселенной –
ничтожно мал и вес его и рост.
Но взглядом мимолетным он мгновенно
в себя вбирает мириады звезд.
Я и Мы – это вечная тема
Я и Мы – это вечная тема,
восходящая к древним умам.
Бунт команды – и гибнет трирема,
если руль неподвластен рукам.
Я – ничто, но и Мы – это нечто,
где не просто найтись самому,
и вопросы встают бесконечно,
обращаясь к душе и уму.
Если что-то в жизни не с руки
Если что-то в жизни не с руки,
то в затылке пальцами скребя,
не жалей ты одного себя,
не вали вину всю на других.
И не надо на глазах у толп
биться лбом
о первый встречный столб.
Напрасно весла бросил ты
Напрасно весла бросил ты, гребец,
надеждой на теченье уповая.
Послушность и безропотность сердец
нас к берегу чужому прибивает.
В далекой сказке
В далекой сказке
отразилось эхо странствий,
и в завтра
нас увозят поезда,
и сгустком памяти
в неведомом пространстве
рождается сверхновая звезда.
Горит на беломраморном снегу
Горит на беломраморном снегу
зеленая обломанная ветка
как знак беды,
которую так редко
мы замечаем на своем бегу.
И снег не тает от чужой беды
А ты?
Гладкие ладони
Линии наших ладоней -
нашей судьбы отражение.
А ладони дедов моих удивительно гладки:
стерты линии у одного -
вечным земли притяжением,
у другого отполированы
станка металлом рукоятки.
У отца линии смяты
черенком саперной лопаты.
На свои ладони гляжу -
прямые черточки подстать карандашу.
Пусть судьбы были у всех
разные самые,
пусть судьбы были у них
очень негладкие,
ладоням нашим
работа была кормящею мамою,
работа ладоням нашим
была повивальною бабкою.
Чтоб в жизни не было обмана
Чтоб в жизни не было обмана
и был бы сам себе не рад,
я даже в шахматах не стану
брать ход ошибочный назад.
Пускай уж лучше пораженье
сотрет улыбку мне с лица,
чем победить но с сожаленьем,
что честным не был до конца.
Я не пишу поэм
Я не пишу поэм
не потому, что скуден
запас идей и тем.
Нет в круговерти буден
ни времени и ни охоты
читать длинноты.
Могу себя я уважать за то
Могу себя я уважать за то,
что не пытался с краю отсидеться.
В большом и малом,
сложном и простом
я оставлял частями ум и сердце.
И оттого не становясь бедней,
наоборот, себя приумножая,
итожа дни как сводку урожая,
я не стыжусь не
зря прожитых дней.
Последний вскрик солнца
Последний вскрик солнца,
закрытого тучами,
к земле обращен:
Товарищи!
Пусть вспыхнет листва
краснотою знамен,
мрак нависающий
раздвиньте плечами своими
могучими.
Догорают в камине поленья
Догорают в камине поленья,
стихла буйная пляска огня.
Ты сидишь у меня на коленях
словно отсвет вчерашнего дня.
Много
Многословие. Многострочие.
Многоречие. Много…точие.
По мне
По мне:
все люди – боги,
а я – один из многих.
В текучке дел и дней
В текучке дел и дней
что – истинно,
что – ложно?
понять себя – сверхсложно,
а выразить – сложней.
Говорить неправду
Говорить неправду -
это так необременительно,
как целовать нелюбимую женщину.
Воздержусь от поцелуев -
ибо то,
что легко дается,
своей лживостью
разъедает душу.
След
Меж двух огней нет места травостою,
меж небом и землей
душе покоя нет.
Я лишь тогда чего-нибудь да стою,
когда сквозь пепел лет
мой прорастает след.
Зерна слов
Я – не поэт,
а стихотворец.
Дворец небытия храню.
Роняю
зерна слов я
Время-воронью,
чтоб сторицей
вернуть их в виде чувств.
Учусь
явленью строк
и логике мечты.
Четы такой чертог -
защита от стихии бытия -
и есть
стихи.
Кто Я?
Гляжу в окно на завтрашние дебри -
вместилище заблудших тел и душ
и вижу заратустровского вепря,
упившегося кровью свежих туш.
Чему-то пасть,
чему-то начинаться,
делясь у вековечного столба:
ему – повелевать,
им – подчиняться,
Он – Супер-Гомо, а они – толпа.
Но в этой связке для меня нет места:
из зверя – вырос,
а в толпу – не пал.
Мать матерей – она моя невеста,
мне Данко – брат,
и враг – Сарданапал.
Я – Нечто
Иных страшит самосознанье,
что он – Ничто в кольце миров.
Я – Нечто.
Дух святой в изгнаньи,
не тратя сил на прозябанье,
здесь
наломал немало дров.
Вскормленный замыслом небесным,
познав Земли живую суть,
мне ставшей одеялом тесным,
вступаю Я
на Млечный Путь.
Не оробею перед вечным
круговращением светил,
не оробею перед встречным,
хотя б он смертью мне грозил.
Что смерть -
всего лишь смена тела.
Была бы мысль,
была б душа,
опережающая дело
и позволявшая дышать
то звездной пылью,
то – земною,
то – ароматом древних книг.
Живу космической весною
и зрю ее грядущий лик.
Но Дух натягивает вожжи,
у врат отцовских тормозит;
и мысль одна меня тревожит,
кто Я-
творец иль … паразит,
чем Я дополню ноосферу
сверх утверждения
«Он – жил»,
какую пламенную веру
в свои деяния вложил.
Не занимался скопидомством -
Я – чист от материальных благ,
одно оставил Я потомству:
бесцельность -
самый злейший враг.
Стихи, стихии, стихиали -
живут, наполненные мной.
Я – не фатален, не нахален -
живу космической весной.
Выразить себя
Богат словами русский лексикон,
в нем матерность соседствует с величьем.
Но чьи слова поставлю я на кон,
чтоб выразиться так, как в пенье птичьем
звучит тональность неба и планет,
вечерний миг и утренняя роза.
О, сколько тех, кто значится – поэт,
а сам – к кормушке, где сытнее просо.
Не просто стих с мелодией сплести,
о сущности единства их радея;
не просто дух на небо вознести,
а выразить себя -
еще труднее.
Надо
Иные – уходят,
иные – далече,
а мне пустота -
тяжким грузом на плечи,
и мыслей нелегких
и слов – канонада.
Но выдержать – надо,
но вынести – надо.
От злости не рождаются стихи
От злости не рождаются стихи,
не вспыхнут молнии
от яростного крика.
Одна только крылатая квадрига
несет всю необузданность стихий.
Не голося истошно,
не взывая
к всевышнему в горячечном бреду,
я должен сам продраться скозь беду,
держась за поручни летящей колесницы.
Наружу боль выходит,
и лоснится
душа от пота, мыслью созревая.
Нарушу скорость светового блика
и догоню угасшую звезду.
Чужое «Я»
Чужое «Я»
присутствует во мне
как некая неведомая Чакра,
меня перемещая по волне
от микро-Эго и до Космо-макро.
Я вновь зоны жизни прохожу:
Огонь, Эфир и Твердь, и Минералы;
но голосом каким я расскажу,
как оживают зыбкие кораллы,
как ноги вырастают из корней
и голова мутирует на теле,
как ошибались Дарвин и Линней
и что произошло на самом деле,
как появился протогоминид
и научился вертикальной стойке,
чью гармоничность мозг пчелы хранит
и отражает в сотовой постройке;
что значит бого-духо-человек,
меня влекущий мнимым единеньем,
за коим хаотичен новый век
в своем неодолимом повтореньи.
Мой путь реинкарнирован судьбой,
«Я» и «не-Я»
лишь видимо раздельны.
Но чтоб остаться мне самим собой,
должны мы быть предельно однотельны;
ведь «Я» -
зеркальный образ Бытия.
Рожденным быть
Рожденным быть -
необходимо время.
Переродиться -
можно и за час.
Жизнь – цветной калейдоскоп
Жизнь – цветной калейдоскоп
чьих-то помыслов и действа,
неба радужный соскоб
на шпиле Адмиралтейства.
Но раскрашенный бедлам
не сулит мне цельной доли,
разломаюсь
пополам
на чет-нечетность юдоли,
полюсами проглянусь
и, ликуя, опечалюсь,
оттолкнусь и потянусь
к белосветному началью.
Палитра
Семь цветов -
начало всей палитры,
синтез их – свет Белого Луча.
Никакие мощные юпитеры
в глубине небес не различат
тонкие оттенки новых красок.
Все сводимо к тем семи цветам.
Отчего ж в душе моей
гораздо
разномастней
цветовой бедлам:
розовый хитон японской вишни,
чароита черная сирень,
лик рассвета,
коим сам Всевышний
по утрам рисует новый день.
Цвета
Сиреневый,
малиновый
и желтый -
тональные цвета моей души.
И на вопрос -
чего же в них нашел ты,
палитру остальную потушив,
отвечу:
выбор мой – не самоприхоть,
а просто отраженье глубины,
где в сумерках царит неразбериха,
и краски -
как предчувствие
луны.
Море
А море не на шутку расшумелось
за то, что я себя предостерег.
Ведь надобно иметь шальную смелость,
чтоб плыть не по волнам, а поперек.
Утоли мои печали
«Утоли мои печали»,
удали
из помятой бытом памяти грехи,
дай мне то,
что не имеют короли -
чувство утра, чем владеют петухи.
Стол
Четыре стены
и свисающий вниз потолок.
Над хаосом мыслей едва возвышается стол
Я столько на нем необычных идей истолок,
что он для меня -
равноправно – тюрьма и престол.
Сердце
Хочется быть добрыми,
облизанными коровою,
а сердце – скомкано ребрами,
болит… как здоровое.
Ему взаперти – не хочется,
ему б – на ветра на вольные,
ему бы – не Данковы почести,
а песни – багряно сольные.
Я ощущаю искомканность сердца
Я ощущаю искомканность сердца,
бьющегося о грудь.
Вольную дать бы,
но где же та дверца,
чтобы назад возвернуть.
Порознь же нам
ну никак невозможно,
хоть и болит,
но… свое.
Холодно – жарко,
легко и тревожно -
это и есть бытие.
Неподвижность
Озябшее утро
целует небритые щеки,
готовя мне встречу
с цветущим черемухой днем.
Глаза
в ожидании белого марева -
в шоке,
и грудь омывается
свежехолодным огнем.
На ветке
грачи репетируют
страстные звуки,
и небо
как классная дама
вздыхает: «пора».
Но я-
неподвижен,
и сердцем спеленуты руки,
и калий по вене -
подобьем тупого пера.
ЦКБ
(цикл космического бдения в Центральной клинической больнице)
Мысли стерильны словно больничная простыня,
только в углу
разухабисто выставлен штамп.
Вот и дождался я того судного дня,
что порешит -
здесь мне быть -
или там.
Я не скулю.
Что предназначено -
будь.
Ропот листвы так призывно взывает ко мне.
Я выбираю четвертый незнаемый путь,
не убоявшись насмешек и града камней.
Эта дорога -
к себе.
Октава
О небо, яростным пожаром
мой миг последний – не томи.
Пусть суждено мне высшим даром
сыграть всего лишь: до, ре, ми…,
и я их отыграл -
без фальши.
Они влились в немую высь.
Но чтобы не фальшивить дальше,
скажу себе – остановись.
Уйду с малиновым закатом
угомонившейся красы, чтоб вновь почувствовать
когда-то
озноб предутренней росы.
Пройдя года и расстоянья,
набравшись замыслов и сил,
тогда я буду в состояньи допеть свои: фа, соль, ля, си…
Обруб
Мне надоело жалобы выслушивать,
из хаоса разумное выуживать,
мне надоело дни свои выслуживать,
запал души
на сквозняках выстуживать.
Пусть дерево для будущего спилено,
обруб
всегда честнее,
чем извилина.
Вверх
Всю жизнь я в гору шел
и думал:
солнце – там,
за гребнем,
стоит лишь осилить перевал.
Их было много -
горных ступеней.
Но цели я желанной -
не достиг.
А рощи, полные плодов,
росли внизу…
И все же
путь мой -
только вверх.
Последний год дано мне пережить
Последний год дано мне пережить,
а после – в форму поля я истаю
и буду с белым облаком дружить
и догонять гусей летящих стаю.
Не словесами
научусь вещать,
а буду мыслепеньем изъясняться
и силой духа стану возвращать
себя в края,
что нынче только снятся.
А на земле –
оставлю я детей,
тома своих писаний-упражнений;
пусть память обо мне хранят все те,
кому помог я встать на путь решений.
Свою задачу –
я не дорешал,
теперь она намного усложнится.
Но я перед ответом – не дрожал.
И ты – слезой не увлажняй ресницы.
До цели
Когда идешь без цели -
тяжело,
и надрываясь, пульс в аорте бьется;
вдруг что-то за грудиною зажгло,
и в сердце боль того-гляди вопьется.
Присядь, передохни, определись,
куда
дойти тебе сегодня надо;
и с этой мыслью смело поднимись.
Достичь задуманного -
лучшая награда.
Вновь сила появляется в ногах,
и ретивое – бьется в упоеньи,
и побежденным уползает страх,
а вместе с ним -
тревоги и сомненья.
Навстречу цели -
радостно идти,
сознание вперед меня толкает.
А если…
оборвется что в груди,
то ты меня за это -
не суди,
ну что поделать,
знать, судьба такая.
Ты за меня до финиша дойди.
«Третий глаз»
К тому, что не имел, -
я равнодушен,
жалею лишь о том,
что потерял.
До-нельзя
«третий глаз» мне нынче нужен,
что расширял мой зримый ареал.
Мне предками завещана возможность
за видимостью
глубже различать
не только мира показную сложность,
но истины – прозрачную печать.
Я видел души гор и мысли моря
и безначальность жизненных основ,
я различал друзей за чашкой горя,
лукавость слов и безнадежность снов.
Мой «третий глаз» предвидеть мог напасти,
мог видеть,
что могло, но не сбылось.
Пусть не всегда в моей бывал он власти,
но он не врал, как ныне повелось.
Себя узрел я внутренним виденьем,
грехи свои и свой спиральный путь;
а ныне –
я зажат казенным бденьем:
гляди – лишь «в оба», а о нем забудь.
Моя трехглазость стала рудиментом
(хоть торжествуй, хоть от тоски кричи);
довольствуясь лишь видимым фрагментом,
я к подсознанью потерял ключи.
И плоский мир ко мне стал равнодушен,
скукожился мой зримый ареал.
Тот, кто послушен, -
никому не нужен,
а жив лишь тот,
кто что-то потерял.
В черном вальсе закружился город
В черном вальсе закружился город,
утонул в бездонности ночной,
и дома – свидетели
с укором
немо смотрят на мой флирт с луной.
Что же мне осталось в мире этом -
в вихре жизни пыл свой растерял.
Глядя в небо – можно быть поэтом,
можно – видеть только материал
черной, в звездных блестках ткани,
что шуршит ночным движеньям вслед.
Тишь философических исканий -
вот удел моих грядущих лет.
Быть
Солнце огненной лавой
лижет черные тучи.
Быть – так лучшим,
помирать – так со славой.
Изъясняюсь сухо и пространно
Изъясняюсь сухо и пространно -
я напевность речи потерял.
Растранжирив легкость ресторана,
тяжело тяну словесный трал.
А улова нету -
только камень
тянет в преисподнюю на дно,
где душе, ожегшейся о пламень,
углем сохранить меня дано.
Может быть, пройдут тысячелетья -
темным антрацитовым куском
буду не в камине чьем-то тлеть я,
а дам жару огненным мазком.



