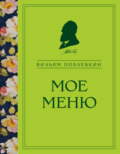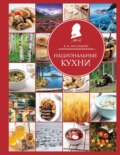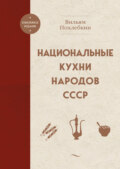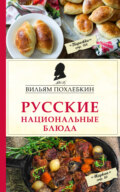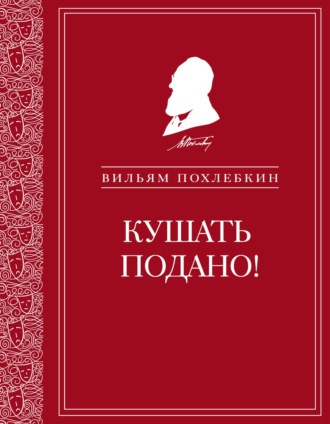
Вильям Похлёбкин
Кушать подано! Репертуар кушаний и напитков в русской классической драматургии
И. А. Крылов
1769–1844
Иван Андреевич Крылов среди своих современников слыл не только выдающимся баснописцем, но и был известен в петербургских гостиных как гурмэ и гурман, знаток, ценитель хорошего стола и любитель вдосталь поесть, насладиться едой, о чем свидетельствовали и некоторые его басни, и сама его фигура.
Как драматург И.А. Крылов мало знаком широкому кругу читателей, хотя начинал свою писательскую деятельность именно как комедиограф и настойчиво пытался, по крайней мере трижды за свою творческую жизнь (в 1784–1790, 1794–1801, 1806–1807 гг.), работать исключительно в этой любимой им сфере.
В пятнадцатилетнем возрасте Крылов пишет свою первую пьесу – комическую оперу «Кофейница» (1784), однако, отчаявшись поставить и издать ее, создает трагедии «Филомела» и «Клеопатра». Но поскольку и они не попадают на сцену, то он вновь обращается к более отвечающему его склонности жанру комедии и пишет одну за другой «Бешеную семью», «Сочинителя в прихожей», «Проказников», которые также либо не публикуются, либо не допускаются на сцену, главным образом из-за своей резкости, эстетически и социально идущей вразрез с установками Княжнина – законодателя мод тогдашнего столичного театра.
Это заставляет Крылова вообще оставить попытку пробиться со своими драматическими произведениями и заняться журналистикой, хотя и здесь он старается не порывать со своими симпатиями к театру и основывает журнал «Зритель» (1792), который, однако, скоро закрывают по приказу Екатерины II. Опасаясь судьбы Новикова, Крылов уезжает из столицы и проводит в провинции весь конец царствования Екатерины и все павловское время, живя в имениях богатых вельмож в качестве помещичьего секретаря или гувернера помещичьих детей.
В самом конце царствования Павла I Крылов возобновляет свою драматургическую деятельность и пишет за этот короткий период три комедии – «Подщипа» (она же «Трумф»), «Американцы» и «Пирог». Все три пьесы получают признание, ставятся в домашних театрах, распространяются в списках и даже оказываются в конце концов напечатанными, хотя и в разное время.
Наконец в самый разгар «либерализма» Александра I Крылов в третий раз берет перо комедиографа и пишет две пьесы – «Модная лавка» и «Урок дочкам», имевшие у него самую счастливую судьбу: они ставятся тотчас же и публикуются обе в короткое время (1816), причем удерживаются в репертуаре вплоть до 40-х годов – до самой смерти Крылова.
Для нас в этом перечне представляют интерес пьесы второго периода. Дело в том, что пьесы первого периода все-таки были построены по классицистским канонам и в них Крылов совершенно не касался кулинарного антуража. Той же печатью полного отсутствия и даже намека на кулинарный антураж отмечены и популярные комедии третьего периода: их сюжет исключал какое-либо упоминание о застолье.
Пьесы же второго периода все содержат кулинарный антураж, а одна из них – «Пирог» – имеет не только кулинарное название. Ее главным действующим лицом является самый настоящий пирог, который не просто упоминается в репликах персонажей, но и вполне реально присутствует на сцене.
Чем же объясняется такой прорыв к кулинарному антуражу, совершенный Крыловым в 1799–1801 годах? Прежде всего, думается, сказалось несомненное воздействие Фонвизина: Крылов, видимо, не только хорошо понял превосходство Фонвизина как драматурга, но и правильно оценил, в чем состояло его новаторство в создании русской бытовой комедии. Во-вторых, не могла не сказаться и обстановка, в которой протекало творчество Крылова в этот период: богатая украинская усадьба князя Голицына; к услугам Крылова – добротный, привольный, разнообразный стол с русскими, украинскими и отчасти французскими блюдами; тут же – домашний театр с послушными, готовыми сыграть любую вещь крепостными актерами; домашний, неспешный распорядок помещичьего дня, в котором столу четырежды, а то и более раз в сутки отдавалась традиционная дань. Не заметить в такой обстановке кулинарного антуража в жизни и сделать вид, что он может отсутствовать в пьесах, просто-напросто невозможно.
Кроме того, это был, можно сказать, прекрасный повод для Крылова продемонстрировать наконец свою осведомленность в этих вопросах. Вот почему он не мог сделать этого формально или поверхностно, ограничившись либо введением в свои пьесы дежурных и очень «сценичных» чая, кофе или вина, не мог отделаться лишь формальными, отсылочными репликами: «Пожалуйте к столу» и т. п., а ввел в текст действующих лиц полные, правильные, настоящие названия наиболее распространенных (и симпатичных ему лично!), конкретных блюд своего времени.
Вместе с тем, как сатирик, Крылов, подобно Фонвизину, использовал кулинарный антураж для характеристики своих героев, для создания или усиления комического эффекта – в полном соответствии с канонами комического жанра западноевропейского театра. Продолжая фактически линию Фонвизина, Крылов «углубляет» ее, показывая, как можно «управлять» кулинарным антуражем, моделируя профили своих героев, подчеркивая с его помощью не только их индивидуальность, но и общую гротескность ситуации, непередаваемую иными средствами.
«Подщипа»
1800
Так, в шуто-трагедии «Подщипа» Крылов заставляет гофмейстера царского двора Дурдурана лично покупать каплуна на рынке, а затем бегать с ним по всему дворцу по иным делам до тех пор, пока ему не удается попасть на кухню, чтобы опять-таки лично вручить этого каплуна стряпухе: столь важным является блюдо из каплуна. В другом случае Крылов вкладывает в уста горничной Чернавки такое «кухонное» описание мер, принимаемых в царстве Вакулы для подготовки к войне, что оно низводит не только понятие «война», но и понятие «царство» до крайней степени шутовства.
Чернавка
Все меры приняты: указом приказали,
Чтоб шить на армию фуфайки, сапоги
И чтоб пекли скорей к походу пироги.
По лавкам в тот же час за тактикой послали <…>
Из старых скатертей наделали знамен,
И целый был постав блинами завален.
Но, ах! уж поздно все! Трумф под город пробрался.
Как вихрь в полях взвился и в город он ворвался.
Ах! сколько видела тогда я с ними бед!
У нас из-под носу сожрал он наш обед…
В этом отрывке ясно видно, что самое гротескное впечатление несуразности «военной подготовки» и «военного поражения» производят как раз кулинарные строчки. И это последовательно проводимый Крыловым прием.
Так, жених Подщипы, картавый и шепелявый князь Слюняй, сравнивает силу своей любви к ней с любовью к кондитерскому изделию, что, разумеется, лишь усиливает эффект глупейшей нелепости этого персонажа.
Слюняй
Ой! как мне быть, как ты с дьюгим пойдесь к венцу!
Я так юбью тебя… ну, пусце еденду.
Рисуя актуальные во времена Павла I противоречия между вводимым царем немецким стилем одежды, поведения, субординации и русским неприятием этого стиля, Крылов пародирует эту несовместимость посредством убедительного указания на несовместимость немецкой и русской кухни. И именно такого рода аргументы более доходчивы для зрителя, производят более убедительное впечатление, чем любые иные.
В ответ на предложение Трумфа, сообщающего Подщипе, что он хочет с ней «корона, скиптра, трон и слафа растелить», Подщипа отвечает:
Конечно, государь! мне много б было славы!
Но вспомни, что у нас совсем различны нравы:
Ты любишь устрицы, а я их не терплю;
Противны сочни вам, а я их смерть люблю;
Привык ты на войне сносить и жар и холод,
И к пище всякой там тебя привадит голод;
А я лишь выборный люблю везде кусок:
Петушьи гребешки, у курочки пупок;
Ты всяку дрянь рад есть, находишь вкус в лягушках,
А я у матушки взросла лишь на ватрушках…
На протяжении всей пьесы Крылов противопоставляет блюда русской кухни блюдам западноевропейской (фактически французской, хотя у него действует иностранец – немец). При этом в числе русских блюд он в основном указывает известные общенародные, национальные, простые, но наряду с ними называет и те модные среди петербургской аристократии блюда, которые были введены в 60–70-е годы XVIII века. Что же касается иностранных блюд, то он упоминает всего два-три самых одиозных и абсолютно неприемлемых, смешных для русского простого народа.
В результате получается, что вся русская еда, как народная, так и барская, – вкусная, добротная, из лучших сортов рыбы и мяса, птицы, а вся иностранная – невкусная, состоящая из всего склизкого, протертого, жеваного, подозрительного, несъедобного.
Здесь мы можем наблюдать явную, сознательную тенденциозность автора в подаче кулинарного антуража. Этот прием с тех пор надолго стал одним из приемов трактовки патриотической позиции, причем вскоре, буквально с начала XIX века, перешел из литературы в общественную жизнь и полемику. Далеко не все литераторы разделяли положительный взгляд на подобный упрощенный, «кулинарный» подход к проблеме русского патриотизма. Среди тех, кто осуждал такой подход, были Карамзин, Пушкин и Мятлев, на чем мы подробнее остановимся в главе о Пушкине.
Если свести все упоминания о кушаньях и питиях в пьесе «Подщипа» по национальному и сословному признаку в три списка, то они будут выглядеть так:
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ КУШАНЬЯ И СЪЕСТНЫЕ ПРИПАСЫ
• Хлеб, вода
• Щи, пироги, блины, сочни
• Редька, хрен, огурцы
• Потроха куриные
• Калачи, ватрушки
• Леденцы
БЛЮДА И КУЛИНАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КУХНИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗНАТИ
• Водка. Водка вейновая (из кислого виноградного вина)
• Кулебяка с сигом
• Салакушка (чухонская) – копчено-соленая рыба баночного посола, доставляемая из Финляндии, деликатес XVIII века
• Телячья нога (задняя часть телятины, запеченная в тесте)
• Каплун
• Петушьи гребешки
БЛЮДА И ЕДА ИНОСТРАНЦЕВ
• Устрицы
• Лягушьи бедрышки (в кляре)
• Протертое (суфле из мяса, протертые овощи) – жеваное, по тогдашней русской терминологии
• Пиво. Кофе
Комедийно-издевательски трактует Крылов в «Подщипе» и приглашение к застолью. У Крылова его произносит не лакей, не мажордом, даже не гофмейстер – не те, кому это положено по рангу и должности, а царь Вакула, что уже само по себе способно вызвать двусмысленную ассоциацию у зрителя. И здесь Крылов действует не случайно, а продуманно. Ведь это очень похоже по духу на ту двусмысленность крыловских басен, о которой Загорецкий в «Горе от ума» отзывался так:
Насмешки вечные над львами, над орлами!
Кто что ни говори,
Хотя животные, а все-таки цари!
Но и это еще не все, что «выжимает» Крылов из приглашения на обед. Он преобразует его из торжественного или почтительного, каким оно всегда должно быть по существу, в нечто совершенно неожиданное и несообразное, делая из него либо уничижительное приказание: «Ты зелен, князь, еще! Ступай и будь на ужин!»; либо этакое снисходительно-капризное согласие: «Ну ладно же, так мы в столовую пойдем».
«Пирог»
1801
В этой одноактной комедии мы сталкиваемся с совершенно иной разработкой и использованием кулинарного антуража. Если в «Подщипе» он применялся для создания грубоватого гротеска и для противопоставления русского кондового хлипкому иностранному (причем сам Крылов достаточно критически настроен в отношении обеих кулинарных крайностей), то в «Пироге» кулинарный антураж используется для построения серьезной сюжетной линии. Понять это, кстати, невозможно полностью без знания истории русской кухни, без осведомленности в тех процессах, которые происходили в формировании русского дворянского стола после 1793 года, когда Россию буквально захлестнули потоки французской эмиграции.
Иначе «Пирог» останется легковесной комедийкой о развращенных слугах и глупых барах. Без кулинарно-технических знаний глубокая, почти философская мысль Крылова о пустом, пустопорожнем, выеденном пироге как о символическом намеке на внешне блестящее русское дворянство останется непонятой. И, главное, будет непонятно, кого осуждает Крылов, кого он винит, откуда усматривает опасность для России – от господствующих классов или легко поддающегося дурным влияниям народа.
Дело в том, что пирог, который Крылов сделал «героем» своей комедии, это вовсе не русский национальный пирог, а тот новый вид пирога, который, сохранив традиционное русское название и форму, по своей технологии сильно отличался от общепринятого до начала XIX века приготовления пирогов в России. Этот новый вид пирога ввели в русскую дворянскую кухню французские повара, работавшие в России в 1790–1810 годы и создавшие целый ряд модернизированных гибридов русско-французской кухни.
Для русской кухни пирог – коренное, многообразное изделие так называемого хлебенного типа. Его тесто всегда дрожжевое, хотя и может приготавливаться разными способами – опарным и безопарным, с различными видами забраживания, расстойки, с одно-, двух- и даже трехкратным подъемом. Короче говоря, при огромном разнообразии состава теста (из всех видов муки: ржаной, пшеничной, овсяной, гороховой), при всевозможных вариантах технологии, при применении разных подъемных средств (закваски, дрожжей прессованных и пивных, сметаны, пива, горохового сусла), при разных вариантах соединения с начинкой (открытые, закрытые и полуоткрытые, решетчатые) русские пироги всегда будут обладать дрожжевой, пористой, пышной или рассыпчато-нежной тестовой основой, тесно, неразрывно спаянной с начинкой пирога.
Отсюда проистекают и свойства русского пирога: он может быть либо очень прочным и плотным, хорошо поддающимся транспортировке, удобным для носки в узелке или котомке рабочим и крестьянином, а может быть хрупким и ломким, если этот пирог приготовлен для парадного стола и для немедленного съедения. При этом любой состав дрожжевого теста обеспечивает единство начинки и тестяной части пирога: взять часть пирога – это значит отрезать кусок обязательно вместе с начинкой. Как бы ни мала была эта отъятая часть, целостность пирога, каким бы он ни был большим, немедленно нарушается, и это невозможно скрыть. И, уж конечно, такой надрезанный пирог нельзя долго сохранять.
Зачем мы так подробно, детально перечисляем все эти особенности русского пирога? Только для того, чтобы сделать современному читателю понятным, что французские пироги, которые были созданы «русскими» французами и один из которых фигурирует в пьесе Крылова, совершенно не были похожи на русские пироги именно отсутствием вышеперечисленных свойств и обладали противоположными качествами. Именно на обыгрывании этого различия двух типов пирогов и построена вся пьеса Крылова.
Французским кулинарам очень понравилась идея русского пирога, они были восхищены ею, они высоко оценили и вкус этого изделия, и особенно вкус национальных русских начинок – из севрюги с грибами и рисом, из капусты с луком и грибами с яйцами, из просольной семги с гречневой кашей и луком и многие другие. Очень понравилась им и русская пословица, относящаяся к пирогам: «В пирог все завернешь!» Однако они поняли эту пословицу несколько иначе, чем русские, что было совсем не удивительно при подстрочном переводе.
Для русских эта пословица означает, что пирог – это, дескать, такое изделие, что в начинку к нему годится буквально все: и рыба, и мясо, и грибы, и разнообразные овощи, и зерновые, и фрукты, и ягоды, и варенье, и кислое, и соленое, и сладкое, а также разные сочетания мяса и овощей, рыбы, яиц и овощей и т. д. и т. п. Словом, нет того в пищевом мире, из чего бы нельзя было соорудить начинку для русского пирога. Но для французских кулинаров ключевым словом в этой пословице оказалось не «всё», а глагол «завернешь». Они посчитали, что завертывать все только в одно дрожжевое тесто – недостаток русской фантазии, и решили выдумать другие виды «тестяных салфеток», в которые можно было бы заворачивать русские начинки.
Собственно, ходить за выдумкой далеко не пришлось. У французов уже было разработано два-три вида теста, предназначенных специально для заворачивания пищевых продуктов, причем один из них был даже вовсе несъедобным, декоративным, использовавшимся для подставок к шоколадным тортам и к фруктовым масседуанам, для «корзиночек» с гарниром и т. д. – это тимбальное тесто. Из двух других видов теста – слоеного и вытяжного – французы доработали, улучшили для пирогов именно слоеное, сделали его более плотным, эластичным, менее хрупким и ломким, чем оно было во французской кухне, и получили в конце концов превосходную, не толстую, но прочную, красивую при зарумянивании корку пирога, в которую оказалось возможным упрятать разные пищевые продукты. Раз прочность и красота тестяной оболочки возросла, то возросла и чисто внешняя, декоративная ценность пирога как изделия, и это дало возможность повысить его в ранге из народного в парадный и не только украшать им с этих пор домашний стол вельмож, но и парадные обеды аристократии. Повысилась возможность использовать пирог и как своеобразный сундучок, пищевую шкатулку, набитую разными съестными припасами, и в такой пищевой упаковке брать еду на пикники, в дальнюю дорогу и т. п.
В соответствии с этими новыми функциями «дворянско-французского» пирога при его изготовлении уделялось внимание всемерному повышению его «сухости», «непромокаемости», «герметичности» и прочности. С этой целью не только видоизменялось тесто для оболочки, но и начинка лишалась своей сочности и изготавливалась не из мелко дробленных пищевых продуктов, а из более или менее целых вещей: целых грибочков (нерезаные шляпки); крупных кусочков рыбного филе, а нередко и целой пластованной пополам рыбы; целых ножек и грудок пернатой дичи – куропаток, рябчиков, вальдшнепов, цыплят. Все эти элементы начинки для таких пирогов-шкатулок приготавливались совершенно отдельно и доводились до полной кулинарной готовности, а затем обезмасливались на промокательной бумаге и ровненько, аккуратно закладывались на заранее испеченное тестяное дно, после чего закрывались тестяным листом сверху и запекались в духовке (а не в русской печи, как русские пироги), на что требовалось весьма мало времени – от 20 до 30 минут, ибо все элементы таких пирогов были фактически уже готовы. Поскольку проблемы пропекания теста в таких пирогах не существовало, их делали высокими, в два-три слоя. Кроме того, у таких пирогов, особенно если они предназначались для транспортировки, подовая часть делалась толще и прочнее верха, так что пирог не мог провиснуть или сломаться под тяжестью начинки, тем более если его при этом несли на подносе или даже на вытянутых руках, на льняной салфетке.
Вот именно о таком пироге и идет речь в комедии Крылова. И это тотчас же становится ясным зрителю, как только открывается занавес и «входит Ванька, неся в салфетке пирог».
Ванька. Тьфу, пропасть, все руки обломило! Версты четыре из города тащил на себе… <…> Этакой пирог! Как город. Завтрак будет – хоть куда. Нечего греха таить, я и сам люблю такое гулянье, где бы попить и поесть. <…> Ну, да пирог! Кабы да не страшно, так бы поразведался с ним слегка, а то, право, досадно. Господам будет около него масленица, а мне, стоя за ними, великий пост. Я же сильно проголодался. Ну, ну, право, так на меня и смотрит.
Действие затем разворачивается очень быстро: вслед за словами Ваньки появляется горничная Даша, по достоинству оценивает пирог: «Как город. Какой приятный запах! какая корка» – и тут же предлагает Ваньке: «Да не можем ли мы, Иван, пирожка-то немножко отведать?». На что Ванька резонно отвечает, что совесть ему это сделать позволила бы, да спина запрещает – она щекотливее всякой совести.
Такой ответ вполне устраивает нагловатую горничную, которая моментально излагает свой план:
Даша. Положись на меня <…>, вынем по кусочку, да и полно. <…> Делай только, что я велю.
И далее следует подробное описание техники распотрашивания пирога, которую Крылов, без сомнения, наблюдал где-то лично, подсмотрев за плутнями подобных слуг.
Даша. Сложи вчетверо салфетки две. <…> Положи их на тарелку. <…> Подложи еще салфетки две. <…> Опрокинь теперь на них пирог вверх дном. <…> Вынь же карманный ножичек… <…> Вырежь же маленькую дырочку на дне. <…> Ну, теперь и вынимай оттоль, что попадется.
Ванька. А, а! догадался! Да ты бес на выдумки! Я и сам не промах, а мне бы ввек этого в голову не пришло.
И это потому, что Иван привык иметь дело с русскими пирогами, а об особенностях французско-русских он еще не знал.
Даша. Ну, видишь ли, что этого никто не узнает?
Ванька. Ни во сто лет! <…> Ведь можно сказать, что начинка от дороги осела.
Затем начинается трапеза двух мошенников, во время которой они обмениваются краткими, но красноречивыми замечаниями насчет содержания и вкуса пирога. Вот как выглядит этот диалог в «очищенном» от других, побочных реплик виде:
– Скушай же эту ножку.
– Так во рту и тает!
– Ну, да пирог!
– Какое вкусное крылышко!
– Ах! это головка.
– Смотри-ка, мне целая птичка попалась.
– Съешь вот эту ножку.
Завершается этот пикник слуг очень быстро репликой Ваньки: «Ну, брат Даша, да в пироге-то хоть сад сади. Чистехонько. Что это мы наделали?»
Однако поскольку оболочка пирога осталась после всей этой операции целой и невредимой, то у мошенников теплится еще надежда, что они по крайней мере оттянут свое наказание, предъявив пустой футляр от пирога.
Таким образом, чисто кулинарная часть пьесы целиком сосредоточена в трех первых явлениях, ибо она дает ход всему сюжету.
Здесь Крылов, как это ясно заметно, применяет локальное использование кулинарного антуража, концентрируя его сразу в одном месте, давая компактно и, по сути дела, изображая мини-пьесу в пьесе, ибо проделка слуг и сюжетно и сценически представляет собой совершенно самостоятельную, законченную сценку, которую можно смотреть и играть независимо от остальной пьесы.
И эта сценка имеет, естественно, свою идею и цель.
Крылов направляет свои стрелы сатирика против вторжения в русскую жизнь французских привычек, обычаев, правил, считая, что они неприемлемы для России, что они неизбежно дадут повод для распространения мошенничества, надувательства, – словом, для порчи народа и падения нравов. Эту мысль, как известно, Крылов проводит и в двух своих следующих комедиях: «Урок дочкам» и «Модная лавка». И если в «Пироге» эта мысль демонстрируется на примере как будто бы совсем безобидных кулинарных французских нововведений, то в следующих комедиях огонь направлен против французских мод и французского «воспитания».
Ведь Фекла и Лукерья – дочки дворянина Велькарова, принявшие лакея Семена за французского маркиза, – это своего рода девичий эквивалент фонвизинскому Митрофанушке – вот как трансформирует Крылов для условий России начала XIX века мольеровский сюжет. Но в комедиях 1806–1807 годов объектом насмешки служат недалекие провинциальные дворянчики, а в «Пироге» вопрос ставится о воздействии заграничных привычек на слуг, на дворню и ту чрезвычайно восприимчивую ко всему часть русского народа, у которой не только спина оказывается щекотливее, чем совесть, но и которая, коль скоро «лед сломан», рассуждает так:
Пирожок-то выпотрошен порядочно, и сердце слышит, что моей спине не миновать отеческих увещеваний. Однако что делать? Скорей, скорей поставим пирог, как будто ни в чем не бывало! А там что будет – то будет. Если б мне удалось его (своего барина. – В. П.) отселе выжить и вытурить назад в город, то б еще как-нибудь беду можно было поправить. Хоть бы уж та отрада, что я целый день небитый ходил, а к вечеру так и быть! Пусть поколотят. Крепче усну.
Отмечая цинизм Ваньки, Крылов вовсе не смеется над ним, он серьезно озабочен, что дай волю таким людям, они ни перед чем не остановятся, их никакая угроза наказания не сдержит.
Поломай в чем-то коренном народные, национальные устои, как в пироге, и русского человека можно будет так же легко выпотрошить, избавив от совести, от страха и опасений наказания, как и облеченный в декоративную оболочку, не связанную тесно с внутренней сущностью, пирог.
Таков, если так можно выразиться, подтекст, который комедиограф Крылов вкладывает в этот эпизод. В этой мысли есть немало верного и даже весьма созвучного нашему времени. Дело в том, что все бытовые обычаи, привычки, правила складываются у любого народа в соответствии с историческими особенностями развития страны, а отсюда, из укоренения привычек, и возникает определенная национальная психология. В России, где в силу длительности крепостных отношений раб всегда был антиподом господина и ждал, что называется, любого случая насолить ему или надуть его, в России, где благодаря обширным размерам страны, поместий, ресурсов и людских масс всегда существовала возможность бесконтрольного состояния, люди склонны были уклоняться от того или иного назначения, приказа, работы. Это тоже воспитывало психологию тайного (лишь отвернись!) нарушения всяких предписаний, в том числе и элементарных моральных. Отсюда необходимость строгости, проверки, контроля в сочетании с такими условиями, при которых и без контроля трудно было бы нарушить что-либо.
Для Крылова символом такой заведомой надежности, примером такого изделия, которое нельзя было бы нарушить, испортить незаметно, был русский национальный нерасторжимый дрожжевой пирог. Он был сконструирован с учетом русского характера. А вот пирог-шкатулка с оболочкой-крышкой, не связанной тесно с начинкой, противоречил и русским кулинарным, и русским нравственно-психологическим понятиям, традициям и прямо-таки провоцировал к его взлому. Ведь раз дело шло о шкатулке, наполненной разрозненными, отдельными предметами, то, следовательно, их частично можно было изъять так, чтобы пропажа не была бы сразу обнаружена или по крайней мере не была бы сильно ощутима. И такое изъятие, по русским народным (вернее, крестьянским) понятиям, не называлось «своровать», а считалось «взять то, что плохо лежит». Важно было лишь незаметно вскрыть такую шкатулку. И французский пирог позволял произвести эту операцию.
Крылов следовал намеченным Фонвизиным путем – использовать кулинарный антураж для усиления комизма ситуации и применять его по возможности слитно, компактно, локально, концентрируя в одном месте комедии, – так сказать, по направлению главного удара. «Пирог» в этом отношении совершенно аналогичен «Недорослю». Таким образом, главное, что отличает крыловский подход к кулинарному антуражу, это стремление рассматривать его как естественный, реалистический элемент, помогающий правдивее и четче отражать на сцене те или иные идеи или действительность. И именно эта линия станет в конце концов доминирующей в подходе к кулинарному антуражу в русской драматургии. Крылову чужд, в общем-то, взгляд на формальное, а тем более на символическое значение кулинарного антуража. Его реалистический и естественный подход шел, несомненно, от привычки его характера быть предельно конкретным и логически целеустремленным в своем творчестве. И именно эта черта привела Крылова к тому, что по-настоящему он нашел себя в жанре басни, и именно в его баснях умение сочетать конкретный факт с общей идеей было выражено Крыловым наиболее эффектным, блестящим, убедительным образом. Драматургическая деятельность Крылова, несомненно, все же значительно отличается от его творчества как баснописца, и поэтому интересно и полезно взглянуть, как выглядит кулинарный антураж в крыловских баснях. Есть ли там что-то новое или иное в подходе писателя?