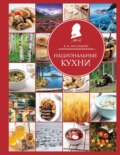Вильям Похлёбкин
Кушать подано! Репертуар кушаний и напитков в русской классической драматургии
В этих и во многих других областях художественной литературы русская классика, как известно, совершенно не работала. У нее была своя, «вечная» тема «путей развития России», и здесь она достигла значительных идейно-художественных высот.
К чему мы позволили себе это отступление? Не увело ли оно нас вообще от нашей кулинарно-театральной темы? Отнюдь нет. Оно позволяет нам теперь показать читателю, что не только третьестепенность позиций кулинарного антуража в русской классической драматургии, но и почти полное отсутствие в русской литературе XIX века кулинарного жанра, широко распространенного в литературах Западной Европы, не является случайностью для русской литературы. Вот почему она и не может помочь нам в том, чтобы дополнить существенно те «кулинарные» лакуны, которые вполне сознательно и закономерно допускала русская классическая драматургия XIX века.
В других странах, особенно в Западной Европе, такого положения не было. Там многие неизвестные в России жанры культивировались еще с XVI–XVII веков, а порой и ранее. В области эротики достаточно упомянуть Джованни Боккаччо и Бенавентуру Деперье, в области фантастики и гротеска – Франсуа Рабле, Томаса Мора и Эразма Роттердамского. То же самое наблюдалось и в области «кулинарной художественной литературы», где были свои классики: имена Жана Антельма Брийа-Саварена (1755–1826), автора «Физиологии вкуса», и Гримо де ля Рейньера (1758–1837), автора «Альманаха гурманов», произносятся и почитаются до сих пор не только во Франции, но и во всей Западной Европе с неменьшим пиететом, чем имена Расина и Мольера.
Одной из колыбелей кулинарной тематики, используемой для сценического обыгрывания, был народный театр, балаган эпохи Средневековья. Можно считать, что постоянное, ставшее вскоре традиционным «вытаскивание» кулинарных мотивов на западноевропейскую сцену произошло в XVI веке в итальянской комедии дель арте и в немецких фастнахшпилях в связи с осмеиванием таких человеческих пороков, как обжорство и прожорливость. (Эти два на первый взгляд довольно близких друг к другу «амплуа» на деле весьма различны психологически.)
Высмеивание и комедийное обыгрывание обжорства становится характерным мотивом на сцене и в драматургии германских народов и получает наибольшее развитие в Германии, в фастнахшпилях, в образе Гансвурста (Ганса Колбасы, или Ганса Колбасника), а также в английском народном театре, где достигает кульминации в образе Фальстафа.
Наоборот, в южноевропейском театре, в основном в итальянском театре эпохи Ренессанса, в комедии дель арте комический эффект, со значительной дозой столь характерного для католического Юга ханжества и назидательности, извлекается из несколько иного человеческого порока, или свойства, – алчности, демонстрируемой посредством прожорливости. Этим пороком наделяется первый Цзанни, то есть слуга-прохвост, интриган.
Если обжорство для своей демонстрации и доказательства порочности не требовало собственно никаких специальных кулинарных атрибутов или аксессуаров на сцене и превосходно обнаруживалось огромным брюхом Фальстафа, тройным подбородком и масляной рожей Гансвурста или гипертрофированной мощью зада и всей шарообразностью фигуры того или иного актера, выступающего в амплуа обжоры в иных национальных народных театрах, то для иллюстрации прожорливости оказалось совершенно необходимым вытащить на сцену собственно еду и питье, причем опять-таки в силу неизбежности в их реальном виде, а не бутафорию. Так, перед Цзанни ставилась гигантская миска спагетти и чуть ли не бочонок кьянти, которые он под одобрительные крики, хохот и улюлюканье толпы должен был поглотить на глазах у зрителей в считаные минуты, наперегонки со вторым Цзанни. Нередко подобные «комедии» заканчивались летальным исходом, но тем не менее неизменно продолжали пользоваться успехом и вызывали именно «комедийный эффект», традиционно рассматривались как комическая, а не трагическая ситуация. Это «комедийное направление» дожило, как известно, на Западе вплоть до наших дней и получило даже известный расцвет в американской кинематографии, где смех зрителей вызывается сценами дикого избиения и иных надругательств над тем или иным персонажем.
Для русского сознания, для русского искусства, и в том числе для русского народного театра, подобное направление было изначально чуждо. В силу целого ряда исторических причин в русском народном скоморошьем театре и в скоморошьих действах, приходящихся на ту же самую эпоху, что и фастнахшпили и комедия дель арте (XVI–XVII века), такие пороки, как обжорство и прожорливость, были абсолютно неактуальны в качестве объектов осмеяния и общественного осуждения. В России того времени существовали совершенно иные «язвы общества», на которые стоило обращать внимание и критика которых обеспечивала скоморохам народное сочувствие, а тем самым пропитание, поддержку и, если нужно, защиту и укрытие.
Вот почему даже самая примитивная народная комедия, самый примитивный народный театр – как кукольный (вертепный и петрушечный), так и актерский (скомороший) – главным объектом своих насмешек на протяжении веков делал социальные условия и бытующие распространенные социальные типы: ярыжку-городового, монаха и попа-расстригу, а также дурачка-петрушку – этот собирательный образ простого народа, третируемого всеми, но в конце концов находящего тот или иной остроумный способ отомстить своим недругам.
Социальная направленность, социальная заданность литературно-обличительного и театрально-комедийного (всегда сатирического!) искусства весьма рано стала основным направлением в русской общественной культуре и была, как мы видели выше, по существу, унаследована и той рафинированной дворянской классической литературой XIX века, которая, казалось бы, совершенно не была генетически связана с русским народным средневековьем.
Не прямая связь, а исторические обстоятельства диктовали эту преемственность, она формировалась условиями, в которых веками пребывало русское общество, а не тем или иным происхождением, воспитанием или образовательным уровнем художника, писателя, драматурга.
Вот почему абсолютно понятно, логично и естественно с исторической точки зрения, что кулинарная тематика, как нечто «неважное», «несущественное», «мелкое», «незначительное», оказалась генетически далекой, не присущей ни русскому народному искусству, в том числе народному театру, ни русской литературе, ни русской драматургии в целом. Они всегда старались заниматься большими, значительными, общественными, гражданскими, социальными вопросами – политикой. А если обобщить и сказать лаконичнее, то активную сознательную часть русского общества всегда интересовали вопросы чистые, высокие, идейные, а не низменные и мелкие, конкретные. И в этом была опять-таки виновата не особая «русская психология», а особая русская социально-экономическая и политическая история, особые русские исторические условия. Жизнь была тяжелой и несправедливой, а потому театр, как место общественное и высокое, должен был непременно как-то ее критиковать, чтобы приобрести народную (зрительскую) любовь, сочувствие и тем самым престиж и притягательность.
Такова была глубокая социально-экономическая первопричина отсутствия на русских народных ярмарочных театральных подмостках, а затем и на русской театральной сцене вообще какого-либо интереса к показу гастрономического, кулинарного действа. Русский зритель его бы не понял и не принял. Зачем? Что оно может сообщить ему? Даже для самого простого человека это воспринималось бы как нечто недостойное театра.
Во-первых, потому, что еда у русского народа испокон веков считалась делом святым, сугубо домашним, не прилюдным. А во-вторых, застолье было обыденно, знакомо, и в его показе никак и ни в чем нельзя было усмотреть что-то новое, значительное или сокровенное, поучительное, на что всегда рассчитывал русский человек при посещении театра.
Через средневековую комедию, следовательно, кухня, кулинарный антураж, гастрономическое действо не получили доступа на русскую театральную сцену исторически, по традиции. А через драму и другие высокие жанры театрального искусства мотивы стола, застолья, как слишком низменные, реальные, также не могли проникнуть на русскую сцену в XVIII веке по соображениям эстетическим и литературно-условным. Единственной лазейкой, остававшейся у кухни и гастрономии для проникновения в литературу и на сцену, была… поэзия и комедия. Но эта тропинка была слишком узенькой и капризной.
В русской поэзии XIX века был всего лишь один чисто «гастрономический» поэт – В.С. Филимонов (1787–1858). Если не считать А.С. Пушкина, который сам иронизировал над собой, что слишком часто упоминает «о разных кушаньях и пробках» в «Евгении Онегине», то отчасти «кулинарными стишками» грешили лишь такие поэты, как П.А. Вяземский и Е.А. Баратынский, а в советское время лишь один Эдуард Багрицкий. Иными словами – единицы. А это значит, что кулинарные темы были для всей русской словесности более чем второстепенны и что все то, что предпринималось драматургами в России с конца XVIII по начало XX века в области введения кулинарного антуража, следует рассматривать как создание именно этой эпохи.
Что же касается влияния русских театральных исторических традиций, то эту версию следует с самого начала исключить из рассмотрения, поскольку, как показано выше, в изначальном средневековом и народном русском театре таких традиций не существовало.
Однако остается открытым вопрос о том, как и когда все же появился в русском театре кулинарный антураж, возник ли он стихийно или был привлечен извне, из зарубежных образцов.
II
Было бы наивно полагать, что кулинарный антураж как некая случайность возник незаметно в русской драматургии и исподволь прижился на русской сцене, так что никому не может быть присвоена, так сказать, пальма первенства его введения, а потому не могут быть названы ни дата, ни конкретный автор подобного новшества.
Что касается даты, то, во-первых, до начала 40-х годов XVIII века вообще не могло быть и речи о появлении на театральной сцене в России каких-либо бытовизмов и тем более «кухонной» тематики; во-вторых, когда процесс создания русской бытовой комедии начался наконец в 40-х годах, он шел вплоть до 80-х годов настолько замедленно и противоречиво, что появления на сцене кулинарного антуража могло бы вовсе и не произойти еще пару-другую десятилетий, не возникни в 80-е годы в русской драматургии фигуры Д. И. Фонвизина.
Кулинарный антураж появляется в русской драматургии, по существу, лишь с Фонвизина, так что автор этого новшества может быть определен вполне точно.
Но почему все же вопрос о введении кулинарного антуража в русской драматургии был поставлен именно в 80-х годах XVIII столетия?
Тому можно указать несколько причин: исторических, литературных и чисто персональных.
Исторически русский театр имел, как известно, три совершенно не связанных друг с другом истока.
Во-первых, древнее народное скоморошье действо, известное уже с XI века и, как правило, с тех пор не подымавшееся из «низов»: временами гонимое церковью, третируемое властями, но спорадически вспыхивающее, переживающее периоды подъема и упадка, не умиравшее вплоть до XVIII века и преобразовавшееся позднее в народный балаган и петрушечный театр.
Вторым истоком был религиозный, церковный театр библейско-евангельских мистерий; фактически начиная уже с XIV и до середины XVII века рождественские и пасхальные «представления» включались в богослужебный обряд, исполнявшийся дважды в году, по крайней мере в таких крупных религиозных центрах тогдашней Руси, как Москва, Новгород, Владимир, Киев.
Наконец, третьим источником русского театра стал созданный в 1672 году царский придворный театр, образцом для которого в сценическом смысле служил западноевропейский театр; его репертуар постепенно эволюционировал от религиозно-нравоучительных пьес на библейско-евангельские темы до героико-исторических и мифологических трагедий и французских любовно-пасторальных и любовно-фривольных комедий.
Таковы были источники, предшествовавшие появлению русского национального гражданского, светского театра с профессиональными русскими актерами и с русским репертуаром в виде бытовой драмы и комедии на сюжеты из русской жизни.
Если народный театр – балаган – в качестве своего основного стиля исповедовал самый откровенный примитивный натурализм, где полновесный тумак или звонкая оплеуха расценивались как актерские достижения, отнюдь не ниже, чем меткое слово, то придворный и церковный театры, наоборот, стояли на диаметрально противоположных эстетических позициях, утверждая во всех своих трех жанрах прежде всего религиозную и придворную условность и искусственность.
Соединить эти разнородные начала было невозможно. И когда наконец придворный театр в XVIII веке вышел за рамки собственно дворца и столицы и превратился в домашний помещичий театр, а позднее и в городскую профессиональную сцену и стал действовать на основе не любительски-импровизированных, а литературно созданных пьес, то он и в силу своего происхождения и в силу чисто сословных причин пошел по линии развития все же условно-театрального стиля, который воспринимался в то время русской публикой как некий важный признак истинной театральности.
В государстве, социально-экономической и политической основой которого фактически с XIV века являлось рабство, было принципиально невозможно сделать какую-либо уступку, какой-либо шаг в сторону не только уравнивания или признания, но даже частичного восприятия ясных классовых отличий «холопского стиля», каким был подчас весьма грубый натурализм скоморошьего действа. Это было бы «подрывом основ» и царизма и господствующей церкви. Вот почему даже такие, с нашей современной точки зрения, вовсе далекие от политики и идеологии явления, как кулинарный антураж скоморошьих представлений, их грубые шутки над обжорством попов и бояр рассматривались все время, в том числе и в «просвещенном» XVIII веке, как явный признак крамолы.
Вот почему и помещичий домашний театр, будучи, хотя и деревенским, с крепостными деревенскими актерами, все равно строго блюл свою дворянскую чистоту, ревниво сохраняя от проникновений натурализма все узаконенные условности классицизма.
Тем самым не только тематика – религиозные, исторические, мифологические, героические и трагические сюжеты – служила препятствием для внедрения бытовизмов в виде кулинарного антуража в русский театр вплоть до конца XVIII века, но и идейно-принципиальные установки, классовые различия народного и господского театров, проявляемые в различиях их стилей – натурализма и условности, – создавали серьезный и почти непреодолимый барьер для взаимодействия трех источников русского театра и потому затрудняли процесс создания русской национальной бытовой драмы и комедии, которого тем не менее настоятельно требовала сама жизнь. Ибо разрыв между театром, его «жизнью» и реальной действительностью последней четверти XVIII века кричаще проявился в России.
После Пугачевского восстания, столь убедительно обнаружившего непрочность и эфемерность «золотого века» Екатерины, особенно быстро поблекла та черта дворянского театра, которая считалась до тех пор главной и чуть ли не единственной – его «развлекательность», его «театральность», декоративность, помпезность. Все это вмиг пожухло, показалось ходульным, наивным на фоне суровой реальности Пугачевского восстания. Необходимо было вернуть театру его притягательность, теснее связав его с реальной жизнью.
Но сделать это в условиях XVIII века было далеко не так-то просто. Неясны были пути. И вовсе не таким простым оказался даже вопрос о механическом введении в театральные постановки кое-каких жизненных бытовизмов, приближающих сцену к реальной жизни. Причем как раз последним в ряду бытовизмов, а вовсе не первым, как можно сейчас подумать, был кулинарный антураж, о котором почти все драматурги XVIII века прочно забывали.
Если учесть, что сам по себе репертуар русского театра XVIII столетия был иностранным или полуиностранным, то есть представлял собой полуперевод-полупереработку иностранных пьес, что сами ситуации драматургических произведений были далеки от русской действительности и что, наконец, сами авторы оригинальных русских пьес были людьми, принадлежащими чаще всего к высшему кругу (достаточно назвать саму Екатерину II, княгиню Е.Р. Дашкову, генерал-майора И. Болтина, директора Московского университета М.М. Хераскова, князя А.А. Шаховского), то станет вполне понятно, что в их высокопарных произведениях никакой «кухни», никакого кулинарного антуража просто не могло появиться уже в силу того, что эти авторы просто психологически не могли снизойти до столь низких материй. Такие корифеи тогдашней драматургии, как А.П. Сумароков, Н.И. Хмельницкий, В.А. Озеров, А.О. Аблесимов, А.А. Шаховской, не допускали кулинарный антураж не только в драму и трагедию, но и пренебрегали им также в комедиях и водевилях.
Дело в том, что, согласно театрально-условной традиции, стрелы театральной сатиры и насмешки могли направляться лишь на подьячих и щеголей (на последних – независимо от сословия), и эта социально-профессиональная заданность и заостренность практически исключала необходимость для драматурга обращаться ко всему тому, что не работало на «схему насмешки» над щеголем или подьячим, то есть ко всему тому, что не касалось внешнего вида указанных персонажей (одежды, обуви, прически, манер, особенностей языка и поведения).
Следовательно, еде, питью, пищевой и кулинарной лексике в таких произведениях не было места.
Типичными названиями даже так называемых русских жанровых пьес «русских драматургов» середины – третьей четверти XVIII века были: «Чудаки», «Хвастун», «Ненавистник», «Безбожник», «Лихоимец», «Мот, любовью исправленный», «Пустомеля», «Наказанная ветреность». В них ясно и совершенно прямолинейно выставлено одно какое-либо человеческое качество, которое демонстрировалось, осмеивалось, осуждалось и наказывалось. В этом, собственно, и состояло все содержание театрального действа. Качества эти могли, конечно, приписываться в русской аудитории русским (например, лихоимец, пустомеля), но, в сущности, были вовсе не национальными, а общечеловеческими, в силу чего на подобной тематике подлинно русская национальная бытовая комедия не могла возникнуть и получить развитие. Попытки «русифицировать» общечеловеческие, нравственно-заостренные драматургические произведения путем переименования места действия (вместо Парижа – Петербург, вместо Лиона – Москва) и действующих лиц (замена Клодины на Агафью и Тимандра на Евграфа), разумеется, были настолько наивны и беспомощны, что не могли внести никакого существенного оживления, придать национальный характер русской драматургии, и их авторы – эти пионеры русификации русской драмы – оказались забыты даже в истории театра, а не только в его репертуаре. Не могло внести существенных перемен в дело создания русской бытовой комедии и решительное изменение самой лексики действующих лиц и подчас весьма смелое введение в нее не только простонародных, но и площадных, далеких от литературного языка той эпохи слов и выражений.
Так, например, в ряде пьес 70-х годов XVIII века девушки или молодые женщины зачастую обмениваются без всякого стеснения чисто мужицкой бранью. Такие слова, как «подляшка», «мерзавец», «бестия», «глистерка», «страмец», «урод», «скотина», «скот», «свинья», «сука», «дурак», или выражения типа «я обчерню твою харю» поминутно слетают с алых девичьих уст в большинстве водевилей конца XVIII века. Однако и это обстоятельство никоим образом не способно было снять ходульность, «иностранность», условность всей постановки и сюжета и потому не в состоянии было придать комедии национально-русский характер в целом. Не способствовало оно и усилению «народности» театра, ибо никоим образом не было шагом по направлению к народу: ведь вся эта ругань была вполне обычной речью в устах деревенских бар по отношению к своей дворне и употреблялась как раз не крепостными крестьянами, не имевшими права и рта раскрыть, а их законными и полновластными господами. Так что тут никакой уступки «народному натурализму» не происходило. Этот «натурализм» был весьма и весьма дворянским.
В 70-х и особенно в 80-х годах названия пьес (комедий и комических опер) начинают отражать профессию своего основного героя и тем самым как бы маскируют прямолинейную связь характера пьесы со свойствами ее главного персонажа, благодаря чему потенциальный зритель избавляется от слишком навязчивой морализации. На смену таким распространенным названиям, как «Плут» или «Мот», появляются «Мельник», «Щепетильник», «Купецкая компания», «Судейские именины», «Кофейница», «Сбитенщик». Основной темой в этих «профессиональных» пьесах продолжают служить те социально-общественные явления, которые, может быть, резче, нагляднее или, во всяком случае, заметнее проявляются, естественно, у лиц общественных профессий: мельников, приказчиков галантерейных лавок, гадалок, рыночных торговцев, купцов, подьячих. Кстати, именно торгашество, бессовестность, жажда наживы и мошенничество, то есть опять-таки общечеловеческие пороки, продолжают оставаться главной темой показа и осмеяния (или иронического восхищения?!) и в этих «профессиональных» пьесах, даже когда они имеют кулинарные названия.
Так, главной темой «Сбитенщика» оказывалась его явно навеянная «Севильским цирюльником» философия торгашества:
«Все на свете можно
Покупать,
Продавать! Только должно
Осторожно
Поступать…
Люди всем торгуют,
Да и в ус не дуют…»
Для последних лет «золотого века» Екатерины II, периода, когда «повреждение нравов» захватило не только дворянство, но и простой городской люд – особенно мелких торговцев, мещан, дворовых, – такая философия уже могла быть в известной степени актуальной. Но в целом она все же не вписывалась в русские патриархальные условия, выглядела слишком уж «французской» и по-настоящему может быть оценена как реальная лишь в наши дни… 200 лет спустя.
Как видно, наши литературные, или, точнее, окололитературные, круги (переводчики, перелицовщики иностранного литературного материала) всегда отрывались от русской действительности, всегда довольно бездумно подражали и заимствовали свои «идеи», «свое оружие» за границей и, вполне понятно, попадали в искусственное, глупое положение, не могли ни найти общий язык с русским зрителем, ни быть выразителями русских условий в отечественной литературе и на русской сцене.
Еще одной попыткой найти «русский путь» к русскому зрителю, внести русский бытовой элемент на русскую сцену было создание пьес и комических опер на тему свадебного торжества.
Так были созданы «Свадьба Промоталова» (неизвестный Л.Т., 1788) и «Свадьба Болдырева» (В.А. Левшин, 1794), открывшие собой длинный список популярных в русской драматургии «свадебных» произведений – «Женитьба» (Н.В. Гоголь), «Свадьба Кречинского» (А.В. Сухово-Кобылин), «Женитьба Бальзаминова» и «Женитьба Белугина» (А.Н. Островский), «Свадьба» (А.П. Чехов).
И хотя в создании первых театральных «свадеб» и «женитьб» принимал участие такой известный русский кулинар, как В. А. Левшин, но не ему принадлежит пальма первенства введения в русскую драматургию кулинарного антуража.
Честь эта досталась Д.И. Фонвизину. Именно Фонвизин сделал кулинарный антураж одним из признаков русской бытовой комедии и тем самым определил ее канонический стиль и «параметры».
Однако, если подходить строго хронологически, то до Фонвизина, по крайней мере, два русских драматурга – В.И. Лукин и А.О. Аблесимов – вполне сознательно обращаются к жанру русской бытовой комедии. Но им не удается совершить «переворот», несмотря на сознательное стремление к этому. Так, Лукин лишь механически переделывал, перелицовывал французские комедии «на русские нравы», идя по пути чисто технической русификации (замена имен, городов, фамилий, одежды, названий должностей и специальностей и т. п.). Но ему, однако, так и не пришло в голову ввести в русскую бытовую комедию русский кулинарный антураж. Что же касается Аблесимова, то он пошел дальше и глубже Лукина, пытаясь давать своим пьесам и более бытовые названия и создавая их на бытовые сюжеты. Одна из таких пьес – «Подьяческая пирушка» – дает основание думать, что в ней, несомненно, присутствовал кулинарный антураж, однако утверждать это вполне определенно невозможно, ибо текста этой пьесы не сохранилось, а из имеющихся на нее отзывов современников трудно судить о ее конкретном содержании и репликах персонажей.
Скорее всего, и у Аблесимова мы не нашли бы кулинарного антуража в полной мере, несмотря на почти кулинарное название его пьесы. На такой вывод наталкивает наблюдение за творчеством всех русских драматургов XVIII века, оказавшихся чрезвычайно единодушными в своем слишком робком отношении к включению кулинарного антуража в качестве «играющего» элемента драматургии. Кстати, в этом отношении чрезвычайно показателен пример И. А. Крылова, писавшего немало пьес в 1784–1790 годах, но обратившегося к кулинарному антуражу лишь в пьесах, написанных в 1799–1801 годах, уже после смерти Фонвизина.
Какие же объективные обстоятельства препятствовали введению кулинарного антуража в русские пьесы и в русский театр, хотя это, казалось бы, было естественным и само собой напрашивающимся делом? И были ли тому объективные причины? Да, они существовали, и одну из них – идейную и сословную – мы уже назвали выше. Кроме того, были и причины, так сказать, технические. Сама по себе практика перевода и переделки французского драматургического материала для русской сцены не способствовала появлению в русских пьесах или в либретто комических опер, в водевилях кулинарного антуража. Во-первых, этому препятствовала непереводимость французского кулинарного жаргона не только на русский, но и на все другие языки вследствие его профессионального своеобразия (во всех странах повара и рестораны в своих меню сохраняют обычно названия французских блюд в оригинале). Во-вторых, глубочайшие национальные различия между французской и русской кухнями не позволяли при переводе подыскивать русские кулинарные эквиваленты, в то время как во всех иных областях – одежде, прозвищах, ругани – эти эквиваленты находились весьма легко. В результате даже тот кулинарный антураж, который был представлен во французском оригинале, при переделке и переводе пьесы обычно отбрасывался как балласт.
Исключение составляли лишь напитки: вино и кофе. Именно эти кулинарные изделия первыми появились на русской сцене, но проникли они все же на сцену не через текст пьес, а как бутафория (бутылки, бокалы, подносы).
Таким образом, все указанные попытки механически «русифицировать» переводные или сработанные по иностранным образцам бытовые комедии все равно не превращали эти пьесы в русские, а тем более – народные, не устраняли их ходульности как основного признака и недостатка.
Ощущая инстинктивно потребности меняющегося к концу XVIII века русского дворянского общества в том, чтобы театральное искусство было адекватно своему времени и рассталось с архаикой, русские комедиографы в то же время не могли стать «пролагателями новых путей» или выразителями новых общественно-культурных тенденций, ибо они были, скорее, ремесленниками-переводчиками, а не творцами и не обладали ни широким политическим кругозором, ни ясным осознанием истинных нужд господствующего класса.
По самой своей общественной сущности комедиографы считались людьми, коим испокон веков вменялось в обязанность потрафлять вкусам двора, аристократии, а следовательно, уметь угождать хозяину, развлекать угождая. Поэтому все те, кто работал над созданием русской бытовой комедии, сами ощущали себя людьми подневольными, зависимыми и к тому же связанными по рукам и ногам литературно-театральными профессиональными канонами. Вот почему из профессиональных театральных кругов, особенно из среды ремесленных театральных писателей, конечно, не могло выйти крупных культурных деятелей, способных сказать новое слово и верно наметить новый путь в развитии театра.
Между тем именно в театре только и могло быть в то время осуществлено практически общественно-культурное обновление. Дело в том, что в XVIII веке, когда печать в России находилась в зародышевом состоянии, ее место занимал в известной мере театр – единственное публичное собрание, где существовала реальная возможность не только одновременной встречи разных сословий, но одновременное выражение своего мнения (своих симпатий и антипатий) по поводу одного и того же явления, хотя бы свистом, шиканьем, аплодисментами или хохотом.
В театре же резче, нагляднее, зримее, выпуклее проявлялся и контраст между реальной жизнью и принятыми сценическими условностями.
Так, нерусский характер театральных постановок, сохраняемый десятилетиями, не только набивал оскомину зрителю, но и приводил к тому, что именно в театре 70–80-х годов отчетливо стало проявляться основное противоречие русского общества – противоречие между словом и делом, между реальной действительностью и условностями общественной жизни. И поскольку речь шла, по крайней мере формально, лишь о театральной условности, то отрицательное отношение к ней резче и откровеннее могло быть выражено как раз в театре и специфически по-театральному.
Таким образом, к 80-м годам XVIII века назрела потребность дать со сцены такой ответ на подспудно существовавшее общественное недовольство, который бы, с одной стороны, явился полноценным эмоциональным громоотводом, а с другой стороны, не затрагивал бы своей критической остротой политические и социальные принципы, не подрывал бы ни стрелами своей сатиры, ни ядом своей насмешки доверие и уважение зрителя к господствующим классам в целом и к самодержавию в особенности.
Для подобной тонкой работы необходим был незаурядный талант, причем не только литературный, но и наряду с ним, разумеется, не меньший политический, а также умение выбрать такой тактический ракурс, где осмеяние недостатков и пороков общества воспринималось бы не как осуждение этого общества или его основного сословия – дворянства, ответственного за всю его организацию и структуру, а как стыд руководителей дворянства за отдельных его недостойных представителей.
Конечно, никто из всей многочисленной плеяды профессиональных литераторов, драматургов и комедиографов второй половины XVIII века не мог даже додуматься до выполнения такой незаурядной, общественно значимой работы, а не только взяться за нее. Все они были слишком проникнуты придворным и сословным конформизмом и не могли вырваться из шкуры «ливрейных деятелей», из своего амплуа «обслуги» по причинам своей политической и общественной ограниченности. Они привыкли работать на театр, а речь шла о том, чтобы работать на общественное развитие России. Но на это тогдашняя профессиональная литературная братия не была способна. Как весьма едко и точно подметил М.Е. Салтыков-Щедрин, ровно через 100 лет после 80-х годов XVIII века «публичность наша (русская общественная жизнь. – В. П.) чересчур скудна. Вся она сосредоточивается в печати, а печать всецело эксплуатируется Подхалимовыми и Скомороховыми».