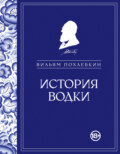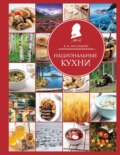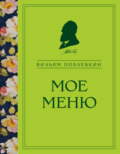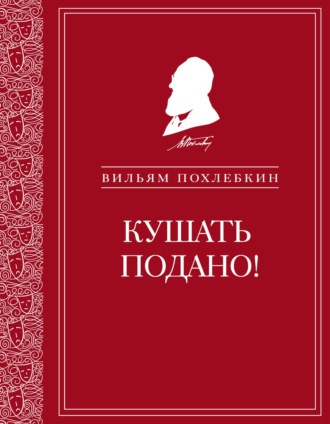
Вильям Похлёбкин
Кушать подано! Репертуар кушаний и напитков в русской классической драматургии
«Вечеринка ученых»
Волгин (смотря на часы). Сестра, третий час; что, по-вашему, ученому-то, в котором часу обедают?
Радугина. Теперь еще рано.
Волгин. Да мы с Людмиловым люди деревенские, по-нашему так пора бы уж из-за стола.
Радугина. Всего лучше, не угодно ли вам, любезные мои гости, в залу; там приготовлен завтрак.
Волгин (Болеславскому). Пойдем-ка, брат, да закусим чего-нибудь.
Радугина (прочим). Прошу покорно, господа… Все уходят.
«Урок матушкам»
Зорин…Заверните когда-нибудь! Я до двенадцати часов всегда дома.
Холмин. С большим удовольствием!
Зорин. Прошу покорно! Часик, другой побеседуем. Закусим чем Бог послал, а там отведаем донского, выпьем рюмочку мадеры…
Холмин. Я очень скоро буду иметь это удовольствие.
Зорин. Итак, до свидания!.. Честь имею кланяться!
«Богатонов в деревне, или Сюрприз самому себе»
Прохорыч. Прикажете, сударь, сбирать к столу?
Богатонов. А что, пора уж, я думаю? Вели накрывать; да закусить бы нам чего-нибудь.
Прохорыч. Закуска приготовлена в гостиной.
Богатонов. Так пойдемте-ка, милости прошу!
Приличия запрещали разом, «с ходу» пригласить к столу людей уважаемых и солидных: нужна была знаменитая русская «раскачка», «подходы» и т. п. В то же время там, где персонаж не был достоин уважения, можно было и вполне фамильярно пригласить его сразу, отделавшись одной-двумя репликами.
У Загоскина в этом отношении тон выдерживается настолько классически, что можно вполне утверждать: он смотрел на театр не только как на отражение жизни, но и как на законодателя мод поведения. Драматургическое произведение было, по его убеждению, средством давать своего рода образцы поведения, а не только развлечением. Поэтому реплики в его пьесах, их лексикон исторически документальны. Они имеют ясно выраженную сословную окраску. Вот как выглядят они в, так сказать, сводном виде, в «сословном исполнении».
ЛЕКСИКОН ГОСПОД
– Пойдемте, сударь.
– Не угодно ли вам, любезные гости, в залу: там приготовлен завтрак.
– Пойдем, брат, закусим.
– Прошу покорно, господа!
– Закусим чем Бог послал.
– Пойдемте, господа, милости прошу!
– Не хотели бы вы позавтракать?
– Пойдем-ка да позавтракаем.
– Кушанье уже подано.
ЛЕКСИКОН СЛУГ
– Барыня приказала вас звать кушать.
– Изволили сесть за стол.
– Прикажете, сударь, сбирать к столу?
Итак, основное слово, обращенное к равному (дворянину, гостю), вовсе не церемонно: «Пойдемте». С разными акцентами, с прибавлением других, «окрашивающих»: «брат», «сударь», «господа», «милости прошу» и т. д. Но в основе все же лежит ясный хозяйский императив. Только в торжественных случаях и в отношении чужих, незнакомых людей или большой массы гостей глагол «пойдемте» и вообще иной глагол просто опускается – приглашение заменяется информацией: «там приготовлен завтрак»; «кушанье уже подано».
Что же касается языка слуг, то тут ключевое слово в приглашении – «приказал», «приказала», «прикажете». Информация не передается – «кушанье готово», – а лишь повторяется приказ, распоряжение от имени барина, барыни или испрашивается у них на сей счет приказание.
Таким образом, появление реплики «Кушать подано!» во второй половине 40-х годов было своего рода «прорывом демократии» на театральные подмостки, ибо эта реплика целиком перешла к слугам. Иными словами, им разрешили передавать не просто приказание господина, но и «безличную информацию». Это говорит о том, что к середине XIX века в крепостном обществе шли подспудные социальные процессы, слабое отражение которых выявлялось даже в изменениях отношения к сложившейся до 20-х годов лексике. И этот пример постепенной, еле заметной, косвенной демократизации весьма характерен и актуален для специфики русских условий.
Что же касается формы подачи кулинарного антуража, то Загоскин, следуя традиции Фонвизина и Крылова, старается давать его слитным, большим куском, локализуя полностью в одном месте пьесы. Такие «кулинарные» вставки иногда образуют диалоги в два десятка реплик, причем даже в одноактных пьесах, «съедая» в них довольно много места, поскольку никогда не играют какой-либо роли для развития интриги и остаются своего рода развлекательными «кулинарными» инкрустациями. Почти всегда они имеют у Загоскина комический эффект.
Как пример больших «кулинарных» вставок можно привести разговор Богатонова с Филутони в комедии «Богатонов, или Провинциал в столице» и разговор Изборского с трактирщиком в комедии «Роман на большой дороге».
Филутони…Што, месье Покатон тафольна пила вшерашни опед?
Богатонов. Очень доволен! Ты хватски нас отпотчевал.
Филутони. Мой приниос непольши сшот.
Богатонов. Давай сюда. (Берет.) Да это никак писано по-французски? <…> Да что тут написано?
Филутони. Тшена кушаньи.
Богатонов. Цена кушаньям! Читай-ка сам, я послушаю.
Филутони (читает). Перьви антре: суп а ля тортю…
Богатонов. То есть суп; знаю, знаю!
Филутони. <…> Пети паше бивстекс котелет отруфль…
Богатонов. Да, да, котлеты! Читай, читай, я все понимаю.
Филутони. <…> Соте де желинот, пулярд, фрикасе а ля мод…
Богатонов. Сиречь модные фрикасе, не так ли?
Филутони. Тошно так!
Богатонов. Мы таки, брат, кой-что разумеем!
Филутони. Во фарси…
Богатонов. Полно читать-то; скажи-ка лучше разом, что весь стол стоит?
Филутони. Фесь? Сейшас. Фи изфолил кушать шесть персон… триста рупли. <…> Вина исфолил на сто фосемьдесят три; ликер на пять с полофиной рупль; тоталь: шетыреста фосемьдесят фосемь рупль атна бульдин.
Богатонов. Четыреста восемьдесят восемь рублей с полтиною. (В сторону.) Разбойник, как он дерет! А торговаться будто совестно – он не русский.
Трактирщик. Милостивый государь! не угодно ли вам чего-нибудь покушать?!
Изборский. А что у тебя есть, мой друг?
Трактирщик. Что прикажете: котлеты с горохом, телятина, бифштекс…
Изборский. И бифштекс! да нет, я не хочу есть… А что стоит у тебя обед?
Трактирщик. Пять рублей, сударь.
Изборский. Только! А ужин?
Трактирщик. Два с полтиной.
Изборский. Так давай мне ужинать!
Трактирщик. Помилуйте! как – ужинать?
Изборский. Да, ужинать, – я уже обедал. <…>
Трактирщик. Слушаю, сударь! (В сторону.) Что это за чудак!
Изборский. Да, кстати, подай мне чего-нибудь напиться.
Трактирщик. Не прикажете ли бутылку вина?
Изборский. Уж и вина! Да какого? Есть ли у тебя марго?
Трактирщик. Есть, сударь.
Изборский. А лафит?
Трактирщик. Самый лучший; только что из Петербурга.
Изборский. Неужели?
Трактирщик. Прикажете чего-нибудь?
Изборский. Да, мой друг, подай мне – стакан воды.
Трактирщик. С вином?
Изборский. Нет, нет! свежей ключевой воды: я не люблю никакой смеси.
Комический эффект в первом случае достигается не столько «кулинарными» средствами (ибо названия блюд играют лишь косвенную роль), а макароническим и ломаным русским языком Филутони и, главное, – неосведомленностью во французском языке Богатонова и фантастически завышенной ценой кушаний – именно поэтому Загоскин приводит не выдуманные, а вполне известные, ресторанные блюда того времени. Таким образом, здесь кулинарный антураж – удобный повод для драматурга продемонстрировать невежество Богатонова.
Во втором случае кулинарная тема служит лишь предлогом продемонстрировать… денежные затруднения Изборского наиболее понятным зрителю путем. Публика, в отличие от трактирщика, осведомлена, что у Изборского нет денег. Поэтому весь затеянный им разговор с хозяином трактира – абсолютно пустой, ибо блестящий петербургский офицер не в состоянии заказать себе ничего, кроме… бесплатного стакана воды и лишь блефует перед трактирщиком. Таким образом, и тут кулинарный антураж работает у Загоскина лишь косвенно, как предлог, а не сам по себе и в обоих случаях комический эффект вызывает не состав блюд, не их кулинарное действие (как у Фонвизина или Крылова), а денежные обстоятельства – завышение цены или нехватка денег.
Только в «Вечеринке ученых» комизм построен на «кулинарной» основе. Но его чисто театральный эффект упрощеннее и грубее, чем в двух вышеприведенных случаях. Дело в том, что «ученые» прихлебатели богатой меценатки Радугиной, мнящей себя писательницей, готовы лебезить и пресмыкаться перед ней ради обеда. Вводимый автором «кулинарный» разговор Радугиной с одним из ее клевретов Сластилкиным ясно это выявляет. Если же посмотреть глубже, то кулинарный антураж представляет собой не просто вставку, а служит для развития, упрочения и доказательства главной идеи комедии.
Радугина (обращаясь ко всем гостям). Пойдемте теперь обедать! (Сластилкину.) Господин Сластилкин, если бы вместо обеда вы пошли ко мне в кабинет окончить ваш отрывок?
Сластилкин. Вместо обеда? О! Боже сохрани! Да я и двух слов не напишу на тощий желудок!
Радугина. По крайней мере тотчас же после обеда!
Сластилкин. Не беспокойтесь! Лишь только из-за стола – то и за перо!
Одна из характерных черт драматургии Загоскина состоит в том, что кулинарный антураж не служит сигналом, намеком или символом развивающихся в пьесах событий – словом, не выполняет как раз той формальной роли, которая стала ему присуща позднее, в драматургии конца XIX века, и которая превратила его целиком в драматургический инструмент. У Загоскина же кулинарный антураж – та неотъемлемая часть жизни, которая продолжает естественно бытовать на сцене.
Вот почему у Загоскина есть произведения, сильно насыщенные кулинарным антуражем, вроде пьес из жизни Богатонова (в столице и в деревне), и наоборот, существуют пьесы, где кулинарный антураж начисто отсутствует, поскольку тема, материал этих комедий вовсе не предрасполагают к его присутствию. Таковы, например, «Комедия против комедии», «Деревенский философ» и «Добрый малый», где нет ни слова о еде или блюдах.
Таким образом, не играя архитектонически никакой роли, кулинарный антураж у Загоскина передает нам зато саму жизнь, с ее историческими, социальными и бытовыми подробностями и особенностями. И это именно ценно в пьесах Загоскина, если мы хотим увидеть в них не только драматическую ситуацию, но и эпоху.
Можно сказать, что кулинарный антураж Загоскина является для нас ныне своеобразным источником по истории «кулинарных» нравов и даже источником сведений по «кулинарной» и вообще по «пищевой» истории, которая, как известно, обычно никем не фиксируется, кроме поваренных книг.
Так, например, пьесы Загоскина довольно точно показывают смену вытей на рубеже первого и второго десятилетий XIX века, когда русский порядок еды с его шестью вытями (перехватка, полдник, обед, паобед, ужин, паужин) стал в городской дворянской среде заменяться европейским временем еды (завтрак, второй завтрак, обед, чай, ужин) и даже в кругах высшей знати – дипломатическими вытями (после 1815 г.), где завтраком обозначался прием пищи в 13–14, а обедом – в 19–20 часов.
В комедиях Загоскина мы находим неоднократное указание на модное для конца 10-х – начала 20-х годов XIX века введение в русский обиход особого закусочного (холодного) стола, предваряющего обед на час-полтора, а то и более и накрываемого не в обеденной зале, а в гостиной.
Не менее интересны и ценны для историка кухни и многочисленные конкретные (как серьезные, так и шуточные!) указания Загоскина на отдельные блюда и напитки, бытовавшие в 1817–1827 годы, в то время, на которое приходится действие его основных пьес. Диапазон этих конкретных наименований достаточно широк: здесь блюда французской кухни, блюда русской помещичьей кухни, культивировавшиеся в деревне и среди московского дворянства, и, наконец, блюда простонародные, становящиеся синонимом «расейщины», отсталости, «квасного патриотизма».
Если вышеперечисленные сведения о главных кулинарных событиях эпохи после наполеоновских войн мы можем почерпнуть в тогдашних кулинарных книгах и в записках путешественников по России, то некоторые совсем мелкие кулинарные детали, ускользнувшие от внимания специалистов, мы можем узнать только из комедий Загоскина.
Так, например, из «Вечеринки ученых» мы узнаем, что одной из первых, а возможно, самой первой заменой прохладительных напитков русского типа (квас, брусничная вода, березовый сок, сыта, ключевая вода) напитками десертными, подаваемыми за господским столом, была простая вода, подслащенная сахаром и даже ничем не подкрашенная. Эта подслащенная сахаром вода считалась очень престижным напитком. У Загоскина мы узнаем также и о большой редкости и ценности сахара в помещичьей среде в начале 20-х годов. Хранился он не в кладовой и не на кухне в буфете, а у барыни, в ее апартаментах, в особом ящичке стола, ключи от которого были у самой хозяйки или у ее доверенной горничной, ведавшей выдачей сахара.
Не менее интересно и такое мимолетное указание на престижную роль чая в 20-х годах в бедных дворянских семьях, что можно усмотреть из угрозы родителя нашалившим детям: «Так быть тебе без чаю!»
Это указывает также на относительную редкость и притягательность чая для детей, для которых, по-видимому, он был предлогом для получения сластей.
В лексике, относящейся к кулинарному антуражу, у Загоскина «участвуют» не только собственно наименования блюд, но и вся терминология, отражающая «кулинарный» интерьер, что крайне важно для декораторов. Так, Загоскин отмечает в своих ремарках обеденный зал, трактир, гостиную (где пьют кофе и чай), столовую, а также выти – обед и особенно любимый им завтрак – как утренний, так и второй, которым писатель, как говорят, часто и ограничивал свою суточную трапезу, редко прибегая к позднему обеду или уходя до него из гостей под разными предлогами.
Вообще-то, систематическое внимание, которое уделяет кулинарному антуражу сам драматург во всем своем творчестве, служит как бы иллюстрацией к его собственному любимому высказыванию: «Фразы и всякие громкие слова имеют свою цену лишь после сытного обеда и рюмки шампанского, а на тощий желудок – никуда не годятся!»
Эта непритязательная и очевидная для всех сентенция, как ни странно, особенно актуально звучит в наши дни.
Ниже мы приводим два списка блюд, упоминаемых в пьесах Загоскина, отдельно по русской и по французской кухне, которые мы снабжаем кратким кулинарным комментарием, необходимым для современного читателя.
ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ
• Суп а ля тортю («черепаший» суп, приготавливаемый из… телятины)
• Пети паше бифштекс (рубленый бифштекс из говядины)
• Котелет о труфль (котлеты из трюфелей, подземных грибов)
• Соте де желинот (вид рагу из куропаток, где птица разделана по естественным частям – «жиликам»: отдельно грудки, ножки, крылышки)
• Фрикассе а ля мод (блюдо из молодого, нежного мяса теленка, барашка или цыплят, приготавливаемое кусочками с косточками: для барашка и телятины идет грудинка, а цыплята разделываются на четыре части; обжаривается в масле, затем тушится в котелке, после чего доводится до готовности в густом соусе)
• Пулярд (пулярка, либо курица, либо каплун особой выкормки, с мягким, быстроварким мясом; подается всегда жареной целиком)
• Во фарси (фаршированная телятина; фаршируется обычно составным фаршем: грибами, луком, морковью, рисом, яйцами; подается под соусом)
• Вафли (могли иметь сливочную, шоколадную, пралиновую и ореховую начинки, но не фруктовую)
РУССКАЯ ПОМЕЩИЧЬЯ КУХНЯ НАЧАЛА XIX ВЕКА
• Телятина (запеченная в тесте)
• Котлеты под соусом (мясной подливкой)
• Котлеты с горохом
• Шесть холодных блюд (без названия). Имеются в виду закуски: студни, заливные
• Двенадцать соусов (без названия). Под «соусом» в помещичьем быту XVIII–XIX веков подразумевали тушеные мясные блюда из говядины, телятины, свинины и баранины с большим количеством тушеных овощей
• Молочная каша
• Огурцы соленые
• Сахар
СВОДНЫЙ СПИСОК КУШАНИЙ И НАПИТКОВ, УПОМИНАЕМЫХ В ПЬЕСАХ М. Н. ЗАГОСКИНА
КУШАНЬЯ
Блюда
• Бифштекс
• Бифштекс рубленый
• Котлеты с горохом
• Котлеты под соусом
• Котлеты мясные с трюфелями
• Куропатки, соте
• Пулярка жареная
• Суп «черепаший»
• Телятина фрикассе
• Телятина запеченная
• Телятина фаршированная
• Каша молочная
• Соленые огурцы
Сласти
• Вафли
• Сахар
НАПИТКИ
Безалкогольные
• • Вода ключевая
Вода с сахаром
• Кислые щи (особый вид крепкого кваса)
Алкогольные
• Водка
• Малага
• Мадера
• Настойка
• Шато-Лафит
• Шато-Марго
• Донское
• Шампанское
• Пиво
Из этого можно сделать совершенно однозначный вывод: М. Н. Загоскин любил блюда из молодого мяса (телятина во всех видах, пулярка, цыплята), а также нежную дичь (соте из куропаток). Остальную пищу он также предпочитал мягкую, нежную: суп из телятины, молочную кашу. Это говорит о том, что у него не все было в порядке либо с желудком, либо с зубами. Алкогольные напитки также выявляют пристрастие к сладким, ароматным бордоским, игристым и десертным винам.
А. С. Грибоедов
1795–1829
Всем известно, что «Горе от ума» – одно из величайших произведений русской драматургии. Но особенно поражает оно на фоне остального творчества А.С. Грибоедова. Как мог человек, написавший такие бледные и поверхностные комедии чисто водевильного плана, как «Студент» (1817, совместно с П.А. Катениным) или «Кто брат, кто сестра» (1816), подняться до такого яркого и общественно значимого произведения, как «Горе от ума»? Это до сих пор для многих кажется загадкой.
Ответом на этот вопрос служат, с одной стороны, обстоятельства самой жизни и деятельности Грибоедова, крутая перемена в его судьбе и карьере после 1817 года, упорная литературная работа в условиях относительной изоляции от светской петербургской «испепеляющей» жизни и от России в целом (в Грузии и Персии), а с другой стороны, особенности самой личности Грибоедова, его психологическое многообразие.
Еще А.С. Пушкин весьма метко указал на то, что «можно дружно жить» «и с книгой и с бокалом», что «ум высокий можно скрыть безумной шалости под легким покрывалом». Именно такой стиль поведения был чрезвычайно характерен для тогдашней образованной дворянской элиты, к которой принадлежал А.С. Грибоедов, декабристы и сам А.С. Пушкин. Однако Грибоедов, как он сам неоднократно признавался своему другу Бегичеву, был органически чужд «гусарства» и тяготился им в кругу друзей-поэтов. «Призвание мое – кабинетная жизнь», – писал он. И как только он получал возможность сосредоточиться на литературной работе, так качество его творчества резко возрастало.
То, что А.С. Грибоедов постепенно, в процессе освоения техники литературного мастерства подошел к главному произведению своей жизни, то, что все остальное было лишь «пробами пера», хорошо видно из сопоставления и анализа его драматургических произведений и, в частности, из анализа использования такой «мелочи», как кулинарный антураж. Характер этого использования в «Горе от ума» и в остальных пьесах, само отношение автора к такому использованию и, наконец, мастерство, естественность этого использования – совершенно различны.
В водевиле «Кто брат, кто сестра» мы можем отметить довольно трафаретное, стандартное для конца XVIII века применение кулинарного антуража: действие открывается сценой, где герои водевиля – Рославлев и его невеста Юлия – сидят за столом и пьют чай. Сама эта сцена – показатель дворянский праздности и достатка, своеобразный условный знак, неотъемлемый от декорации. Никаких иных кулинарных реалий во всей пьесе, кроме этого декоративного знака в первом явлении, нет.
В «Студенте» кулинарный антураж также используется как символический намек, но уже не в качестве декорации, не в виде ярлыка, обозначающего сословное положение персонажей, а активно, с явной целью провести резкую социальную границу между действующими лицами: генералом и генеральшей Звездовыми, с одной стороны, и студентом Беневольским – с другой. Именно посредством кулинарного антуража зрителю дается под самый конец второго действия некоторая идея насчет дальнейшего развития пьесы.
В первом и во втором акте мы еще не знаем, как сложатся отношения между Звездовым и Беневольским. По всей видимости, генерал покровительствует студенту, хотя его родственники настроены иначе. И только к концу второго акта, когда все идут обедать к домашнему столу, а Беневольского хитростью и обманом шурин Звездова Саблин увлекает в ресторан, для зрителей становится ясно, что шансы Беневольского на достойное положение в данной семье, в данном доме весьма и весьма шатки.
Для начала XIX века, да еще для дворянской среды, «обедать дома» и «обедать в ресторации» было диаметрально противоположными понятиями, с разными знаками: первое – с позитивным, второе – с резко негативным.
Затем, на протяжении третьего акта, Грибоедов все более и более усиливает эту отрицательную характеристику Беневольского и Саблина через кулинарный антураж намеком на то, что они обедали не просто в «ресторации», а в третьесортной, и тем, что показывает, как Саблин спаивает Беневольского и напивается сам.
Особенно сильно кулинарный антураж используется в двух последних явлениях третьего акта, когда наступает трагическая и совершенно неожиданная для Беневольского (да и для зрителей) развязка пьесы. Здесь кулинарные намеки, кулинарная терминология прямо указывает на деградирование героя пьесы.
Во-первых, ему предлагают оплатить вино, которое за его счет взял Саблин, а во-вторых, вместо благодетеля-генерала (бесплатного кошта и жилья в генеральском доме) фактически распорядителем его судьбы становится случайный человек, некто Прохоров. Он всего лишь виделся с генералом в Милютиных лавках: «Его превосходительство кушать изволили фрукты, а я к чему-то приторговывался».
Такой спуск от положения сына друга генерала до подневольного работника случайного «знакомого» генерала по «общению» в Милютиных лавках чрезвычайно красноречиво говорил зрителям XIX века о всей глубине падения Беневольского, о всей безысходности его личной драмы.
Разумеется, для современного читателя почти весь трагикомический эффект сцен, где выясняются вышеописанные отношения сторон, пропадает. Читатель, конечно, догадывается, что Беневольскому пришлось туго, но насколько сильно, больно и обидно, представить никак не может.
Кроме того, само по себе выражение «Милютины лавки» ныне ничего не говорит, в то время как для старых петербуржцев эти слова были наполнены реальностью и тесно связаны со всей историей Петербурга – и политической и хозяйственной.
Милютины лавки (или Милютин ряд) были одним из первых и значительных сооружений в Петербурге. Точно так же, как Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и Зимний дворец, Милютины лавки принадлежат к историческим, известнейшим архитектурным комплексам северной столицы и долгое время являлись одним из символических образов городского хозяйства и торговли. Милютины лавки были построены в качестве торговых рядов на Невском проспекте в 1735 году Алексеем Яковлевичем Милютиным, внуком родоначальника дворян Милютиных, сыном начальника царских рыбных промыслов в Астрахани, поставщиком осетрины, белужины, севрюжины и черной паюсной икры к царскому столу.
В Милютиных лавках – этом чреве Петербурга – в начале XIX века были сосредоточены все самые лучшие и разнообразнейшие продовольственные товары, которые только можно было найти в то время на необозримых просторах Российской империи. Прежде всего различная дорогая соленая, копченая, вяленая рыба (теша, балык, белорыбица, нельма, омуль, шемая, залом, пузанок) и икра – главная специализация Милютиных. Но одновременно здесь были представлены все тогдашние дары Юга, Прикаспия, Кавказа: суходольский (астраханский) рис, кизлярская водка (фруктовый коньяк), разнообразные фрукты: гранаты, персики, абрикосы, виноград и шипучие вина: цимлянское, донское, горское. Была здесь и дичь: турачи, фазаны, стрепеты, дрофы, серны, олени.
В Милютиных лавках не только торговали провизией на вынос, оптом и в розницу, но для богатых покупателей содержались «кабинеты», или «номера», где гости могли попробовать все, что хотели из предлагаемой на продажу снеди: в холодном виде, в качестве закусок, или в горячем, в форме обеда или ужина.
Именно там, где мерилом отношения хозяев и приказчиков к покупателям были деньги, размер покупок, можно было встречаться «без чинов», не соблюдая сословных рамок. Здесь общались дворяне, генералы, купцы, промышленники, состоятельные мещане. Вот почему содержатель типографии Прохоров мог оказаться в Милютиных лавках соседом по столику генерала Звездова.
Но вернемся к кулинарному антуражу в «Студенте». Конечно, он богаче, разнообразнее, чем в водевиле «Кто брат, кто сестра». Но и здесь выдержан в целом еще в традициях конца XVIII века, служа символическим знаком внешнего положения действующих лиц – либо их сословной принадлежности, либо их положения в семье, среди своих, или же для самого примитивного обозначения их страстей. Драматург избегает всячески и «кулинарной» конкретности и сколь-нибудь заметной и определенной «кулинарной» характеристики своих героев, ибо Грибоедов в 1816–1817 годах все еще рассматривает кулинарный антураж, исходя из традиций XVIII века, как «низменный».
В «Горе от ума», то есть спустя семь лет, писатель не только существенно отходит от этих традиций, но и, более того, решительно порывает с ними.
Во-первых, здесь и намека нет на то, чтобы использовать кулинарный антураж как знак, символ или указание на сословные позиции или отношения. Для автора, скорее, такими сословными символами служат фортепиано и флейта – музыкальные инструменты, их звук. И не случайно он начинает свою пьесу не с интерьера гостиной залы, в полдень или пополудни, как в пьесах того времени, а с раннего утра, чтобы решительно избежать всякого естественного кулинарного антуража. В течение всего первого действия вообще нет ни милейшего повода или намека на введение этого приема.
Зато второе действие прямо начинается с кулинарной тематики, и уже одно это создает необходимый контраст между первым и вторым действием, их атмосферой, настроем. Но главное различие состоит в том, что сам кулинарный антураж превращается из схематического ярлыка в кулинарную конкретность, в указание на конкретные блюда или на не менее конкретные обстоятельства или следствия обеда. Все реплики такого рода исходят от Фамусова, и, таким образом, этот кулинарный антураж служит для его характеристики как человека приземленного, крепко, тесно связанного с жизнью.
Грибоедов создает эту характеристику при помощи кулинарного антуража более сложно, более опосредствованно, чем Фонвизин в «Недоросле». Это уже не локальная характеристика, и относится она не столько лично к Фамусову, сколько к московскому дворянскому обществу в целом, а потому у Грибоедова даже кулинарный антураж приобретает не просто иллюстративное, а общественное, почти историческое значение.
В устах Фамусова обед, связанные с ним обстоятельства вырастают в характерный, заметный и важный признак эпохи и особенно старой, дворянской Москвы.
А, батюшка, признайтесь, что едва
Где сыщется столица, как Москва. <…>
Ведь только здесь еще и дорожат дворянством.
Да это ли одно? возьмите вы хлеб-соль:
Кто хочет к нам пожаловать – изволь;
Дверь отперта для званых и незваных,
Особенно из иностранных;
Хоть честный человек, хоть нет,
Для нас равнехонько, про всех готов обед.
В то время как Фамусов гордится этим обстоятельством, подымает его на уровень национальной русской добродетели, с величайшим пиететом вспоминает, что его дядя, будучи вельможей, – «не как другой, и пил и ел иначе», то Чацкий, не отрицая нимало этого факта, дает ему совершенно иное социальное освещение:
Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы? —
то есть рассматривает их как тоже почти национально узаконенный, московский вид взятки, подкупа, угождения. Однако для Фамусова московская кухня, московское гостеприимство отнюдь не ограничиваются этой подмеченной Чацким весьма важной, но все же не единственной своей стороной. Со своих жизненных, материальных, молешоттовских позиций он гораздо шире смотрит на вещи, для него обед – предмет почти философского обобщения, как концентрированное выражение сложности и многообразия действительности:
Куда как чуден создан свет!
Пофилософствуй – ум вскружится;
То бережешься, то обед:
Ешь три часа, а в три дни не сварится!
И на этом фоне лучше различим ограниченный, идеалистический критицизм Чацкого. Так Грибоедов очень тонко, опосредствованно оттеняет на фоне сочного, живого, созданного из плоти, грубоватого Фамусова несколько ходульный, нервный, ломкий, пронизанный неведением о реальной жизни образ Чацкого.
Второе действие завершается приглашением на обед. Но оно вовсе не традиционно. И здесь четко очерчен вызывающий разрыв с драматургически-литературными традициями.
Это не общее приглашение на обед всех действующих лиц, а приглашение сугубо частное, да к тому же относящееся к второстепенному персонажу пьесы, и фактически – приглашение тайное, запретное, неприличное, где слово «обед» служит лишь для маскировки, прикрытия.
Дело в том, что приглашает Молчалин служанку Лизу: «Приди в обед, побудь со мною…».
Вслед за этим по контрасту следует уж совершенно нетрадиционный отказ от обеда со стороны Софьи:
Сегодня я больна и не пойду обедать,
Скажи Молчалину и позови его,
Чтоб он пришел меня проведать.
Нам трудно себе представить, каким громом, как ошеломляюще действовали эти «простые» слова на современников Грибоедова. Они звучали почти бунтарски, вызывающе в той хлебосольной Москве, панегирик которой в начале того же акта произносил Фамусов. Они говорили о том, что молодое поколение – не только Чацких, но и Молчалиных, Софий и даже Лиз – «испортилось», имеет «завиральные идеи», порвало самым бесстыдным образом с традициями фамусовской среды. Но все это обнаруживается пока только в мелочах.
Сказав во втором действии сразу все, что только можно было сказать при помощи кулинарного антуража, Грибоедов совершенно не возвращается к упоминанию пищи на протяжении следующих третьего и четвертого актов. Там они не нужны. Там иной накал, иной рисунок характеров. И в этом умении сконцентрировать в нужном месте в нужное время наиболее эффектные приемы проявился в Грибоедове и гениальный драматург, и великий писатель, знающий все тайны такта, меры и вкуса.
То, что это именно так, и то, что это результат упорнейшей работы, показывает сопоставление различных вариантов «Горя от ума» с окончательным текстом пьесы. Первоначально, в черновиках, Грибоедов намеревался отвести кулинарному антуражу гораздо больше места, исходя из охарактеризованного выше значения хлебосольства как московской специфической добродетели и черты. Но затем он пошел по иному пути, сосредоточив всю эту тематику во втором акте и убрав почти все упоминания о конкретных блюдах, которые он вначале считал необходимым сохранить, чтобы продемонстрировать их чисто московскую окраску.