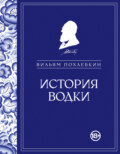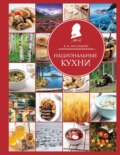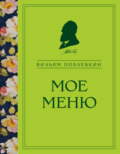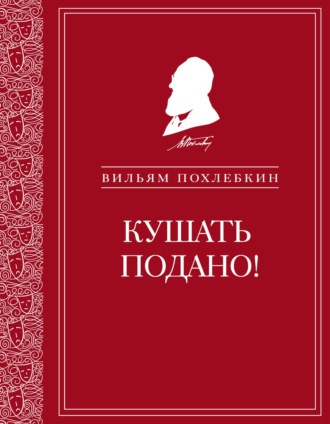
Вильям Похлёбкин
Кушать подано! Репертуар кушаний и напитков в русской классической драматургии
Басни
Если смотреть с точки зрения тематики, то басни Крылова оставляли автору крайне мало места для введения в них кулинарного антуража. Ведь значительная часть басен Крылова посвящена неодушевленным предметам («Бритвы», «Булат», «Две бочки», «Гребень», «Пушки и паруса», «Ларчик», «Мешок», «Булыжник и алмаз»), так что просто невозможно заставить эти предметы, даже символически, что-то есть, пить и вступать во взаимодействие или в сравнение с едой. Так же невозможно включить кулинарную тематику в басни, где главными действующими лицами выступают явления природы («Туча», «Роща и огонь», «Ручей», «Пловец и море», «Пастух и море», «Водопад и ручей», «Пруд и река») или растения («Цветы», «Дуб и трость», «Василек», «Дерево», «Листы и корни», «Колос»), а также насекомые («Муха и дорожные», «Комар и пастух», «Муха и пчела», «Стрекоза и муравей»), или где речь идет о мифологических сюжетах («Оракул», «Парнас», «Фортуна в гостях», «Фортуна и нищий», «Алкид», «Апеллес и осленок»). Наконец, басни, посвященные зверям, птицам и рыбам, то есть существам, способным есть и выступать, следовательно, в роли едоков или съеденных, как ни странно, также не дают никакого предлога для «кулинарной» трактовки, поскольку касаются лишь вопросов человеческих характеров, свойств (лживости, хитрости, глупости, тупости, коварства и т. д.) и взаимоотношений. Даже волы, свиньи, овцы, козы, гуси – объекты хотя и съедобные, но у Крылова они всегда используются как символы человеческих слабостей. Казалось бы, в баснях о человеке Крылов вроде бы получал шанс использовать свои кулинарные познания и ввести их в форме аллегорий или метафор, но и здесь тематическая направленность большинства басен совершенно не давала для этого никакой возможности. Ни о какой еде не могло быть и речи в баснях «Музыканты», «Разборчивая невеста», «Троеженец», «Безбожники», «Лжец», «Откупщик и сапожник», «Крестьянин в беде», «Старик и трое молодых», «Механик», «Тришкин кафтан», «Водолазы», «Крестьянин и разбойник», «Любопытный», «Крестьянин и смерть», «Клеветник и змея», «Охотник», «Скупой», «Прихожанин», «Богач и поэт», «Стыдливый игрок», «Судьба игрока»… Их проблемы, вполне очевидно, лежат далеко от проблем кухни, гастрономии, поваренного дела.
Но возьмем басни, которые по названию дают вроде бы надежду, что в них, хотя бы косвенно, может идти речь о еде, застолье или в качестве повода присутствуют упоминания каких-нибудь блюд. Это «Пир», «Два мужика», «Три мужика», «Вельможа», «Рыцарь», «Похороны». Ведь и во время похорон бывает трапеза. Однако даже в басне «Пир» речь идет лишь о том, что мелких зверей, вроде мыши и крота, не допустили сесть за пиршественный стол у льва. Вот и все. Пир был, но о еде ни слова.
И все же, как ни ограниченно было число басен, где Крылов мог в силу их тематики ввернуть кулинарный антураж, ему удалось не только оснастить многие из них кулинарной лексикой, но и некоторые из них сделать подлинно «кулинарными», «поварскими».
Правда, таких всего три, но они широко известны и популярны – «Демьянова уха», «Кот и повар», «Пастух». Они отличаются от всех остальных басен тем, что содержат не просто то или иное кулинарное слово или их набор, а упоминают кулинарные названия или дают описания готовых блюд и иногда перечисляют их состав.
Именно поэтому их можно и даже нужно определять как «кулинарные».
Менее «кулинарная» из них это «Кот и повар». Хотя в ней богато представлена соответствующая лексика: повар, кабак, съестное, пирог, уксусный бочонок, поварня, курчонок, жаркое, но блюдо упомянуто в ней только одно, да и то не полным поварским названием, а описательно и не сразу, а «в два присеста»: речь идет о цыпленке, которого «убирает» Васька, причем, согласно разговорному языку XVIII века, цыпленок назван курчонком, а то, что Васька ест уже готовое блюдо, а не сырого цыпленка, не «полуфабрикат», мы узнаем только в конце басни, где Крылов поясняет: «Кот Васька все жаркое съел». И тем не менее полное представление о конкретном готовом блюде мы имеем, и его полное кулинарное наименование может быть передано как «жаркое из цыпленка» или «цыпленок жареный».
В «Демьяновой ухе» речь идет также об одном готовом горячем блюде – ухе. Но поскольку в русской кухне имеется много разных видов ухи, то Крылов уточняет название той ухи, которая у него фигурирует, косвенно, посредством точного, подробного описания ее состава: во-первых, его уха «жирна, как будто янтарем подернулась она», во-вторых, в нее входят «лещик, потроха, стерляди кусочек». Все это дает полное основание утверждать, что речь идет об ухе сборной, богатой, состоящей из нежной, сладкой речной (или прудовой) рыбы (лещ, карп, судак), из кусочков жирной красной рыбы (стерлядь, осетрина) и из налимьей печени («потрохов», по терминологии того времени). Общий же набор кулинарной лексики в этой басне скромнее, чем в «Коте и поваре»: уха, сварена, тарелки, ложечка – и однообразнее: слово уха или ушица повторено пять раз, слово тарелка или тарелочка – четыре раза. Это, несомненно, издержки того, что автору пришлось придерживаться темы ухи на протяжении всей басни. И это показывает, сколь трудно ограничивать то или иное литературное произведение лишь чисто «кулинарным» сюжетом: чтобы «играть», «искриться», гастрономическая тема может быть использована только в виде антуража, добавки, изюминки, инкрустации.
Наконец, басня «Пастух» оказывается самой «кулинарной» из басен Крылова: в ней полностью названы, по всем правилам, как в ресторанном меню, целых два горячих блюда – «щи с бараниной» и «бок бараний с кашей», хотя остальная кулинарная лексика в этой басне совсем скудна: поваренок, печь, кухня.
Но в крыловских баснях кулинарный антураж имеет еще ту специфическую черту (по сравнению с его ролью в драматургических произведениях), что он не ограничивается наименованием блюд и кулинарной лексикой, рассыпанной там и сям.
Крылову, как ни одному другому русскому писателю-классику, удалось ввести в русскую литературу и в наш разговорный язык многие крылатые выражения, которые, так или иначе, относятся к кулинарному антуражу – содержат названия не только блюд и продуктов, но и наименования кулинарных профессий, а также различные «поваренные» глаголы.
И это именно то, что присуще только Крылову. Таких выражений более двух десятков. Некоторые из них стали народными идиомами, другие мы употребляем реже в активном разговорном языке, но сразу же узнаем их и вспоминаем, встречая в письменной речи. Вот их примерный перечень:
Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник. («Щука и кот»)
У них был общий дом, едва ль не общий стол. («Собака, человек, кошка, сокол»)
И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? («Стрекоза и муравей»)
А филосо́ф – без огурцов. («Огородник и философ»)
Как в масле сыр кататься. («Крестьянин и лисица»)
И серый рыцарь мой,
Обласкан по уши кумой,
Пошел без ужина домой. («Волк и лисица»)
А Васька слушает да ест! («Кот и повар»)
А вы, друзья, лишь годны на жаркое! («Гуси»)
Она сама к ним в суп попалась! («Ворона и курица»)
Тут повар на беду из кухни кинул кость. («Собачья дружба»)
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. («Волк и ягненок»)
А ведь ворон не жарят, не варят. («Ворона и курица»)
По мне, уж лучше пей, да дело разумей. («Музыканты»)
Вороне где-то бог послал кусочек сыру. («Ворона и лисица»)
Ворона каркнула во все воронье горло,
Сыр – выпал, с ним была плутовка такова. («Ворона и лисица»)
Поверь, что это честь большая для овец, Когда ты их изволишь кушать! («Мор зверей»)
Но чем ту бочку ни нальет, А винный дух все вон нейдет! («Бочка»)
В целом басенное творчество не предоставляло Крылову в силу тематики широкой возможности вводить в оборот кулинарный антураж, однако даже при таких неблагоприятных условиях Крылов сумел придать этому элементу новую роль, сделать его популярным, известным и запоминающимся. Более того, писателю удалось создать или, лучше сказать, зафиксировать тот чисто крыловский набор блюд и продуктов, которые, с одной стороны, несомненно, являлись наиболее употребительными в его время, а с другой, как свидетельствует их подбор, – говорили о личных кулинарных симпатиях. Примечательно, однако, что басенный кулинарный антураж вовсе не повторяет комедийный и не совпадает с ним даже по своему чисто пищевому составу.
Это неожиданно, и можно, забегая вперед, сказать, что это явление не встречается ни у одного другого русского классика, включая А. Н. Островского, ибо каждый писатель, естественно, имел свои личные кулинарные симпатии и постоянно отражал именно их в своих самых различных произведениях. Крылов, наоборот, позволяет нам увидеть ясную грань, ясное различие между его басенным и драматургическим кулинарным репертуаром.
СПИСОК КУШАНИЙ И НАПИТКОВ, УПОМИНАЕМЫХ В ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. А. КРЫЛОВА
КУШАНЬЯ
• Продукты и блюда
• Блины
• Ватрушки
• Калачи
• Каплун
• Кулебяка с сигом
• Куриные потроха
• Лягушки
• Протертое (овощи, мясо)
• Пирог с дичью
• Петушиные гребешки
• Редька
• Салакушка
• Сочни
• Телячья ножка
• Устрицы
• Хлеб
• Хрен
• Щи
• Сласти
• Леденцы
НАПИТКИ
Безалкогольные
• Кофе
Алкогольные
• Пиво
• Вейновая водка
• Водка
В БАСНЯХ УГОЩАЛИ, ЕЛИ ИЛИ УПОМИНАЛИ КУШАНЬЯ
Продукты и блюда
• Барашек (на вертеле)
• Бок бараний с кашей
• Грибы (запеченные)
• Ерши
• Жаренная рыба на сковородке
• Жаркое
• Жаркое гусиное
• Каша
• Курчонок (цыпленок) жареный
• Огурцы
• Пироги
• Сыр
• Сырное (творог)
• Суп
• Уха
• Уха богатая
• Уха сборная
• Уха стерляжья
• Уксус
• Щи с бараниной
• Щи пустые
• Яйца печеные
Сласти
• Виноград
• Каштаны
• Мед (сотовый)
• Орехи
• Яблоки
НАПИТКИ
Безалкогольные
• Чай
Алкогольные
• Вина сладкие
• Вино сухое (бочечное)
• Пиво
• Полугар
СВОДНЫЙ СПИСОК КУШАНИЙ И НАПИТКОВ, УПОМИНАЕМЫХ В ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И БАСНЯХ И. А. КРЫЛОВА
(по видам блюд)
Первое
• Суп
• Уха богатая
• Уха сборная
• Уха стерляжья
• Щи пустые
• Щи с бараниной
Закуски к первому (хлебное)
• Хлеб
• Калачи
• Кулебяка с сигом
Закуски под водку
• Редька
• Яйца печеные
• Огурцы
• Салака соленая
• Устрицы
Пироги
• Сочни
• Пироги
• Пироги с дичью
• Кулебяка с сигом
• Ватрушки
Специи, приправы
• Уксус
• Хрен
Второе рыбное
• Ерши
• Жаренная рыба на сковородке
• Салака жареная
• Лещ
Вторые мясные
• Барашек на вертеле
• Бараний бок с кашей
• Гусиное жаркое
• Курчонок жареный
• Жаркое
• Каплун
• Куриные потроха
• Петушиные гребешки
• Телячья ножка запеченная
Вторые вегетарианские
• Блины
• Каша
• Грибы запеченные
• Сырное (сырники)
Сласти
• Каштаны
• Орехи
• Виноград
• Сотовый мед
• Яблоки
• Леденцы
Напитки безалкогольные
• Чай
• Кофе
Напитки алкогольные
• Пиво
• Полугар
• Вино бочечное (кисло-сухое)
• Вино сладкое (десертное)
• Вейновая водка
• Водка
Мы видим хорошо организованный, разнообразный и целостный репертуар блюд, резко отличающийся от того, какой обычно присутствует в кулинарном антураже писателей, слабо разбирающихся в вопросах кулинарии и гастрономии. Здесь же ни одна из позиций не осталась незаполненной, забытой, все они представлены, причем равномерно – тремя-пятью и не более чем девятью – блюдами, хотя заполнялся этот репертуар десятилетиями.
Из него вполне можно составлять обед на месяц, не особенно повторяясь, а может быть, и вовсе не повторяясь в меню не только каждый день, но и каждую неделю, если иметь в виду современный обед из трех блюд.
Но составим все же два хороших обеда в стиле подач конца XVIII – начала XIX века. Вот как они будут выглядеть.
«КРЫЛОВСКИЕ ОБЕДЫ»
Меню № 1
Первая подача
Уха сборная, богатая. Кулебяка с сигом
Хрен. Водка вейновая
Антреме
Грибы, огурцы
Вторая подача
Бок бараний с кашей
Вино столовое красное (бочечное, кисло-сухое)
Петушиные гребешки в соусе
Десерт
Яблоки наливные печеные. Ватрушки
Кофе с леденцами
Меню № 2
Первая подача
Щи с бараниной. Пироги
Водка-полугар
Рыба, жаренная на сковородке
Антреме
Телячья ножка запеченная
Вино столовое светлое (сухое)
Вторая подача
Жаркое гусиное
Десерт
Сыр. Виноград. Вина сладкие
Чай с медом сотовым
Об одном редком блюде «Крыловского меню»
Подобно тому как в меню Фонвизина присутствовали подовые пироги, вышедшие из употребления в XX веке и даже не оставившие о себе памяти в поваренных книгах, изданных после 1907 года, так и в меню Крылова имеется одно блюдо, еще более экзотическое и также «вымершее». В отличие от подовых пирогов, оно даже не упоминается в литературе, а рецепт его можно сыскать лишь в кулинарных пособиях, изданных до 1775 года. Блюдо это – «петушьи гребешки».
Еще в 60-х годах XIX века основным поставщиком петушьих гребешков на столичные рынки были Ростов Великий и Вологда. Продавались петушьи гребешки с декабря по апрель, исключительно в зимний сезон и свежими доставлялись санным путем. Стоили они от 40 до 60 коп. за фунт (409 г) в зависимости от качества. Шли в еду только гребешки петухов-каплунов – мясистые, белые (!), поскольку каплуны продавались разделанными. Потроха – отдельно, гребешки – отдельно, ножки (голени) – отдельно и тушка, естественно, отдельно за довольно высокую цену: молодые парные каплуны по 5 руб. за пару, а обычные по 2 руб. за пару, в то время как зимние, мороженые – от 80 коп. до 1 руб. 20 коп. за пару. Гребешки, таким образом, ценились очень высоко, если считать, что пара каплунов обычно весила около 4 кг и фунт прекрасного, чистого каплуньего мяса обходился всего 15–25 коп., то есть вдвое, втрое и даже иногда вчетверо дешевле петушьих гребешков!
Вот почему петушьи гребешки считались экзотическим блюдом, позволить себе которое могли только богачи. Причина такой высокой цены состояла в том, что набрать много гребешков, да притом свежих, и вывезти их в столицу было нелегко, ибо для этого приходилось рисковать – забивать много птицы, без гарантии продать ее всю, в один присест. Вот почему с уничтожением помещичьего натурального усадебного хозяйства и с прекращением специализации Ростова и Вологды на поставке этого продукта гребешки быстро исчезли не только из меню, но даже и из памяти народной, а рецепт этого экзотического блюда, которым русские бары изумляли привередливых иностранцев, оказался и вовсе забыт и даже утрачен. Крыловское упоминание гребешков в «Подщипе» – один из самых поздних литературных отголосков. Это блюдо уже начинало становиться мифическим в первые десятилетия XIX века.
Вот почему ниже мы приводим полный рецепт приготовления петушьих гребешков.
Но прежде надо подчеркнуть, что петушьи гребешки входят во все изысканные ассорти из мяса, когда готовят особое парадное юбилейное жаркое, в которое стремятся включить как можно большее число мяс различного вкуса.
Так называемое гранд-ассорти включает мясо: медвежье, кабанье, лосиное, заячье, серны (оленина), изюбра, бычье (вырезка), баранину (седло), телятину, поросятину, индейку, гусятину (грудки), петушьи гребешки, ледвеи каплуна или пулярки.
Но наряду с тем, что гребешки могут быть ценным и экзотическим компонентом в различных мясных ассорти и в рагу, из них делают, как говаривали в старину, и особливые блюда, хотя и в них гребешки играют как бы роль «кулинарного предлога» для включения других продуктов.
• рецепт •
ГРЕБЕШКИ ПЕТУШЬИ ФАРШИРОВАННЫЕ
1. Наиболее толстые и крупные гребешки сварить в течение двух часов до полуготовности на медленном огне. Затем откинуть на сито, дать совершенно стечь воде.
2. Не давая остыть и съежиться, распороть вдоль, с исподней стороны (с противоположной зубцам гребня) и начинить их мелкорубленым каплуньим или цыплячьим белым мясом, перемешанным с костным мозгом из говяжьих или бараньих костей, а также с нутряным свиным топленым салом, солью и пряностями (мускатный орех, перец) и тертым крутым яичным желтком в однородную пасту.
3. Приготовить грибной бульон из пяти-шести мелко нарезанных шампиньонов или белых грибов.
4. Налить этот бульон в широкую и глубокую сковороду (эмалированную) или латку, миску, выложить в него подготовленные петушьи гребешки, обмазанные в яично-масляный кляр так, чтобы их едва покрывала жидкость, подлить после 3–4 мин нагрева мясного бульона, взбитого с сырым яйцом и небольшим количеством муки (десертная ложка), и варить на слабом огне при частом помешивании (чтобы предотвратить свертывание яйца) до готовности (около 10–15 мин).
5. Подаются с салатом из свежих или квашеных овощей, моченых и жареных кислых яблок и жареным картофелем.
М. Н. Загоскин
1789–1852
Михаил Николаевич Загоскин всегда был более известен широкой публике как исторический романист, особенно прославившийся романом «Юрий Милославский», чем как драматург[9]. Однако дебютировал он в литературе именно как драматург одноактной пьесой «Комедия против комедий» и, главное, большую часть своей жизни прослужил «по театральному ведомству», начав с самой незначительной должности и в конце концов став не только драматургом-профессионалом, но и директором московских театров.
Загоскин «вырабатывался в драматурга» в кружке князя А.А. Шаховского вместе с Н.И. Хмельницким, П.А. Катениным и А.С. Грибоедовым, но, как и каждый член этого кружка, имел свои собственные взгляды на задачи и роль театра. В своих комедиях, отличавшихся простотой, ясностью, немногословностью содержания, Загоскин не задавался большими нравственными или гражданскими задачами, а просто старался искренне развлечь и повеселить публику, что ему вполне удавалось. Может быть, именно поэтому комедии Загоскина, в отличие от произведений многих его современников, не производят ныне впечатления архаичных, устаревших и скучных, ибо их смех искренен и естествен.
В то же время тематика комедий Загоскина тесно связана с историческими задачами культуры его эпохи, которые, впрочем, как ни странно, и сегодня остаются проблемами русской культуры. Это высмеивание невежд, некомпетентных, провинциальных или, наоборот, слишком настырных людей, обличение всяких «приличных» проходимцев и авантюристов, а также разоблачение низкопоклонства перед чинами, знатностью, иностранщиной, особенно в его мещанско-пошлом и примитивно-подобострастном, «потребительском» виде.
Вполне понятно, что именно при решении подобных задач всякого рода внешний антураж играет немаловажную роль, особенно на сцене, и поэтому мы не случайно находим у Загоскина частое и умелое, органически вплетенное в действие и функционально обусловленное применение кулинарного антуража.
Загоскину, конечно, исторически повезло, что он имел таких предшественников, как Фонвизин, Крылов, но он был и сам по себе настолько умен, что сумел пойти дальше своих учителей, прекрасно воспользовавшись их уроками. Можно сказать, что если Фонвизин и Крылов лишь наметили и узаконили применение кулинарного антуража как элемента русской бытовой комедии, то Загоскин был первым, кто стал по существу разрабатывать этот элемент, варьировать его.
Типичный русский барин, Загоскин придавал большое значение застолью, занимавшему действительно видное и немаловажное место в помещичьей жизни, как в городе, так и в деревне. Не случайно поэтому именно в его пьесах упоминаются почти все столовые выти: завтрак, обед, ужин, закуска, десерт, именинный стол, не говоря уже о конкретных блюдах кухни того времени.
И примечательно, что хотя комедии Загоскина, в общем-то, построены по сходной схеме, а имена действующих лиц в них повторяются, в описании кулинарного антуража драматург совершенно избегает какой-либо даже отдаленной аналогии. Особенно отчетливо это стремление к разнообразию и к функциональному, естественному, оправданному применению кулинарного антуража проявляется у Загоскина в многочисленных вариантах приглашений к столу, целиком вытекающих из конкретных ситуаций каждой пьесы. Используя формулу приглашения к столу как драматургический прием для завершения действия или сцены, Загоскин тем не менее старается избежать дежурных, стандартных слов и реплик. Вот почему у него нередко эти приглашения растягиваются в целые диалоги и состоят не из одной реплики второстепенного персонажа, лакея или горничной, а произносятся и главными действующими лицами, причем на такие «приглашения к столу» идет порой пять-семь реплик.
«Богатонов, или Провинциал в столице»
Богатонов…Ну, так и быть, была не была! (Громко.) Эта прекрасная незнакомка, эта тиранка… <…>
Анюта (скоро вбегает). Барыня приказала вас звать кушать.
Богатонов. Тьфу, мерзкая, провал бы тебя взял, как с неба свалилась.
Анюта. Она изволила уже сесть за стол.
Богатонов. Эка беда! так и надобно тебе было вбежать сюда, выпяля глаза, как бешеной! (В сторону.) Нелегкая принесла ее, проклятую; было лишь только развернулся.
Баронесса. Пойдемте, сударь; вы забыли, что нас дожидаются.
Богатонов. Пойдемте, нечего делать…