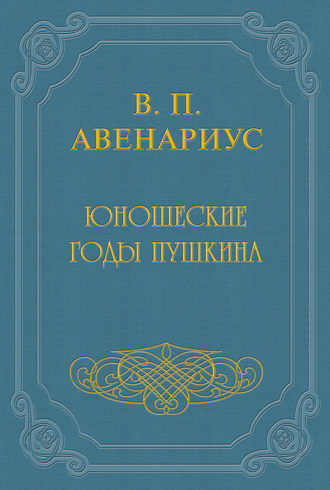
Василий Авенариус
Юношеские годы Пушкина
Писания свои прилежно вычищай:
Ведь из чистилища лишь идут в рай.
– Я прилежно тоже очищаю… – пролепетал Пушкин.
– А вот увидим. Какой у вас сюжетец?
– «Воспоминания в Царском Селе», – прочел с листа своего Пушкин.
– Возвращение государя императора из победоносного странствия, – пояснил со своей стороны Галич.
– Сюжет высокий и достойный воспевания, – одобрил Державин и тихо вздохнул. – Во времена оны и мы, грешные, пели Фелицу, пели отрока царевича Хлора[20]. Теперь мы одряхлели, а с нами и Муза российская век свой доживает; из новых патрициев парнасских некому, кажись заменить нас: деланности – сколько хочешь, искренности – ни следа!..
Последнюю фразу он пробормотал едва внятно, как бы про себя. На минуту он словно забыл даже, где он; потом, очнувшись вдруг от грустного раздумья, он поднял потускневший взор на безмолвно стоявшего перед ним лицеиста.
– Ну, что ж? Читайте.
Пушкин вздрогнул и сделал над собой усилие, чтобы сосредоточить все внимание на своей рукописи. Первое слово: «нощи», попавшееся ему тут на глаза, вовсе уж некстати напомнило ему слышанное им как-то от Пущина критическое замечание:
– Нельзя ли, брат, без этой славянщины? Кто, например, в наше время говорит: «Доброй нощи!»
– Да ведь это не проза, пойми, а стихи! – обидчиво оправдывался он тогда. Но теперь он понял всю меткость замечания друга, и Бог знает, что дал бы, если бы тогда послушался доброго совета.
«Ну, да делать нечего! Державин сам славянофил, не осудит!»
Все это промелькнуло у него в голове мгновенно, и он, переведя дух, стал читать:
Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в сребристых облаках.
Идиллически-мирное содержание начальных строф, их несомненная благозвучность возвратили молодому автору необходимое присутствие духа. Чтение его стало смелее и выразительнее, особенно когда он коснулся в стихах Екатерины Великой:
Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет;
Воззрев вокруг себя, со вздохом росс вещает:
«Исчезло все, Великой нет!»
Не отрывая взора от рукописи, он, по внезапному движению Державина в креслах, понял, что память о Фелице затронула певца ее за живое. Но вот после картинного описания Катульского памятника он рядом с именами Орлова, Румянцева и Суворова упоминает и их певцов:
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.
Он знал, он инстинктивно чувствовал, что Державин в упор смотрит на него, и под магнетическим действием этого взгляда им овладел какой-то небывалый экстаз. Он ощущал не испытанное до сих пор, невыразимое наслаждение читать истинному поэту эти, вылившиеся у него самого от полноты патриотического чувства стихи, между которыми два куплета, написанные им еще летом на стенах карцера, занимали, конечно, не последнее место.
Но впечатление от его стихов на его слушателя было едва ли менее сильное. Если б он взглянул теперь на Гаврилу Романовича, то не узнал бы его. Все неподвижно-усталое тело старца поэта задвигалось в кресле; отдыхавшие на столе руки его задергало; отяжелевшая голова его судорожно затряслась; мутные, словно заспанные глаза разгорелись и метали молнии. Угасающий гений почуял живительное дыхание вновь нарождающегося гения.
И граф Разумовский, и профессора, и лицеисты не могли отвести глаз от двух поэтов: юноши и старца, восторженно читающего и восторженно слушающего. При последнем обращении Пушкина к «певцу во стане русских воинов», Жуковскому, всем невольно представилось, будто он обращается вместе с тем и к Державину, и к самому себе:
О скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй,
В кругу друзей твоих, с душой воспламененной,
Взгреми на арфе золотой!
Да снова стройный глас героям в честь прольется,
И струны трепетны посыплют огнь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.
«Я не в силах описать состояния души моей, – рассказывает Пушкин в своих „Записках“. – Когда я дошел до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилось с упоительным восторгом… Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять… Меня искали, но не нашли…»
Так и не слышал он знаменательных слов растроганного Державина: «Нет, я не умер!» Так и не видел, что тот взял с собой на память оригинал прочитанных стихов, найденный впоследствии, после его смерти, между его бумагами.
Зато вечером, прощаясь с отцом, Пушкин узнал от него, что на обеде у графа Разумовского, где в числе прочих были также Сергей Львович и Державин, толки о молодом таланте долго не прекращались.
– Я бы желал, однако ж, образовать сына вашего в прозе, – заметил, между прочим, Разумовский Сергею Львовичу.
– Ваше сиятельство! – с жаром вступился Державин. – Оставьте его поэтом.
– Так вот мы как нынче, сыночек мой! – шутливо закончил Сергей Львович и потрепал сына по плечу. – Каюсь откровенно, что до сегодняшнего дня мало верил я в твое поэтическое призвание, да и ты, дружок, не очень-то домогался заслужить родительскую ласку и любовь…
Та непритворная нежность, которая звучала сквозь легкий упрек отца, была так непривычна неизбалованному на этот счет юноше, что он, под живым еще впечатлением одержанного успеха, как говорится, растаял.
– Я понимаю, папенька, что я виноват перед вами, перед маменькой… – порывисто заговорил он, избегая глядеть на отца. – Но вы знаете тоже мою горячую натуру… Я дурил, потому что то было в моей африканской крови… А вы и маменька не хотели этого знать; сперва наказывали меня, потом совсем от меня отступились… Ну, я и замкнулся в себе, ожесточился… Спасибо вам теперь за ваше доброе слово: я его никогда не забуду!
Он припал губами к руке отца. Тот с чувством обнял его.
– Мир полный и ненарушимый на веки веков, аминь! – торжественно заявил Сергей Львович. – А теперь, милый мой, скажи-ка: в каком положении твои финансы?
– Ах, папенька! Не говорите теперь об этой прозе…
– Ну, не будем говорить, а будем действовать, – впадая опять в свой шутливый тон, отозвался отец и бывшую уже у него, как оказалось, наготове в сжатой руке небольшую пачку ассигнаций сунул в задний карман сына. – Не вырони только!
За примирением с отцом следовало и примирение с матерью: через несколько дней Надежда Осиповна вместе с дочерью прикатила в Царское и после долгих лет так искренно обласкала старшего сына, что тот достал платок и, под видом, что сморкается, украдкой отер себе глаза.
– А кстати, Александр, – весело заметила мать, чтобы скрыть свое собственное умиление, – ты, кажется, уже не теряешь платков?
– А прежде я разве терял их, маменька? – спросил он в ответ.
– Ужели ты забыл? Когда ты был маленьким и ходил еще в курточке, я просто не могла напастись на тебя платков! Что оставалось мне делать? Я пришила тебе платок на грудь, вместо аксельбанта, и объявила, что жалую тебя моим бессменным адъютантом…
– И честь эта меня живо вылечила! – смеясь, подхватил Александр.
– Но теперь, маменька, вы, я думаю, и без всякого аксельбанта охотно примете его к себе в адъютанты? – вмешалась сестра его, влажными глазами глядя на обоих.
Вместо ответа Надежда Осиповна снова притянула к себе сына и крепко поцеловала. С этого времени она в обращении с ним стала выказывать почти такое же уважение, как и дочь ее, которая, разговаривая, с каким-то робким благоговением заглядывалась всегда на брата поэта. О своих собственных поэтических опытах Ольга Сергеевна тем менее уже смела теперь перед ним заикнуться.
Лицеист Корсаков, бывший и поэтом, и музыкантом, положил вскоре на музыку две песни Пушкина, которые потом часто пелись хором всеми лицеистами. Не только товарищи, но и лицейское начальство не сомневалось уже в истинном таланте Пушкина, с тех пор как Державин публично признал его своим преемником. А что Гаврила Романович высказался так решительно не под минутным лишь впечатлением, видно уже из отзыва, который слышал от него о Пушкине, почти год спустя, начинающий в то время писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Зимой 1816 года Аксаков не раз навещал в Петербурге Державина и зачитал его, т. е., обладая особенным даром прочитывать стихи, он довел старика поэта до такого экзальтированно-нервного состояния, что тот даже слег в постель. И вот однажды на вопрос Аксакова, не помешал ли он, Державин, писавший что-то грифелем на аспидной доске, ответил:
– О нет! Я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а нового не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уж ничего не остается желать. Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лицее перещеголял всех писателей.
Так судил тогда про Пушкина сам Державин. Когда же не стало ни того, ни другого, первый критик наш Белинский так определил значение их обоих:
«Державинская поэзия, в сравнении с пушкинскою, это – заря предрассветная, когда бывает ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начинается борьба тьмы со светом: брезжит неверный сумрак, обманчивый полусвет; вдали на небе как будто белеет полоса света и в то же время догорают, готовые погаснуть, ночные звезды, а все предметы являются в неестественной величине и ложном виде. Пушкинская поэзия, в сравнении с державинскою, это – роскошный, полный сияния и блеска полдень летнего дня: все предметы земли озарены светом неба и являются в своем собственном, ясном виде, и самая даль только делает их более поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными… Словом, поэзия Державина есть безвременно явившаяся, а потому и неудачная поэзия пушкинская, а поэзия пушкинская есть вовремя явившаяся и вполне достигшая своей определенности, роскошно и благоуханно развившаяся поэзия державинская…»
Глава X
Жуковский
…Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И с высоты взирал на жизнь).
«Он между нами жил…»
В начале июня 1815 года лицеистов постигла чувствительная утрата: им пришлось навсегда распроститься с так полюбившимся им молодым профессором Галичем. Профессор Кошанский, которого временно замещал Галич, оправился от своей продолжительной болезни, и последний поневоле должен был опять уступить ему его кафедру. Утрату эту особенно близко приняли к сердцу поэты лицейские, и двое из них, Пушкин и Дельвиг, гуляя вместе по часам в тенистых аллеях дворцового парка, не раз с грустью вспоминали о товарищеских литературных вечерах в уютной комнатке Галича. На одной из таких прогулок судьба послала им, в том же июне месяце, нежданного утешителя, который, для Пушкина по крайней мере, скоро вполне заменил Галича.
Два друга наши, утомившись от ходьбы, только что расположились отдохнуть на любимом своем месте – полуострове большого пруда, как со стороны дворца к ним приблизился молодой человек, лет тридцати с небольшим, в легком дорожном плаще и пуховой шляпе. Мягкая трава заглушала звук его шагов, и лицеисты тогда лишь заметили, что они не одни, когда он, подойдя сзади к Пушкину, внезапно закрыл ему руками глаза.
– Друг или враг?
Дельвиг с недоумением смотрел на незнакомца: он его видел в первый раз. Но простодушное и вместе с тем умное лицо неизвестного расположило Дельвига тотчас в его пользу.
– Друг! – отвечал Пушкин и сорвал с глаз загадочные руки. – Ах, это вы, Василий Андреич?
– Как видишь, не ошибся: друг. Позволишь обнять себя?
После дружеского объятия Пушкин счел нужным отрекомендовать друг другу еще не знакомых между собой двух приятелей своих:
– Лирик лицейский – барон Дельвиг! «Певец во стане русских воинов» – Жуковский!
После рекомендации и обмена несколькими любезностями все трое уселись под деревом на скамье.
– Скажи-ка мне, Александр… – начал Жуковский. – Но я, право, не знаю, смею ли еще говорить тебе «ты»?
– Помилуйте, Василий Андреич!
– Да ведь ты уж не мальчик; ты, в некотором роде, отважный мореплаватель: пустился в бурное море журнальное на всех парусах.
– Но откуда вы знаете? Я, кажется, не выставляю своей фамилии…
– Слухом земля полнится.
Жуковский не преувеличивал: уже в 1815 году Пушкин участвовал в трех журналах: в «Сыне Отечества», «Трудах Общества любителей российской словесности» и «Российском музеуме, или Журнале европейских новостей». Последний с 1815 года издавался прежним издателем «Вестника Европы», Измайловым, который завербовал к себе, в числе других постоянных сотрудников-лицеистов, и Пушкина. В одном 1815 году в Измайловском «Музеуме» появилось 17 стихотворений Пушкина. Из них, впрочем, только под одним он поставил свое полное имя: Александр Пушкин, именно – под выдержавшими цензуру Державина «Воспоминаниями в Царском Селе». Под остальными же он подписывался сокращенно, как в первый раз: Александр Н. К. Ш. П., или Александр Н. – П., или просто цифрами, соответствовавшими буквам в алфавите – 1… 14–16 (что значило: А… Н – П.), 1… 16–14 (т. е. А… П – Н.), 1… 17–14 (т. е. А… Р – Н.).
– Еще бы не слышать о тебе, Пушкин! – сказал Дельвиг. – После того как Державин посвятил тебя в рыцари пера, кто-кто только не перебывал здесь у тебя с поклоном! Все «генералы от литературы»: Дмитриев, Батюшков, Дашков, граф Хвостов…
Жуковский только усмехнулся.
– Нет, уж Хвостова, пожалуйста, не ставьте с прочими «генералами» на одну доску. На вид он, действительно, роскошный павлин, но голосом… тот же павлин! Про себя, видно, он и сложил свой прелестный стих:
Павлиным гласом петь толико не способно,
Как розами клопу запахнуть неудобно.
Оба лицеиста расхохотались.
– Надо бы записать, Пушкин, – сказал Дельвиг. – Для «Смеси» нашего «Лицейского мудреца» это будет находка. Но говорят ведь, Василий Андреич, будто великий наш Державин дружит с этим Хвостовым?
– Дружит больше по старой памяти; но тому от него тоже порядком-таки достается.
– В самом деле?
– Вы, значит, не слышали, как Державин недавно, в заседании «Беседы», отделал его? Нет? Вот послушайте. Желая подольститься к нему, председателю своему, Хвостов при всем собрании окликнул его сзади: «Пиндар Романович!» – намекая на последние переводы его из Пиндара.
Державин показал вид, что не слышит. Тогда Хвостов повторил еще громче: «Пиндар Романович!» – Державин и на этот раз не оглянулся, но отвечал нараспев известным экспромтом:
Хвосты есть у лисиц, хвосты есть у волков,
Хвосты есть у кнутов, – так берегись, Хвостов![21]
Анекдот, понятно, рассмешил опять друзей-лицеистов. Но Пушкин счел своим нравственным долгом заступиться за бедного графа Хвостова.
– Извините меня, Василий Андреич, – сказал он, – но я глубоко благодарен Хвостову уже за то, что он изо всех наших отечественных поэтов первый сделал мне честь поздравить меня с успехом.
– А ты небось и не догадался, что
Умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил.
Поздравить-то он тебя поздравил, но, верно, при этом случае поймал за руки, припер в угол и давай душить своими одами: не любо – не слушай, а петь павлином – не мешай?
– Верно! – засмеялся Пушкин. – Как вы сейчас догадались?
– Как не догадаться, коли сам на себе испытал: он никому ведь проходу не дает. Впрочем, надо отдать ему справедливость: у него есть такие перлы, которые хоть мертвого в гробу рассмешат. Так, у него сума надувается от вздохов; осел лезет на рябину и лапами хватает за дерево…
– Премило! Но он говорил мне, однако, что стихи его бойко раскупаются…
– Еще бы, когда он сам рассылает для этого в книжные лавки своих лакеев.
– Так это не выдумка?
– Нет, сущая правда. Во весь век ему удался, кажется, единственный стих:
Потомства не страшись: его ты не увидишь!
Но мой новый родственник и старый приятель Воейков[22] и этого стиха ему не подарил: «Граф, очевидно, обмолвился, – говорит он, – он хотел сказать, конечно: „Потомства не страшись: оно тебя не увидит“». Кстати о Воейкове. В своей новейшей сатире «Дом сумасшедших» он так обрисовал Хвостова:
– Ты ль, Хвостов? – к нему вошедши,
Вскрикнул я. – Тебе ль здесь быть?
Ты – дурак, не сумасшедший,
Не с чего тебе сходить!
– В Буало я смысл убавил,
Лафонтена я убил
И Расина обесславил! —
Быстро он проговорил…
– Зло! – сказал Пушкин. – И многих Воейков засадил этак в желтый дом?
– Да всю нашу пишущую братию: Карамзина, Батюшкова, Кутузова, Шаликова – и, разумеется, меня, грешного, тоже:
Вот Жуковский: в саван длинный
Скутан, лапочки крестом,
Ноги вытянувши чинно,
Черта дразнит языком;
Видеть ведьм воображает,
То глазком им подмигнет,
То кадит и отпевает,
И трезвонит, и ревет.
Цитируя этот куплет про самого себя с соответствующими интонацией и телодвижениями, Жуковский потешался едким остроумием сатирика с тем же простодушием, как и его два юных собеседника.
– Поддел он меня очень ловко, – прибавил он. – Замогильные страсти и заоблачные выси – моя родная сфера.
– Но ведь чем ближе к небу, Василий Андреич, тем холоднее, – заметил Дельвиг.
– Так, но и воздух там неизмеримо чище: ни копоти от этих коптителей неба, ни смраду от их будничных дрязг.
– Однако прожить-то между ними все же и вам, и нам придется.
По светлому лбу поэта-романтика промелькнула мимолетная тень.
– Придется, милый мой, ох, придется! – промолвил он. – Ведь вот мне 33-й год пошел, а все еще с небес на землю толком не спустился: не имею твердой почвы под собой. Тургенев Александр Иваныч, общий наш друг и заступник, напряг все пружины, чтобы пристроить меня при дворе Марии Федоровны. Еду теперь на зов. Но что из этого еще выйдет – одному Богу известно!
– Александр Иваныч сам рассказывал мне, как он читал Марии Федоровне ваше патриотическое послание к государю, – подхватил Пушкин. – Все слушавшие чтение: и императрица, и великие князья – были тронуты до слез и повторяли: «Прекрасно! Превосходно!» Государю в Вену послали сейчас список ваших стихов, а вам ведь, кажется, государыня пожаловала перстень?
– Вот этот самый, – сказал Жуковский, показывая на указательном пальце правой руки драгоценный перстень. – Я с ним никогда не расстаюсь… Государыня была слишком снисходительна ко мне. Гравер Уткин, что прославился и в Париже, должен был, по ее желанию, сделать виньетку для моих стихов, и 1200 экземпляров их на веленевой бумаге также отданы в мою пользу. Тем не менее…
Жуковский замолк и в грустной задумчивости загляделся вдаль, на ту сторону пруда, где, отражаясь в зеркале вод, тихо и величаво плавала семья белых лебедей.
– Тем не менее?.. – переспросил Пушкин.
– Мне страшно от чего-то…
– Но если Тургенев открыл вам настежь все двери…
– То-то, что я не выношу сквозного ветра, – отшутился Жуковский и круто переменил разговор. – А что, Александр, скажи-ка, не пишешь ли ты теперь чего нового?
– О! Если бы вы знали, Василий Андреич, какие у него теперь планы в голове… – с непривычною живостью отвечал за друга своего Дельвиг.
– Перестань! Ну, стоит ли толковать… – остановил его, смутясь, Пушкин.
– Какие планы? – полюбопытствовал Жуковский. – Меня это очень интересует.
– Ну, не ломайся, Пушкин, расскажи! – продолжал Дельвиг.
– Да что же я расскажу?..
– Хоть про «Фатаму» свою, что ли.
– И то, расскажи-ка, Александр, – поддержал Жуковский.
«Поломавшись» еще немного для вида, Пушкин начал:
– «Фатама, или Разум человеческий» – восточная сказка-поэма. Вкратце идея такая:
«Жили два старика: муж с женой; жили счастливо, как лучше быть нельзя. Одного только не послал им Аллах для полного счастья – детей. И вот является им добрая фея. Они молят ее умилосердить Всевышнего – дать им сына.
– Желание ваше исполнится, – говорит фея.
– Но умника-разумника, какого в мире еще не бывало! – добавляют старики.
– Будь по-вашему, – говорит фея, – в самый день рождения он будет уже возмужалым…
Старики слов не находят, как благодарить фею.
– Не хвалите утра ранее вечера, – говорит им она. – Природа не терпит нарушения ее законов; что она теряет на одном, то берет себе на другом. Сын ваш, родясь возмужалым, с году на год будет слабеть умом и телом, пока не пройдет обратно всех возрастов жизни, от возмужалости до младенчества.
И точно: Аллах дал старикам сына, который был так учен, что только выглянул на свет Божий, как первым делом спросил по-латыни:
– Ubi sum?[23]
Но с году на год, со дня на день ученость его испарялась как дым, пока, наконец, на руках родителей не очутился беспомощный, бессмысленный младенец.
Мораль сказки: насильственное нарушение естественного порядка вещей не ведет к добру».
Жуковский внимательно выслушал сказку.
– Оригинально, – похвалил он, – из этого материала можно многое сделать.
– Что в моих силах – я постараюсь сделать. Если бы вы знали, Василий Андреич, сколько я для этого одних книг перечитал!
– Да, читать нашему брату, писателю, надо много, – раздумчиво заговорил Жуковский. – Но читать надо с толком. Один немецкий ученый, Миллер, очень верно заметил: «Lesen ist nichts; lesen und denken – etwas; lesen, denken und fiihlen – die Vollkommenheit»[24]. Я, друг мой, говорю это тебе не в укор, – поспешил добавить Жуковский, видя, что щеки начинающего поэта покрылись краской. – Я сам только с летами научился читать как следует.
– А сами вы что теперь пишете, Василий Андреич? Можно полюбопытствовать? – спросил Дельвиг.
– В эту минуту меня особенно занимает одна древняя новгородская легенда. По странной случайности она имеет некоторое сходство с Вальтер-Скоттовой «Девой озера», которая вам, вероятно, известна.
– Как же.
– Если желаете, я передам вам содержание моей легенды.
– Сделайте милость!
Жуковский был прекрасный рассказчик, и переданная им, хотя только в общих чертах, древненовгородская легенда произвела на обоих слушателей сильное впечатление.
– Вот это так поэма! – воскликнул Пушкин. – «Фатама» моя после нее какая-то ребяческая выдумка.
Жуковский обнял его и заглянул ему дружелюбно в глаза.
– Хочешь, поменяемся?
– Что вы, Василий Андреич! Как это можно… – пробормотал Пушкин.
– Так ты, может быть, написал уж много?
– Не то что много… несколько строф…
– В таком случае я добровольно отказываюсь от твоей «Фатамы»: с Богом доканчивай ее. Мою же легенду я дарю тебе: делай с ней что хочешь.
– Нет, это слишком великодушно!.. Может быть, я с нею не слажу; может быть, при других темах и вовсе не примусь за нее…
– Ну так вот что: я даю тебе пять лет сроку. Не воспользуешься этим временем, я возвращу себе мое авторское право![25]
Солнце уже спряталось за верхушки парка, когда Жуковский стал прощаться с лицейскими поэтами.
– Но в столице, в большом свете, вы нас, бедных заключенников, пожалуй, совсем забудете? – сказал Пушкин, и в голосе его прозвучала такая чувствительная нота, что Жуковский крепко его обнял и поцеловал.
– Друзей не забывают, – сказал он, – а ты мне друг по Аполлону.
Не прошло и двух недель, как он, действительно, опять навестил в Царском своего молодого друга.
– Видишь, не забыл, – сказал он, – а вот тебе и залог моей верной дружбы.
Он подал ему книжку своих стихотворений. В послании своем к Жуковскому, полтора года спустя, Пушкин вспоминает то глубокое впечатление, какое произвел на него этот неожиданный подарок:
И ты, природою на песни обреченный!
Не ты ль мне руку дал в завет любви священной?
Могу ль забыть я час, когда перед тобой
Безмолвный я стоял, и молнийной струей
Душа к возвышенной душе твоей летела
И, тайно съединясь, в восторгах пламенела…
Когда же Жуковский вскоре затем приехал в третий раз, то Пушкин с увлечением продекламировал ему наизусть несколько стихотворений из подаренного ему сборника. Каждое новое свое стихотворение, до отдачи в печать, Жуковский с этого времени обязательно читал ему. У Пушкина была такая счастливая память, что, прослушав внимательно совершенно не знакомые ему стихи, он мог повторить их почти без запинки. Если случалось, что он забывал ту или другую строфу, прочитанную ему накануне, то Жуковский почитал уже такую строфу настолько слабою, что переделывал ее заново. Такое значение придавал этот искушенный опытом поэт изящному вкусу 16-летнего юноши! Он обращался с ним совершенно как с равным и вскоре настоял на том, чтобы Пушкин также говорил ему «ты».
Пушкин в свою очередь усердно зачитывался поэзией Жуковского и, упиваясь ее музыкальностью, поучался по ней таинству гармонии человеческой речи. Как высоко ценил он это качество стихов своего учителя, красноречивее всего свидетельствует пятистишие его: «К портрету Жуковского», которое по чарующему благозвучию не уступит лучшим строфам самого Жуковского:
Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.
Как всякий молодой орленок, пробующий свои крылья, Пушкин начал с подражания полету больших орлов. Сперва он подражал Державину, Батюшкову и французским лирикам; теперь он подчинился влиянию Жуковского, а впоследствии, по выходе из лицея, поддался Байрону. Но повредила ли сколько-нибудь такая подражательность в первый период жизни самобытности его гения?
Лучшим ответом на этот вопрос может служить опять следующее картинное сравнение Белинского:
«Кто может разложить химически воду Волги, чтоб узнать в ней воды Оки и Камы? Приняв в себя столько рек, и больших, и малых, Волга пышно катит свои собственные волны, и все, зная о ее бесчисленных похищениях, не могут указать ни на одно из них, плывя по ее широкому раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана творениями предшествовавших поэтов. Скажем более: она приняла их в себя, как свое законное достояние, – и возвратила их миру в новом, преображенном виде».







