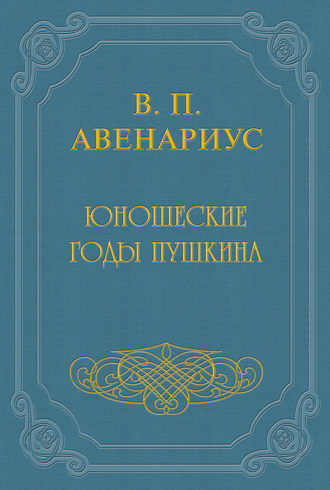
Василий Авенариус
Юношеские годы Пушкина
Сам Вальховский был несколько озадачен такой сговорчивостью непреклонного всегда надзирателя. Но задумываться над этим ему не пришлось: товарищи из рекреационного зала внимательно следили за его переговорами и теперь так дружно наперли на вторую половинку двери, что та распахнулась с треском. И начальство, и подначальная инвалидная команда поспешили дать дорогу молодежи, которая хлынула оттуда бурной волной.
– Ведь я же докладывал вашему высокоблагородию… – заметил Леонтий Кемерский.
– Что-о-о? Ты еще разговаривать? – вскинулся на него Фролов. – Не быть тебе старшим дядькой, сказано тебе, – и не будешь!
То была не пустая угроза: через несколько дней она оправдалась на деле.
Глава XIV
Конец междуцарствия
И что ж? Попались молодцы;
Не долго братья пировали:
Поймали нас – и кузнецы
Нас друг ко другу приковали…
«Братья разбойники»
Классные занятия лицеистов перед рождественскими праздниками 1815 года были прекращены дня за два до сочельника. Но пока товарищи Пушкина на радостях задумывали новые проказы, сам он уединялся в своей камере, чтобы набросать на бумагу то, что назрело у него в голове во время последней лекции. То не была, однако, на этот раз какая-нибудь обширная поэма. Восьмилетняя сестрица друга его Дельвига – Мими, или Машенька, с которой он виделся только однажды, в день своего приемного экзамена, просила его письменно через брата написать ей что-нибудь в альбом. Значит, и до нее даже, маленькой крошки, туда, в Москву, дошла весть о его таланте! Он только что дописывал последние строки, как в комнату к нему ворвались два приятеля: Пущин и Малиновский.
– Так ведь и есть! – сказал Малиновский. – Опять скрипит пером! Идем-ка сейчас с нами.
– Минутку… – попросил Пушкин, – только пару слов…
– Ни полслова.
Решительный и живой Малиновский вырвал у него из-под рук бумагу и, кажется, смял бы ее в комок, если бы Пущин не удержал его за руку.
– Постой, Казак![35]
– Да ведь надо же его хоть раз наказать…
– И других вместе с ним! Ты для кого это пишешь, Пушкин?
– Для сестры Дельвига, Мими.
– Вот видишь ли, Малиновский: наказал бы и девочку, и нашего милого барона.
– Так бы сейчас и сказал, – отозвался Казак-Малиновский и возвратил стихи автору, который, приподняв крышку конторки, спрятал их туда.
– Что вы там опять затеваете, господа? – спросил он.
– А вот что… – начал Малиновский.
– Погоди! – остановил его Пущин и, подойдя к двери, оглядел коридор. – Нет ни души. А то, вишь, могли бы подслушать. Говори, только потише.
– Вот что, – продолжал, понизив голос, Малиновский, – мы завариваем гоголь-моголь.
– Доброе дело! – сказал Пушкин и даже облизался. – Но материалы?
– Материалы все налицо: два десятка яиц, сахар, ром…
– И ром? Как же это Леонтий решился дать вам? Ведь он Степаном Степаньгчем так запуган, что едва ситника с патокой от него раздобудешь.
– Мы и то еле выклянчили у него яйца да сахар. За ромом пришлось откомандировать Фому.
– Да он-то как не побоялся?
– И он тоже долго ломался; но когда мы его уверили, что всю ответственность берем на себя, и посулили ему сребреник, то он не устоял.
– Разве что сребреник! А где же место действия?
– Угадай.
– У одного из вас?
– Нет.
– У Фомы?
– О нет! Каморка его слишком тесна да и душна.
– Так где же?
– В карцере!
Пушкин звонко расхохотался.
– Вот это гениально! И идти-то потом недалеко, коли засадят. Ну, так руки по швам, налево кругом и марш!
– Тссс!.. – сказал вдруг, поднимая палец, Пущин. – Кто-то, кажется, крадется к нам по коридору.
Он на цыпочках приблизился опять к двери, за которой шорох уже затих. Лампы в полутемном коридоре были зажжены, и потому сквозь решетчатое окошечко Пущин ясно мог разглядеть прикорнувшую на полу фигуру в солдатской форме.
– Ты что там делаешь? – крикнул он в окошечко.
Фигура мигом шарахнулась в сторону и, согнувшись в три погибели, бросилась вон.
– Кто это был там? – в один голос спросили Пушкин и Малиновский.
– А все дрянь эта, Сазонов! – отвечал Пущин. – Вообразил, вишь, что его не узнают.
– Плут этот и давеча прошмыгнул мимо, когда я у Леонтья заказывал яиц да сахару, – заметил Малиновский.
– Ну вот! Того и гляди, что выдаст. На всякий случай, господа, не уйти ли нам поодиночке отсюда? Вы ступайте прямо на место, а я заверну еще к Фоме – узнать, поставлен ли у него самовар.
– А не позвать ли еще барона? – предложил Пушкин.
– Что ж? Зови, пожалуй, веселее будет.
Когда Пушкин с бароном Дельвигом спустились в уединенный карцер, то застали уже там всех за работой: Пущин толок сахар, Малиновский бил яйца, а дядька Фома возился около дымящегося самовара.
– Ну, а теперь, братец, убирайся! – сказал последнему Малиновский. – Да чур, никому ни гугу. Слышишь?
– Слушаю-с.
– А пуще всего Сазонову.
– Да уж с этим аспидом я и слова не промолвлю.
– И прекрасно. Проваливай!
Гоголь-моголь удался на славу. Никто не потревожил четырех друзей, пока они не наелись всласть. Но гоголь-моголь, как известно, очень сытен, так что из двух десятков заготовленных яиц остались еще нетронуты штук шесть-семь, и очень кстати пожаловали тут двое непрошеных гостей – граф Броглио и Тырков.
– Эге-ге! Дело в полном ходу! – сказал, заглядывая в щелку, Броглио и свистнул. – Можно войти?
– Милости просим! – отвечал Малиновский. – Но как вы, братцы, пронюхали?
– Верхним чутьем.
– Нет, нижним: через Сазонова! – перебил Тырков и, чрезвычайно довольный своей дешевой остротой, во все горло загрохотал.
Пущин переглянулся с тремя приятелями.
– Ну, что я давеча говорил? Сазонов – ужасный пройдоха! Одним уж выдал.
– А тебе жалко небось поделиться с нами? – спросил Броглио.
– Нет, сделай милость…
– Да у вас тут, пожалуй, ничего путного и не осталось?
– А вот, видишь, сколько еще яиц и сахару; рому же мы почти вовсе не тронули: подливали только для аромату.
– Эх вы, горе-лицеисты! Что, брат, Тырковиус, покажем им, как надо варить гоголь-моголь? – отнесся он к своему спутнику и хлопнул последнего по плечу с такой силой, что тот даже присел.
– Покажем! – молодцевато отозвался простоватый Тырков. – Заваривай!
…Прозвонил вечерний 9-часовой звонок, сзывавший лицеистов к ужину. Но в столовой не было еще ни души. Дежурный гувернер Калинич направился в рекреационный зал, откуда доносились гам и хохот.
Центром веселья оказался Тырков, которого посреди зала широким кругом обступили товарищи.
– Ай да Тырковиус! Ну-ка еще! – раздавались кругом одобрительные крики.
При входе гувернера произошло общее смятение, и все со смехом повалили в столовую, оставив посреди зала одного Тырковиуса. Тот, лихо подбоченясь и расставив ноги, посоловелыми глазами уставился на Калинича и щелкнул языком.
– Да вы здоровы ли, Тырков? – спросил гувернер, подозрительно всматриваясь в него.
– Покорнейше вас благодарю! – отвечал Тырков, во весь рот осклабляясь и отвешивая необычайно развязный поклон. – А ваше здоровье как, Фотий Петрович?
– Вы в самом деле, кажется, не совсем в нормальном состоянии, – еще более настоятельно заметил Фотий Петрович. – Я советовал бы вам теперь же идти к себе в камеру и прилечь.
– Без ужина? За что же-с это?
– Вы и так, кажется, лишнее перехватили…
– Ах нет-с, совсем даже не лишнее: чуточку только гоголю-моголю…
– То-то вот чуточку! Ступайте-ка, право, наверх к себе и не показывайтесь больше.
– Фотий Петрович, голубчик! – слезно уже взмолился Тырков. – Мне до тошноты есть хочется! Дозвольте поужинать с другими в столовой!
– Но обещаетесь ли вы вести себя скромно?
– Уж так скромно, Фотий Петрович! Сами знаете, как я скромен…
– Ну, Бог с вами! Только смотрите у меня!
Но, несмотря на свое обещание, Тырков, подзадориваемый за столом товарищами, продолжал выказывать такое «ненормальное» настроение, что Фотий Петрович счел наконец нужным послать за надзирателем Фроловым. Тот не замедлил явиться, и начался формальный допрос.
От лицеистов надзиратель ничего не добился; точно так же и прислуга сначала от всего отнекивалась. Но подвернувшийся тут Сазонов будто проговорился, что слышал кое-что от Леонтья. Потом, припертый к стене начальником, с тем же наивным видом поведал далее, что Леонтий отпустил, дескать, при нем на гоголь-моголь яиц да сахару, а его, Сазонова, хотел послать в лавочку за ромом, но он отговорился недосугом.
– Бога в тебе нет, Константин!.. – напустился на него Леонтий. – Яиц и сахару я, точно, каюсь, отпустил…
– Цыц! Молчать! – оборвал его надзиратель. – Вас обоих мы еще разберем; во всяком случае, тебе, Леонтий, не быть уже старшим дядькой да и не продавать тебе с нынешнего дня воспитанникам ни единого сухаря; слышишь? А кто был заказчиком у него, Константин? – обратился он опять к Сазонову.
Угрожающий ропот между лицеистами заставил Сазонова опять съежиться и отпереться.
– Виноват, ваше высокоблагородие, – пробормотал он, – ей-ей, запамятовал.
Фролов круто обернулся к лицеистам и заговорил так:
– Товарищество – дело святое, господа. Тех из вас, что не выдают зачинщиков, я не очень виню; но тех двух-трех, которые всему виною и которые, оберегая свою шкуру, прячутся за других – как прикажете назвать? Они – трусы, хуже того – изменники… Что-о-о-с? Дайте договорить. Да-с, изменники, потому что в свою беду втягивают весь класс, ни душой, ни телом не повинный. Верно я говорю, Пушкин, ась? – отнесся надзиратель к Пушкину, вероятно случайно, потому только, что тот стоял впереди других и что физиономия его еще прежде ему примелькалась. Но он попал как раз в цель. Пушкин выступил из ряда и признался:
– Верно, Степан Степаныч, и позвольте повиниться: я зачинщик.
– И я! и я! и я! – откликнулись за ним еще трое: Пущин, Малиновский и Дельвиг.
– Нет, Степан Степаныч, Дельвига я позвал, – вступился Пушкин, – вы его, пожалуйста, увольте.
– Гм… так и быть, ступайте, – решил Степан Степанович. – Всех вас, значит, сколько же: трое?
– Трое.
В это время протеснился вперед граф Броглио.
– Правду сказать, Степан Степаныч, и я в этой пьеске играл небольшую роль…
– Небольшую?
– Да, так сказать, выходную, и не с первой сцены, потому что несколько запоздал…
– Стало быть, вы, граф, не были первым зачинщиком?
– Не первым, но…
– Ну, и благодарите Бога. А вы трое извольте-ка идти под арест и ждать решения. Ты, Константин, отвечаешь мне за них!
На следующее утро в Петербург поскакал нарочный с донесением от Гауеншильда; а на третий день в Царское прибыл сам министр, граф Разумовский. Трем «зачинщикам» был сделан строгий выговор, а проступок их был передан на решение конференции профессоров. Решение состоялось такое:
1) Две недели провинившимся стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы.
2) Пересадить их за столом на последние места.
3) Занести их фамилии в черную книгу.
Все три пункта были исполнены в точности. Две недели подряд, изо дня в день, наши три приятеля выстаивали молитву на коленях. За едой им были отведены самые невыгодные места в конце стола, где кушанье подавалось после всех; но так как, вообще, воспитанники рассаживались по поведению, то вскоре оштрафованные имели возможность подвинуться вверх. Относительно черной книги, которая должна была иметь значение при выпуске из лицея, мы скажем подробнее в свое время, в одной из последующих глав.
Но более, чем зачинщики, более даже, чем бравый старик покровитель их обер-провиантмейстер Леонтий Кемерский, пострадал его подчиненный, младший дядька Фома. От погребщика, у которого была добыта им злосчастная бутылка рому, пронырливый Сазонов разведал, кому она была отпущена. В тот же день и час Фома должен был навсегда убраться из Царского. Однако еще до его ухода лицеисты старшего курса, прослышав о постигшей его беде, сделали посильную складчину, чтобы хоть чем-нибудь вознаградить беднягу за потерю места.
В средних числах января 1816 года Гауеншильд, по собственной его усиленной просьбе, был также уволен от обязанностей директора, и временное «директорство» было возложено на Фролова, который успел уже зарекомендовать себя энергией и распорядительностью.
«Директорство» Фролова длилось не более двух недель, но оно надолго осталось памятным лицеистам. Первым делом его было назначение Сазонова старшим дядькой и обер-провиантмейстером.
Отозвалось это назначение на лицеистах особенно чувствительно потому, что они сговорились никаких лакомств у этого «фискала» не покупать и, таким образом, добровольно приговорили себя к голодовке на неопределенное время.
Далее, Фролов признал нужным подвергнуть их везде и во всем самому строгому надзору. Так, гулять их водили не иначе, как под двойным конвоем; отлучаться в свои дортуары они могли только по особым билетам; даже газеты и журналы попадали к ним в руки не ранее, как после самой тщательной цензуры со стороны гувернеров, которые должны были вырезывать все «нецензурное». За столом воспитанников рассаживали, как уже сказано, по поведению, вследствие чего у них сложилась даже поговорка:
Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.
Карцер ни одного дня почти не пустовал, а лицеисты младшего курса за всякую провинность, смех или громкое слово простаивали по часам на коленях.
Порядок, казалось, был окончательно восстановлен. И вдруг… вдруг по лицею пронеслась почти невероятная, ужасная весть, которая перевернула все вверх дном. Недалеко от лицея было совершено зверское убийство: старик разносчик и находившийся при нем мальчик были найдены плавающими в крови, а за ближней оградой был отыскан окровавленный топор. По топору напали на след убийцы. И кто же оказался им?
Не кто иной, как вновь возведенный в старшие дядьки Сазонов, который, как вскоре потом было дознано, и прежде этого уже имел на своей совести не одну человеческую душу. Само собой разумеется, что преступник был отдан в руки правосудия.
Но случай этот дал последний толчок «междуцарствию». Прибывший тотчас же в Царское Село министр был, прежде всего, неприятно поражен представившейся ему в рекреационном зале картиной: чуть ли не весь младший курс в две шеренги стоял там на коленях.
– Это что за комедия? – нахмурясь, спросил министр.
– Проштрафились, ваше сиятельство, – отвечал почтительно Фролов. – Смею доложить…
Граф сделал нетерпеливое движение.
– У вас здесь, видно, повальное непослушание?
– Точно так-с: повальная болезнь. Одно средство: военная муштровка. Ежели бы ваше сиятельство соизволили разрешить ввести поротное обучение воинским артикулам, маршировку в три приема…
Министр так выразительно отмахнулся, что надзиратель замолк на полуфразе.
– Встаньте, господа! – обратился граф Разумовский к мальчикам. – Я возлагал всегда большие надежды на лицей, я любил лицеистов как собственных детей; а теперь, господа, – теперь я, видите, краснею за своих детей! Надеюсь, что никого из вас я уж никогда больше не увижу в этом униженном положении.
Добрые слова министра оказали на мальчуганов большее влияние, чем вынесенное ими наказание. По крайней мере, редкий из них после того стоял еще на коленях. А скоро и надобность в том миновала: 27 января 1816 года в лицей был назначен наконец постоянный, «настоящий» директор в лице Энгельгардта, директора петербургского педагогического института.
Фролов номинально хотя и продолжал числиться еще надзирателем, но совсем стушевался, а в начале следующего, 1817 года и вовсе оставил службу. Но некоторые черты его двухнедельного управления сохранились в новой «национальной песне», которую воспитанники часто потом распевали хором. Вот несколько куплетов этой нехитрой песни:
Детей ты ставишь на колени,
От графа слушаешь ты пени…
По поведенью мы хлебаем,
А все молитву просыпаем…
Наверх пускал нас по билетам,
Цензуру учредил газетам…
Очистил место Константину,
Леонтья чуть не выгнал в спину…
Очень может быть, что и Пушкину принадлежит тот или другой куплет. Гораздо менее вероятно участие его в небольшой поэме «Сазоновиада», появившейся в последнем номере «Лицейского мудреца» за 1815 год, крайне слабой по конструкции стиха[36]. Зато несомненно, что междуцарствие подало Пушкину мысль к басне о грешной душе, переходящей из рук в руки, от одного черта к другому. Басня эта, как и многие другие юношеские опыты его, затерялась. Наконец, на Сазонова он написал еще эпиграмму, в которой кстати задел и добрейшего доктора Пешеля:
Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым.
Мой друг! Остался я живым,
Но был уж смерти под косою;
Сазонов был моим слугою,
А Пешель лекарем моим!
Глава XV
Директор Энгельгардт
Лишь только Анджело вступил во управленье,
И все тотчас другим порядком потекло,
Пружины ржавые опять пришли в движенье,
Законы поднялись, хватая в когти зло…
«Анджело»
Хотя назначение Энгельгардта директором лицея состоялось еще в январе 1816 года, но сдача им своему преемнику прежней своей должности – директора педагогического института – задержала его в Петербурге до первых чисел марта. Из присланного между тем в правление лицея формулярного списка нового директора лицеисты уже знали: что он родился в Риге в 1775 году (стало быть, ему было с небольшим 40 лет); что он воспитывался в Дерптском университете и что еще молодым человеком 26 лет он был назначен помощником статс-секретаря государственного совета, а последние четыре года был начальником педагогического института. Насколько лицеисты были заинтересованы его личностью, видно из следующих строк Илличевского к петербургскому школьному другу своему Фуссу, писанных 17 февраля 1816 года:
«Благодарю тебя, что ты нас поздравляешь с новым директором; он уже был у нас. Если можно судить по наружности, то Энгельгардт человек не худой. Vous sentez la pointe[37]? Не поленись написать мне о нем подробнее; это для нас не будет лишним. Мы все желаем, чтоб он был человек прямой, чтоб не был к одним Engel (ангел), а к другим hart (строг)».
Опасения лицеистов были напрасны. С первого же дня Энгельгардт, очень опытный педагог, поставил себя как к прочему служебному персоналу, так и к воспитанникам в самые правильные отношения. С профессорами он сошелся как с старыми знакомыми, потому что присутствовал еще в 1811 году на акте открытия лицея и, выпросив себе тогда у Куницына копию с произнесенной последним блестящей вступительной речи, в тот же вечер перевел ее на немецкий язык, а затем, вместе с объяснительною к ней статьею, напечатал в «Дерптском журнале». Но так как он, с чисто немецкою аккуратностью, все время свое, с утра до ночи, посвящал вверенному ему заведению, то и профессора, на лекции которых он часто заглядывал, поневоле должны были сами «подтянуться» да и «подтянуть» учеников. Но, странно, лицеисты почти не чувствовали наложенной на них узды; не чувствовали потому, что узда эта служила Энгельгардту не столько для сдерживания, сколько для направления пылкой молодежи.
– Школа должна быть для ученика родным домом, – говаривал он, – чем более разумной свободы, тем более и самостоятельности, сознания собственного достоинства.
Эту-то «разумную свободу» он старался предоставить им во всем. Так, при самом поступлении своем в лицей, они немало гордились своей щегольской, парадной, «почти военной» формой: треуголкой, белыми в обтяжку суконными панталонами и высокими ботфортами. Но на деле форма эта оказалась довольно стеснительной: треуголку сдувало ветром; тесные и светлые панталоны легко рвались и пачкались, а в ботфортах было неудобно бегать. И вот Энгельгардт выхлопотал им вместо треуголок – фуражки с черным бархатным околышем и красными кантами, вместо узких, белых панталон – просторные синие, а вместо ботфортов – сапоги. В отличие же старшего курса от младшего, первым дали на мундирах золотые петлицы, а вторым – серебряные, что льстило также, конечно, самолюбию старших.
Во время «директорства» подполковника Фролова воспитанники были приучены по-военному застегиваться наглухо на все пуговицы. То же делали они вначале и при Энгельгардте. Но раз он застал их врасплох в рекреационном зале, когда они, набегавшись до третьего пота, расстегнули куртки, чтобы остыть. Оторопев, ближайшие к нему пробормотали что-то в извинение и стали поспешно застегиваться.
– Да ведь вам жарко, друзья мои? – сказал Энгельгардт. – Под курткой же у вас жилеты; стало быть, костюм ваш и так совершенно приличен.
Нечего говорить, что после этого лицеисты застегивались на все пуговицы только от холода.
Видя, с какою жадностью они накидываются на новые журналы, Энгельгардт озаботился доставить им больше полезного чтения. По его ходатайству лицею была уступлена библиотека царскосельского Александровского дворца и стали присылаться в лицей избранные книги из числа поступавших в департамент народного просвещения, так что благодаря ему лицейская библиотека вскоре возросла до 7 000 томов.
Чтобы, однако, приохотить воспитанников и к чтению классических сочинений, Энгельгардт завел в конференц-зале литературные вечера. Обладая особенным даром читать на разные голоса, он читал по большей части сам, и лицеистам очень полюбились эти чтения.
По заведенному порядку, несколько раз в году в лицее бывали спектакли и танцы, а именно: в первое воскресенье после 19 октября (день открытия лицея), на Рождестве и иногда на Масленице. Энгельгардт не только сохранил эти празднества, но еще упорядочил их, придал им образовательное значение и сам редактировал и даже сочинял представляемые пьесы. В то же время он обратил особенное внимание на пение и музыку, которые поручил хорошему капельмейстеру, барону Теппер де Фергюсону, так что лицейские концерты приобрели некоторого рода известность и за стенами лицея. Расходы на все эти собрания лицеисты по-прежнему покрывали складчиной, в которую богатые, по собственному уже побуждению, вносили, конечно, больше менее состоятельных.
Для телесных упражнений воспитанников Энгельгардт завел гимнастику, а в парке зимой устраивал для них ледяные горы и каток.
Раз до него дошел слух, что в Павловске у императрицы Марии Федоровны какой-то заезжий итальянец давал представления с маленькой дрессированной лошадкой. Он не замедлил послать за этим искусником, и на лицейском дворе, в присутствии всех обитателей лицея: начальства, воспитанников и прислуги, франт-итальянец во фраке, треугольной шляпе, чулках и башмаках вывел свою ученую лошадку, которая премило кланялась публике, сгибая передние ноги, и ударом копыта отвечала на задаваемые вопросы о времени, о числе собранных тут лицеистов и т. п. Для финала сам «синьоре профессоре» (как величал себя фокусник) просвистал несколько итальянских арий соловьем. Графу Броглио последнее так понравилось, что он за приличное вознаграждение упросил искусника дать ему несколько приватных уроков и, действительно, научился у него щелкать и рокотать почти по-соловьиному.
Всем описанным не ограничивались заботы Энгельгар-дта о лицеистах. Зимою, в праздники, он возил их на тройках за город, а летом, захватив с собой провизии, совершал с ними пешком отдаленные «географические» экскурсии, продолжавшиеся день и два.
Наконец, находя, что домашнее воспитание должно служить фундаментом для воспитания школьного и общественного, что вращение в семейном кругу и особенно в женском обществе «шлифует» угловатые манеры, смягчает нравы необузданной молодежи, – он выхлопотал у министра лицеистам старшего курса право отлучаться после уроков в город, т. е. в Царское Село и Софию, в знакомые им семейные дома, и точно так же открыл им двери и в собственный свой дом. Семья его состояла из жены и пятерых детей[38]. Кроме того, в доме у него проживала молодая родственница – вдова Мария Смит, урожденная Шарон-Лароз, впоследствии вышедшая замуж за Паскаля, очень милая и остроумная дама. Ежедневно несколько человек лицеистов приглашались на квартиру директора и проводили здесь вечер в непринужденной беседе, в чтении по ролям театральных пьес, в общественных играх.
Здесь же, у Энгельгардтов, они увидели впервые запросто, как обыкновенного смертного, императора Александра Павловича. Государь, давно знавший и оценивший Энгельгардта, при встрече с ним в парке охотно с ним заговаривал, а иногда заглядывал к нему и в дом. Так зашел он раз под вечер, когда у директора собралась уже компания лицеистов, в том числе и Пушкин.
– Вижу и радуюсь, что директор и его воспитанники составляют одну нераздельную семью, – сказал он; затем, обернувшись к хозяину, добавил: – Твои воспитанники, стало быть, для тебя не мертвый педагогический материал, а живые люди?
– Ваше величество, – отвечал Энгельгардт, – позвольте мне повторить то, что сами вы при мне приказывали вашему придворному садовнику, когда я имел раз счастье сопровождать вас на прогулке. «Где увидишь протоптанную тропинку, – сказали вы ему, – там смело прокладывай дорожку: это – указание, что есть потребность в ней».
– А у молодых людей, заметил ты, вероятно, не меньшая потребность в обществе взрослых и семейных людей?
– Да, ваше величество, в особенности же это важно для юношей восторженных и талантливых, которые подают большие надежды, но, по выходе из заведения, среди беспокойной толпы очутились бы как на бурном море.
– Так есть между твоими воспитанниками и такие? – спросил государь и, прищурясь своими близорукими глазами, с любопытством оглядел вытянувшихся в ряд лицеистов.
– Одного я имею возможность сейчас представить вашему величеству, – сказал Энгельгардт и, подойдя к Пушкину, подвел его за руку к государю. – Это – Александр Пушкин, будущая надежда и краса родной литературы.
– Я читал твои «Воспоминания о Царском» и стихи на мое «возвращение», – ласково произнес Александр Павлович. – Старайся – и я тебя не забуду.
Поэт-лицеист от неожиданности был до того смущен, что ничего не нашелся ответить. Император, делая вид, что не замечает его замешательства, обратился опять к Энгельгардту.
– Ты, я полагаю, теперь уже не раскаиваешься, что принял от меня должность начальника лицея?
– Нет, государь, не только не раскаиваюсь, но полагаю, что всякий подданный ваш может мне позавидовать, – не потому, чтобы обязанности мои были так легки, а потому, что нет деятельности полезнее для общества, как деятельность добросовестного педагога.
– Ты полагаешь?
– Я убежден в этом. Всякая другая деятельность, как бы она ни была усердна, остается единичною; педагог же воспитывает, дает отечеству десятки примерных граждан и тем удесятеряет свою деятельность на пользу общества.
– Ты прав, – сказал государь. – Воспитание юношества – самое благородное занятие, но, я думаю, и самое трудное! Мне остается только гордиться тем, что я выбрал тебя, что я – твой хозяин, как ты – хозяин твоего верного Султана. Кстати, что его не видать?
– Отслужил уже свою службу, ваше величество, – со вздохом отвечал Энгельгардт, – и прошлой зимой приказал долго жить.
– А жаль: славный пес был!
Сказав еще несколько милостивых слов хозяйке и молодым людям, император удалился. Лицеистов заинтересовало, почему вдруг Александр Павлович вспомнил о собаке директора?
– Султан мой был огромный водолаз и вернейший пес, – объяснил Энгельгардт. – И летом, и зимой он сторожил здесь в Царском нашу дачу. Чужих он вообще очень неохотно пропускал в дом; военных же особенно недолюбливал. И вот однажды, когда я сидел в кабинете за письменной работой, за окошком раздался шум подъезжающего экипажа и страшный собачий лай. Я выглянул – да так и обмер: у калитки остановилась царская коляска; в саду же никого не было, кроме Султана, который с бешеным лаем огромными скачками бежал навстречу государю! Не помню уж, как я сам выскочил на балкон. И что же я вижу? Государь стоит совершенно спокойно там же, у калитки, и ласкает моего Султана, а Султан лижет ему ласкающую руку.
– Что ты так бледен, Энгельгардт? – спросил меня государь. – Ты нездоров?
– От испуга, ваше величество, – отвечал я. – Я услышал лай собаки и увидел вашу коляску…
– Чего же тебе было пугаться? Ведь она тебя, я думаю, слушается?
– Слушается, государь; но ведь я – ее хозяин…
– А я – твой хозяин, – сказал с улыбкой государь. – Ты видишь, собака это хорошо понимает: она мне руку лижет.
Большинство лицеистов в скором времени оценило нового директора и с каждым днем все более привязывалось к нему. Даже своевольный граф Броглио, попытавшийся было сначала выйти из-под его власти, сам собой смирился. Дело было так.
Все лицейское начальство до сих пор говорило лицеистам «вы». Исключение делал иногда только (как уже упомянуто нами) надзиратель Фролов, когда был в духе.
– Что с него взыскивать, – говорили меж собой лицеисты, – он – старый служака, военная косточка!
И вдруг теперь Энгельгардт, человек уже не военный, придававший особенное значение приличному, деликатному обращению, с первого же дня стал говорить без разбору всем воспитанникам «ты».
– Какое право он имеет так фамильярничать с нами? – зароптал громче всех надменный Броглио. – Мы, кажется, уже не такие малюточки! Я его когда-нибудь хорошенько проучу!
– Ну, не решишься, – усомнились товарищи.
– Я-то не решусь? А вот погодите: обрею лучше бритвы!
Он воспользовался для того первым случаем, когда директор проходил через рекреационный зал. Ласково заговаривая по пути то с одним, то с другим, Энгельгардт подошел только что к дверям в столовую, когда Броглио, протиснувшись мимо него, задел его локтем и, пробормотав вскользь: «Виноват!», посвистывая, прошел далее.
– Послушай-ка, Броглио! – раздался позади него голос директора.
Броглио на ходу озирался по сторонам с таким видом, будто недоумевает, к кому могут относиться эти слова.
– Граф Броглио! – вторично окликнул его Энгельгардт. Тот с самою утонченною вежливостью подошел к начальнику и шаркнул ногой.
– Вы меня звали, Егор Антоныч?
– Звал. У тебя, мой друг, дурная привычка – свистать.
Броглио опять обернулся через плечо, как бы желая удостовериться, нет ли кого у него за спиной.
– Вы с кем это говорите, Егор Антоныч?
– С вами, ваше сиятельство!
– Ах, со мной! А то я подумал, что тут стоит какой-нибудь сторож, потому что нас, лицеистов, слава Богу, никто из начальства еще до сих пор не «тыкал».
Ходившие по залу и громко разговаривавшие между собой товарищи молодого графа теперь остановились, примолкли и с затаенным любопытством следили за возникшим между ним и директором препирательством.
– Виноват, ваше сиятельство! – произнес с явной иронией Энгельгардт, нимало при этом не возвышая голоса. – Говорил я вам «ты» не потому, что считал вас сторожем (хотя манера ваша толкаться и свистать – скорее прилична сторожу, чем лицеисту), но потому, что в воспитанниках вижу как бы моих родных детей и обращаюсь с ними, как с собственными детьми. Но вы, граф, можете быть отныне совершенно покойны: насильно я не буду вам отцом, и вы для меня будете только казенным воспитанником.







