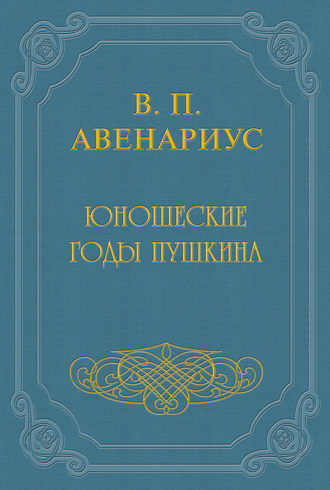
Василий Авенариус
Юношеские годы Пушкина
Глава XXI
Господа лейб-гусары
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
«Песнь о вещем Олеге»
Встречаясь иногда на своей утренней прогулке по царскосельскому парку с директором Энгельгардтом, император Александр Павлович охотно с ним заговаривал.
– А найдутся ли между твоими лицеистами желающие пойти в военную службу? – спросил он его однажды на такой прогулке.
– Найдутся, ваше величество, – отвечал Энгельгардт и подавил вздох.
– Ты как будто вздыхаешь?
– Нет, государь, я так…
– Сколько человек?
– Человек десять, если не более.
– Так надо познакомить их с фронтом.
– Простите, ваше величество, за откровенное слово, – с решимостью заговорил Энгельгардт. – По высочайшей воле вашей я был призван управлять лицеем и не смел уклониться от этой ответственной задачи. Задача облегчалась мне хоть тем, что я видел перед собой высокую цель – воспитать поколение истинно государственных людей. Оружия же я в жизнь свою никогда не носил, кроме одного домашнего, которое у меня всегда в кармане, – прибавил он, показывая государю складной садовый ножик. – Если бы поэтому вашему величеству угодно уже было ввести в лицей ружье, то я, как человек самый мирный, не был бы в силах управиться с этим новым военным училищем и с душевною скорбью должен был бы просить меня уволить.
Александр Павлович сделал еще попытку убедить Энгельгардта, но безуспешно.
– Тебя не переспоришь! – наконец сказал он. – Но сам же ты говоришь, что между твоими воспитанниками найдутся и такие, которые по доброй воле сделаются военными. Насильно ты их от того не удержишь. Поэтому переспроси-ка всех: кто хочет идти по какой части, и для будущих воинов мы введем военные науки.
Против этого Энгельгардт не мог уже возражать. Он собрал лицеистов и объявил им о решении государя. Почти половина курса заявила тут же желание быть военными. В числе желающих оказались, между прочим, Вальховский, Пущин, Малиновский и граф Броглио.
– А ты что же, Пушкин? – спросил Броглио. – Уж кому, как не тебе, с твоим задорным нравом быть военным человеком!
Пример двух приятелей: Пущина и Малиновского, действительно, сильно соблазнял Пушкина.
– Я подумаю, – отвечал он, – надо посоветоваться еще с родными.
– Очень нужно, если само сердце твое тебе говорит, что делать! – не отставал искуситель. – Да чего лучше: я ведь бываю у здешних гусаров. Нынче Каверин опять звал меня к себе. Будут и другие. Пойдем, я тебя познакомлю. Они уже заявляли мне, что хотели бы узнать ближе нашего первого поэта.
– Рассказывай!
– Нет, серьезно. Я обещался им как-нибудь затащить тебя в их компанию.
– А Чаадаев тоже бывает в этой компании?
– Чаадаев? М-да, случается… Да ведь это вовсе не настоящий гусар, а какой-то философ, бука!
– Ну, а я пошел бы только ради него: я видел его у Карамзиных, и он мне, напротив, очень понравился.
– На вкус, конечно, мастера нет. Я говорю ведь, что и он бывает. Пойдешь, а?
Пушкин не стал уже упираться, и в тот же вечер Броглио ввел его в веселое общество царскосельских лейб-гусаров. Между последними, точно, был на этот раз и Чаадаев. Он поздоровался с Пушкиным просто, как со старым знакомым; остальные офицеры с сдержанным любопытством критически оглядывали с ног до головы «первого» лицейского поэта, которого, без сомнения, видели уже мельком и на музыке.
– Так что же, Петр Яковлич, – не без иронии отнесся один из младших гусаров к товарищу-философу, – война, по-твоему, не что иное, как общественная повальная болезнь?
– Да, и самая жестокая, самая гибельная, – отвечал Чаадаев со спокойным достоинством, – потому что никакая моровая язва не уносит столько человеческих жертв; точно так же и материально война наносит обществу гораздо более вреда, чем какая бы то ни было эпидемия. Но, с другой стороны, я должен сказать, война – высшая школа жизни…
– Вот на!
– Потому что она научает нас истинному христианскому милосердию.
– Новый парадокс!
– Нет, не парадокс, и я докажу это сейчас на примере. Было то под Вязьмой. Семеновский полк наш (в котором, как вы знаете, я начал службу) после жаркого боя отдыхал на бивуаках. Свежеиспеченный прапор, я лежал около костра с другими офицерами. Вдруг подбегает к нам какая-то бабенка с грудным младенцем на руках.
– Батюшки-сударики! – вопит она и судорожно прижимает ребенка к груди.
– Что с тобой, матушка? – спрашиваем мы.
– Спасите, отцы родные! Сиротинку отнять хотят!
– Сиротинку? Так, значит, он не твой?
– Мой, господа милостивые, теперя-то мой! Даром что француженок…
– Да где ты обзавелась француженком?
– В Москве, вишь, в кормилицы к нему взяли…
– Как же ты вольной волей к врагам кормилицей пошла?
– Не вольной волей, батюшки, – насильно взяли. Да вот здесь, под Вязьмой, отца-то его наши пристрелили; мать в сумятице невесть куда запропала; и остался бедняжечка на руках у меня один-одинешенек!
– Так чего ж ты жалеешь это зелье? – шутливо заметил один из офицеров. – Брось его! Что тебе возиться с ним, со щенком?
– Ой, нет, Бога ради, не троньте! – взмолилась бабенка, еще крепче обхватила младенца и принялась голубить его. – Хотя ты и француженок, да как же мне не любить тебя, сиротинку? Бедный ты мой, бедный!
Товарищи-гусары, как и Пушкин, слушали Чаадаева с сочувственной улыбкой. Один Броглио насмешливо оглядывался кругом, как бы удивляясь их «сентиментальности».
– И вы так и не отняли его у нее? – спросил он рассказчика.
– А сами вы, скажите, решились бы отнять? – серьезно спросил его тот в ответ. – Другой случай был, пожалуй, еще назидательней. Он был не со мной, а с одним моим приятелем-офицером. В пылу сражения под Красным наши захватили целую партию французов, отвели их в сторону, наскоро заперли в отдельный сарайчик да там и забыли. Спустя уже сутки, а может и более, приятель мой со своей ротой случайно проходил мимо сарайчика. Вдруг слышит он оттуда стоны и вопли. Раскрыл дверь – и отшатнулся. Глазам его представилась потрясающая картина: на земле сидели и лежали, дрожа от холода, прижимаясь друг к дружке, несчастные исхудалые оборванцы в окровавленных лохмотьях, с искалеченными членами, с разрубленными головами. Увидев русского офицера, они все разом простерли к нему руки с отчаянным криком:
– Воды! Воды!
Он позвал солдат и велел достать ушат воды. Но лишь только ушат был внесен в сарай, как его уже опрокинули: все раненые, изнывая от жажды, гурьбой накинулись на него и разлили воду. Поднялись попреки и брань. Товарищ мой не без труда успокоил ожесточенных, взял с них слово терпеливо ждать и затем велел принести второй ушат и кружку. Раненые слушались его уже, как дети своей няни, и он каждого по очереди напоил из кружки. Но тут оказалось, что бедняки более суток ничего и не ели, и он подал им горсть черствых сухарей. Повторилась прежняя свалка, сухари вырывались из рук друг у друга, рассыпались по земляному полу и никому не достались. Опять пришлось ему уговаривать обезумевших и по очереди раздать им по сухарю. Один только из всех пленных, который сидел в самом дальнем углу, все время не тронулся с места и, скрестив на груди руки, равнодушно, казалось, наблюдал за товарищами.
– Кто вы такой и почему ничего не просите? – спросил его мой приятель.
– Я – офицер, как и вы, – отвечал гордо пленный, – и, когда солдаты мои утоляют свою жажду, свой голод, я могу ждать помощи только молча.
После второго рассказа Чаадаева наступило минутное, как бы благоговейное молчание, точно каждый присутствующий, даже легкомысленный Броглио, представлял себя на месте пленного французского офицера. Первым нарушил молчание молодой хозяин, корнет-повеса Каверин.
– Что и требовалось доказать, как говаривал у нас в корпусе учитель геометрии, – сказал он. – Милосердие – вещь прекрасная для женщин, для поэтов (Каверин любезно кивнул в сторону Пушкина), но не для нашего брата военного. Мы знаем тебя, Петр Яковлич, очень недавно (Чаадаев перешел в лейб-гусары только месяца за два перед тем), но слухом земля полнится: мы слышали, что ты идешь в огонь впереди других и не имеешь привычки «кланяться пулям». Иначе, право, легко можно было бы подумать, что ты записался в монахи либо в «братья милосердия». Мы живем в практическом девятнадцатом веке, и потому первый вопрос: чего больше – пользы или вреда от войны? По-моему – пользы, потому что война освобождает человечество от лишних людей, очищает воздух от застоявшихся миазмов, освежает одуревшие головы и души! Согласитесь сами, господа: побывавши с армией в чужих краях, в чужих людях, не набрались ли мы там более всякой премудрости, чем из каких бы то ни было книг?
– Ты – без сомнения, – с тонким сарказмом заметил Чаадаев.
– А ты думаешь, что я уже вовсе книг не читаю? – обидчиво вскинулся Каверин. – Нет, не шутя, иной раз со скуки на сон грядущий я с удовольствием почитаю. Но речь идет не о нас с тобой, а о массе нам подобных. Многие ли в нашей армии говорят и читают на иностранных языках? Был у меня тоже хороший приятель – по-французски ни в зуб, что называется, толкнуть не знал. Входит он в Париже в ресторан и требует себе «дине»! Заучил, изволите видеть, одно это слово и думает: вывезет! Но гарсон подает ему меню и карандаш. Вот тебе загвоздка! Что тут выберешь, что отчеркнешь? И выговорить-то эти мудреные кушанья язык не повернется… Была не была! Отчеркнул он смело карандашом первые четыре блюда и возвратил меню гарсону. Тот с улыбкой только поклонился и пошел заказывать обед. «Чего ухмыляется эта бестия?» – подумал мой приятель. Вот подали ему тарелку какой-то небывалой похлебки. Разболтал он ее ложкой; понюхал – ничего, пахнет как будто вкусно; стал хлебать и выхлебал дочиста. «Что-то, – думает, – будет дальше?» Несут второе блюдо… Ишь ты: опять какая-то горячая жижа… Нечего делать – и ту одолел. Но вот и третье блюдо – такая же французская бурда! Ах, чтоб вас!.. Отведал – и ложку в сторону: душа уже не принимает. «Ну, – думает, – коли и на четвертое суп, тогда шабаш! Шапку в охапку…» Так оно и вышло: подали четвертый суп. Не смея взглянуть уже на гарсона, он скорей расплатился и – без оглядки в дверь. А я ему тут как нарочно навстречу. «Куда, брат? Отобедал?» Он только отплюнулся и рукой махнул. «Да что? – говорю. – Разве не угодили?» «Да, уж угодили! – говорит. – Обед в четыре блюда – и все-то одне похлебки! Уж эта мне французская стряпня!» Так вот, господа, где подлинная житейская мудрость и польза от войны! – наставительно заключил Каверин свой рассказ.
Рассказывал он так уморительно, с такими выразительными ужимками, и сам с таким видимым самоуслаждением слушал себя, что и те из присутствовавших приятелей его, которым прежде был уже известен описанный случай, весело улыбались; лицеисты же, слышавшие рассказ впервые, просто покатывались со смеху. Только Чаадаев хмурился и нетерпеливо покусывал тонкий ус.
– А всего ведь замечательнее то, – заговорил он вдруг, – что подобные анекдоты повторяются буквально в жизни разных людей: тот же самый случай с теми же самыми прибаутками я слышал уже года два назад от партизана нашего Дениса Давыдова.
Каверин вспыхнул как порох.
– Что вы хотите этим сказать, милостивый государь?
– То, что говорю, милостивый государь: я слов своих не повторяю – и не беру назад.
Каверин подскочил к Чаадаеву.
– Ну, полно же, Каверин! Полно, Чаадаев! – вступились тут со всех сторон прочие товарищи и разняли спорящих.
Чаадаев, зевая в руку, встал и со своим стаканом чаю отошел от общего стола.
– Послушайте, Пушкин, – сказал он, – я хотел спросить вас…
Пушкин не замедлил подойти к офицеру-философу, который успел уже внушить ему безотчетное уважение.
– Сядемте тут, в стороне, – вполголоса промолвил Чаадаев, – скажите: что нового в журналах? Я последних номеров еще не видел.
Как ни тянуло сперва Пушкина к общему столу, где один из гусаров опять, видно, передавал какой-то забавный эпизод из походной жизни, потому что рассказ его неоднократно покрывался дружным смехом, – но литературный разговор с начитанным, глубоко образованным Чаадаевым вскоре так занял его, что он искренно пожалел, когда Чаадаев неожиданно поднялся и стал прощаться.
– Мне надо окончить еще заказанную статью, – объяснил он. – Но мы, Пушкин, надеюсь, видимся с вами не в последний раз?
– У Карамзиных, может быть, удастся встретиться, – отвечал Пушкин.
– Нет, зачем же? Заходите без церемоний ко мне.
Пушкин просиял даже от удовольствия.
– Если не стесню вас, Петр Яковлич…
– Нет, сделайте одолжение; не ожидайте особых приглашений.
Никто из офицеров не удерживал уходящего.
– А вот и самый герой наш, – со смехом указал граф Броглио оставшимся на подошедшего Пушкина. – Расскажи-ка, брат, про наш гоголь-моголь: ты мастер по этой части.
Пушкин не дал просить себя и очень забавно передал известную читателям историю с гоголь-моголем. Гусары слушали его с видимым одобрением, и сами в свою очередь рассказали затем несколько не менее потешных эпизодов собственной жизни.
После этого первого вечера с лейб-гусарами последовало вскоре еще несколько таких же других. Удивительно ли, что пылкому воображению поэта везде теперь мерещились гусары? Стоило ему, например, только заслышать за окном топот лошадиных копыт – и самые идиллические стихи его получали вдруг «гусарский оттенок»[50]. Намерение его сделаться военным было вполне искреннее, и обстоятельства, казалось, нарочно складывались так, чтобы заветное желание его осуществилось. В середине июня в лицей был определен профессором военных наук (артиллерии, фортификации и тактики) инженерный полковник барон Эльснер, и два раза в неделю лицеистов стали отправлять с гувернером в Софийский манеж для обучения верховой езде на полковых лошадях у полковника Кнабенау под главным наблюдением генерала запасного эскадрона Левашова. Последний попал даже в лицейскую «национальную песню». А именно, лицеисты и прежде уже нередко сопровождали Броглио в манеж, чтобы любоваться с галереи его лихой ездой. Генерал Левашов, в том же манеже «муштруя» «своих ребят», шутя спрашивал лицеистов, когда же они начнут учиться ездить. И вот в благодарность за такое внимание они посвятили ему следующий куплет, в котором между французским разговором с господами-лицеистами генерал, как бы в скобках, обращается с русскими наставлениями к солдатам:
«Bonjour, Messieurs…
(Потише! Поводьем не играй!
Уж я тебя потешу!)
A quand l'êquitation?»
Наконец, и учитель фехтования Вальвиль отличал Пушкина от других товарищей, из которых только он да Комовский успели перенять искусство парировать удары одновременно двумя рапирами.
И при всем том Пушкин не сделался военным. Почему? Потому что на него неодолимой волной нахлынули вдруг совершенно новые ощущения, которые на время далеко отбросили его от гусарского круга; а после, когда он снова сблизился с этим кругом, он умственно настолько уже созрел, что не остался глух к голосу рассудка.
Глава XXII
Заговорило ретивое
Простите, игры золотые!
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну…
«Евгений Онегин»
Нелединский-Мелецкий, придворный стихотворец императрицы Марии Федоровны, которого Пушкин в первый раз имел случай мельком видеть летом 1814 года, на Павловском празднике, только однажды побывал еще в лицее на одном из концертов воспитанников. И вот теперь, несколько дней спустя после первого своего посещения Карамзиных, Пушкин совершенно нежданно удостоился чести получить визит от престарелого сановника-стихотворца.
– Лично к вам, молодой человек, – с покровительственной любезностью объявил Нелединский, когда Пушкин вышел к нему в приемную.
– Ко мне? – удивился Пушкин.
– Да-с. Вы слышали, конечно, что в Павловске у нас гостит юный супруг великой княгини Анны Павловны, наследный принц Оранский[51]…
– Слышал.
– Так вот-с, ему готовится у нас большое празднество, и ее величество поручает вам написать на сей конец кантату.
Пушкин был ошеломлен.
– Но вы сами почему же не напишете?.. – пробормотал он. – Ваша лира…
– Сдана в арсенал древнерусских редкостей и более не настраивается, – перебил с грустной улыбкой Нелединский. – Государыня, точно, была столь милостива, что выразила сперва желание, чтобы куплеты были сочинены мною. Но, по счастью, случился тут наш общий добрый знакомец, Николай Михайлыч Карамзин, и указал на вас.
– Николай Михайлыч! Но ведь он так взыскателен к стихам…
– Стало быть, ваши стихи, милый мой, пришлись ему по вкусу. Я вполне на вас рассчитываю.
– Но эти стихи, вероятно, к спеху?
– Весьма даже: торжество завтра, а ныне стихи должны быть уже в моих руках, дабы их можно было на музыку положить и разучить хору.
По лицу Пушкина пробежала тень.
– Мне ни за что не хотелось бы ослушаться императрицы, – промолвил он, – но я не привык вдохновляться по заказу…
– Что делать, любезнейший! Ступайте-ка к себе да постарайтесь вдохновиться; а я здесь посижу, обожду.
– Если бы я только знал, о чем писать…
– Канву я вам, пожалуй, дам, а вы можете уже расписать по ней узоры, – сказал Нелединский. – Злой гений Европы, Наполеон, удален на остров Эльбу, но изменнически возвращается опять в Париж и собирает около себя свои старые дружины. Союзники тоже не дремлют-с и в битве при Ватерлоо наносят злодею последний удар. Но кто является здесь решителем боя? Он, наш царственный гость, младой принц Оранский! Истекая кровью от полученных ран, он до конца не покидает поля. И вот-с, ныне-то любовь супружеская достойно венчает юного героя…
Как ни витиевата была речь маститого сановника-поэта, Пушкин уловил, однако, в ней поэтические черты, и глаза его заблистали.
– Благодарю вас… теперь я знаю, – сказал он и поспешил в свою камеру.
Час спустя Нелединский-Мелецкий мчался уже обратно в Павловск к императрице, увозя с собой одно из наиболее удачных лицейских стихотворений Пушкина – «Принцу Оранскому», а на третий день молодой автор в присутствии целого класса удостоился особого знака высочайшего благоволения.
– Вчера в честь храброго принца Вильгельма Оранского в Розовом павильоне был опять праздник, – сказал, входя, Энгельгардт. – Особенно же понравились всем прекрасные куплеты, которые пропел оперный хор. Куплеты эти, господа, к гордости лицея, написаны одним из вас. Вы догадываетесь, вероятно, кто этот автор?
– Пушкин! Конечно, Пушкин! – заговорили кругом лицеисты.
– Верно, – сказал директор, – и вот ее величество, в знак особого своего благоволения соизволила прислать ему золотые часы с цепочкой.
– Ура! – единодушно загремел весь класс, и на автора со всех сторон посыпались самые искренние поздравления; каждый старался протесниться к нему, чтобы пожать ему руку.
Когда же он подошел к директору, чтобы принять пожалованный ему подарок, Энгельгардт собственноручно надел на него часы и затем крепко поцеловал его со словами:
– Заходи же опять к нам: жене и детям моим хочется также видеть тебя.
– Благодарю вас! – пробормотал только в ответ Пушкин, взволнованный и тронутый до глубины души.
Но к Энгельгардтам он на этот раз опять-таки не попал. Ему подали французскую раздушенную записочку от Екатерины Андреевны Карамзиной:
«Где вы пропадаете, Александр? Мы все хотим лично поздравить вас с монаршей милостью. Целый вечер мы дома».
Оставалось выбирать между двумя домами: Энгельгардтов и Карамзиных. Надо ли говорить, что выбор был не в пользу Энгельгардтов?
Карамзины приняли его, как говорится, с открытыми объятиями. Дети его уже не дичились, и младшие тотчас полезли к нему на колени, чтобы ощупать собственными руками на жилете его тоненькую золотую цепочку, прикладываться ушком к тикающим часам. Старшая девочка, Сонюшка, полузастенчиво предложила прогулку на лодке по большому пруду; но когда она вместе с Пушкиным взялась за весла, то сперва от излишнего усердия, а потом, подобно ему, из шалости забрызгала всех водою. По возвращении домой она шепотом упросила мать дозволить ей быть хоть раз хозяйкой и, рдея от удовольствия, сама разливала чай.
Екатерина Андреевна со своей стороны была также очень общительна, причем главной темой ее беседы были успехи ее и мужа ее при дворе. Пушкин развязно оспаривал ее мнения и на каждое колкое замечание обидчивой аристократки находил не менее острый, но вежливый ответ. Николай Михайлович с серьезной улыбкой благодушно слушал препирательства обоих и изредка лишь сдерживал чрезмерную горячность пылкого лицеиста словами:
– Ну, полно! Кто смеет доказывать дамам, что они ошибаются?
С этих пор Пушкина как-то неодолимо влекло уже к Карамзиным, да и они к нему скоро так привыкли, что, когда проходило дня 3–5 и он не показывался, они посылали в лицей узнать, здоров ли он. Сам Николай Михайлович любил беседовать с развитым не по летам юношей, прочитывал ему целые главы своей ненапечатанной еще «Истории государства Российского» и внимательно выслушивал его незрелые часто, но почти всегда меткие суждения; кончал же обыкновенно тем, что гнал его играть со своими детьми в прятки, пятнашки, горелки. С детьми Пушкин резвился как ребенок, но находил, казалось, еще особенное наслаждение подтрунивать над ними, тормошить их и физически, пока не доводил до слез. Тогда вступалась в дело Екатерина Андреевна, спорить с которою ему, по-видимому, также доставляло большое удовольствие, а она хотя и обходилась с ним, как с мальчиком, но в то же время находила-таки нужным горячо отбиваться от его остроумных нападок.
Та цель, для которой Энгельгардт открыл лицеистам доступ в свою семью, – «шлифовка наружная и душевная» – достигалась понемногу Пушкиным в семье Карамзиных, а также в других семейных домах Царского, куда приглашали молодого поэта: в дамском обществе он поневоле несколько сдерживал, умерял резкие порывы своего необузданного нрава, поневоле «шлифовался», облагораживался. Кроме Карамзиных он бывал в домах коменданта Царского Села графа Ожаровского, Вельо, Севериной, барона Теппера де Фергюсона (учителя пения в лицее), но чаще других – в доме лицейского товарища своего Бакунина, родители которого и молоденькая сестра жили это лето также на даче в Софии. Девица Бакунина была так мила, что не только Пушкин, но и двое ближайших друзей его – Дельвиг и Пущин – посвятили ей не один мадригал.
Заходил Пушкин, наконец, и к старушке тетке Дельвига, которая прибыла из Москвы погостить в Царском и привезла с собой 8-летнюю сестричку барона Мими, или Машу. Последняя при первой же встрече, подобно «большим» барышням, пристала к Пушкину, чтобы он написал ей что-нибудь в альбом.
– Да разве вы, Мими, не получили от Тоси тех стихов, что я вам написал на Рождестве? – спросил Пушкин.
– Ну, что ж это за стихи! – заметила недовольным тоном хорошенькая девочка и встряхнула своими белокурыми локонами.
«Вот тоже критик нашелся!» – подумал Пушкин и стал допытываться:
– Так стихи мои, значит, не хороши?
– Н-нет.
– Почему же?
– Потому, что вы говорите там неправду.
– Неправду?
– Ну да:
Вам восемь лет, а мне семнадцать било…
Разве вам было уж тогда семнадцать?
Пушкин принужденно расхохотался.
– Теперь мне наверное столько: спросите хоть кого. И почем вы, Мими, знаете, сколько мне лет?
– Я не Мими теперь, а Маша… – поправила она его. – Ведь я знаю же, что вы на год почти моложе Тоси. А сами еще говорите дальше, что не лжете:
Уже я стар, мне незнакома ложь:
Послушайте, Амур, как вы, хорош;
Амур – дитя, Амур на вас похож…
Кто это такой – Амур? Я его никогда не видала.
– Рано захотели! – снова рассмеялся Пушкин.
– Ну вот, вы все смеетесь; значит, опять ложь: Амур – какой-нибудь уродец, и вы только насмеялись надо мною!.. – надула она губки.
– Нет, ей-Богу, Амур – премиленький мальчуган! – серьезно уверил ее Пушкин. – Если вам угодно, Машенька, я, пожалуй, напишу что-нибудь другое.
Пасмурное личико девочки разом прояснилось и просияло.
– Ах да! – вскричала она. – Только, пожалуйста, не пишите так важно: «К баронессе Марье Антоновне Дельвиг», а просто как следует: «К Маше».
– Слушаю-с, сударыня, будет исполнено, – с комическою почтительностью отвечал наш поэт и на следующий же день преподнес ей стихи, которые ей понравились несравненно больше и которые начинаются так:
Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать…
В той же мере, как Пушкин втягивался в мирную семейную жизнь, он удалялся от веселого гусарского кружка и только к гусару-мыслителю Чаадаеву заглядывал еще довольно часто; а когда не заставал его дома, то брал у него с полки какую-нибудь капитальную книгу и, усевшись с ногами на диван, жадно пожирал страницу за страницей. Как верно оценил он уже тогда этого замечательного человека, показывает следующее четверостишие его про Чаадаева:
Он высшей волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах – Периклес,
А здесь он – офицер гусарский.
В самое короткое время с Пушкиным, как с каким-то сказочным героем, совершилось удивительное превращение. Напрасно товарищи зазывали его играть на Розовое поле; с видимой неохотой ходил он в их компании даже на музыку. По вечерам только его видели в том или другом семейном доме; а затем на весь день он делался невидимкой. За общим же чаем, за обедом, среди окружающего говора и смеха он погружался в мечтания и шевелил губами, словно рассуждая сам с собой.
– Какой он странный стал! – толковали меж собой про него товарищи. – Точно его подменили… околдовали!
Вскоре загадка, казалось, разъяснилась. Однажды несколько товарищей его на прогулке по парку забрели случайно в отдаленную, заброшенную аллею и застали его там врасплох. С открытыми, неподвижно вытаращенными глазами, ничего как бы перед собой не видя, Пушкин шагал по небольшой площадке взад и вперед, театрально разводя по воздуху руками и декламируя какие-то рифмованные фразы, то возвышая голос, то понижая его опять до чуть слышного шепота.
– Ч-ш-ш-ш! – сказал Илличевский, останавливая других движением руки. – Не видите разве: лунатик!
– Ну да! Лунатик при солнечном свете! – отозвался другой лицеист.
– Вернее всего, с панталыку сбился, как прошлой осенью Кюхельбекер, – заметил граф Броглио, – взбесился от жары либо от собственных стихов. Пешель назвал бы его болезнь стихоманией.
– Нет, господа, болезнь его сидит глубже – в самом сердце! – решил Илличевский. – Эй, Пушкин! Скажи-ка, признайся: по ком это опять у тебя заговорило ретивое?
Теперь только, казалось, Пушкин заметил кучку товарищей, наблюдавших за ним.
– Что вам нужно от меня? – сурово произнес он, оглядывая их сверкающим взором. – Оставьте меня в покое…
– Заговорило ретивое! – повторил насмешливо Илличевский. – Не хочу учиться, хочу жениться.
– Что? Что ты сказал? – вспылил Пушкин и с сжатыми кулаками так грозно подступил к нему, что Илличевский с комическим ужасом отретировался за ближнее дерево.
– Ай, ай, укусит!
– Я говорю ведь, что он взбесился, – сказал Броглио, – уйдемте лучше от беды.
– Шуты гороховые! Клоуны! – буркнул Пушкин и быстро удалился.
В этот день у лицеистов не было других толков, как о Пушкине, у которого «заговорило ретивое». Особенно внимательно прислушивался к этим толкам один товарищ – князь Горчаков, – прислушивался и молчал. Но на другое утро, когда Пушкин опять исчез куда-то, он отправился разыскивать его на любимом его полуострове у большого пруда. Пушкин лежал на спине в траве и мечтательно глядел в вышину.
– Я тебе не мешаю, Пушкин? – тихо спросил Горчаков.
– Ах, это ты, князь? – промолвил Пушкин мягким, как бы расслабленным голосом, мельком взглядывая на него. – Ты зачем-нибудь искал меня?
– Нет, я так… гулял просто… А ты, Пушкин, что тут делаешь?
– Да вот, любуюсь облаками. Прелесть как хороши!
– Можно прилечь к тебе?
– Сделай милость.
Горчаков опустился на траву, прилег на спину рядом с ним.
– В самом деле, – согласился он, – ведь что такое в сущности облака? Туман, холодный пар; а вон как на солнце сияют! Смотреть даже больно… Но что всего интереснее, знаешь, так это то, что эти дымчатые, волнистые массы каждый миг совершенно незаметно меняют форму, и то, что сейчас только представляло какую-то безобразную глыбу или страшное чудище, в следующую минуту обращается уже в смеющееся лицо или в фантастическое волшебное видение. Не то же ли и со всем в мире? С передвижением нашим в пространстве времени не меняются ли точно так же вокруг нас все обстоятельства, а с ними не меняются ли и наши собственные мысли и убеждения? То, что нас вчера еще пугало или печалило, сегодня уже, может быть, нас веселит или пленяет.
– Ты, Горчаков, сам, может быть, не знаешь, как верно твое замечание… – произнес Пушкин, но произнес таким тоном, что приятель быстро приподнялся на локоть и пристально всмотрелся ему в лицо.
– И то ведь, Пушкин, ты в короткое время до того изменился…
– Ты находишь? – задумчиво улыбнулся Пушкин. – Да, в груди у меня точно раскрылась потайная дверка, куда я еще сам не смею заглянуть… Я сам себя еще хорошенько не понимаю. Но одно несомненно: что я пою теперь не с чужого голоса и не вымышленное, и в этом отношении как бы слабы ни были мои нынешние стихи – они все же неизмеримо выше всего, что до сих пор мною написано.
Действительно, стихотворения той мечтательной полосы, которая нашла на Пушкина летом 1816 года, представляют крутой перелом в его поэтической деятельности: в звучных строфах изливая волновавшие его смутные чувства, он сделал первый шаг от подражаний к самостоятельному творчеству, свернул с чужих путей на свою собственную дорогу.
На другой же день после описанного разговора с Горчаковым он сам попросил у последнего его альбом и вписал туда стихи, наглядно характеризующие как его собственное тогдашнее душевное состояние, так и светлую личность Горчакова. Вот начало этого послания:
Встречаюсь я с осьмнадцатой весной.
В последний раз, быть может, я с тобой,
Задумчиво внимая шум дубравный,
Над озером иду рука с рукой.
Где вы, лета беспечности недавной?
С надеждами во цвете юных лет,
Мой милый друг, мы входим в новый свет;
Но там удел назначен нам не равный,
И розно наш оставим в жизни след.
Тебе рукой Фортуны своенравной
Указан путь и счастливый и славный, —
Моя стезя печальна и темна;
И нежная краса тебе дана,
И нравиться блестящий дар природы,
И быстрый ум, и верный, милый нрав;
Ты сотворен для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав…
Я слезы лью, я трачу век напрасно,
Мучительным желанием горя.
Твоя заря – заря весны прекрасной,
Моя ж, мой друг, – осенняя заря…
Когда с наступлением осени Карамзины и Бакунины, два наиболее дорогие Пушкину семейства, съехали с дачи, его одолела сперва невыносимая тоска, разрешившаяся целым рядом элегий: «Осеннее утро», «Разлука», «Опять я ваш, о, юные друзья!..» и проч.
В таком-то настроении застало его и письмо верной его няни Арины Родионовны, присланное из села Михайловского[52].







