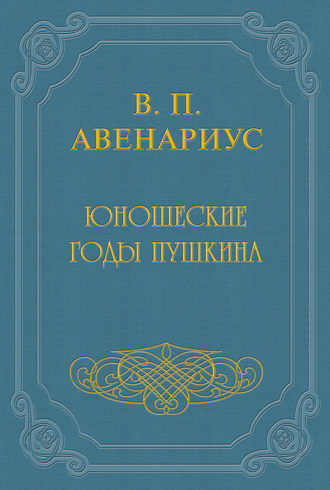
Василий Авенариус
Юношеские годы Пушкина
Глава VIII
Убежище лицеистов
Вот он, приют гостеприимный…
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство…
«Из письма к Я. Н. Толстому»
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым, и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
«19 октября»
Второй день уже Пушкин лежал в лазарете. Был ли он тогда действительно болен? Об этом не сохранилось достоверных сведений. Несомненно одно, что добрейший доктор Пешель, начинавший также ценить назревавший талант молодого лицеиста, по первому его требованию охотно отводил ему больничную койку, на которой Пушкин имел полный досуг предаваться своей стихотворной страсти. Здесь-то возникли многие из лучших строф его лицейских стихотворений.
– Что-то опять стряпает Пушкин? – говорил шепотом горячий поклонник его, Кюхельбекер, сидевшему в классе рядом с ним Дельвигу. – Если б только подглядеть в его поэтическую кухню…
– И испортить ему всю стряпню, – хладнокровно досказал Дельвиг. – Ты очень хорошо знаешь, Кюхля, что Пушкин терпеть не может, когда ему мешают.
– Знаю, дружище, знаю, и потому сам уж к нему без спросу ни ногой. Но что бы тебе, Тося, спуститься к нему в лазарет и осторожно выпытать, не прочтет ли он нам хоть того, что у него готово? На тебя-то, закадычного друга, он не рассердится.
Дельвиг пожал плечами.
– Пожалуй, узнаем.
Результат визита Дельвига к своему «закадычному» другу был неожиданно благоприятный: все записные лицейские поэты, в том числе и Кюхельбекер, получили негласное приглашение в лазарет. Новый надзиратель, подполковник Фролов, который с первого же дня вступления в должность своим солдатски-резким обращением с воспитанниками успел поставить между собой и ими неприступную стену формализма, отнюдь не должен был знать об этом сборище в «не показанном» для того месте. Поэтому один только дежурный гувернер Чириков, верный и испытанный покровитель лицейской Музы, был посвящен в тайну. Под его-то прикрытием, собравшись после 5-часового вечернего чая на обычную прогулку, приглашенные отделились от остальных товарищей и завернули в лазарет.
– Извините, господа, что я вас принимаю в таком, не совсем салонном, облачении, – развязно встретил их хозяин-Пушкин, запахивая на груди свой больничный халат. – Прошу садиться.
Гости, пошучивая также, расположились кругом на чем попало: на кровати, на столе, на табуретах.
Всем было очень любопытно прослушать новейшее произведение первенствующего собрата. Но ни у кого нетерпение не выражалось так явственно, как у Кюхельбекера. Присев было на край кровати, он тотчас вскочил опять на ноги, потому что и сам Пушкин со своими стихами в руках остался стоять посреди комнаты.
– Позволь мне, Пушкин, стать около тебя, – проговорил он заискивающим голосом. – Ты ведь знаешь, я немножко туг на ухо от золотухи…
– Хорошо! – сказал Пушкин. – Только ты все же не стеклянный. Отойди-ка от света.
– Ах, прости, пожалуйста!
– Так и быть, прощаю. Пьеса моя, господа, носит название «Пирующие студенты». По заглавию вы уже, конечно, догадываетесь, что студенты эти – мы.
– Эге! Вот оно что! – обрадовался Кюхельбекер и стал потирать руки. – Но когда же мы, однако, пировали?
– А ты, видно, прозевал? Поздравляю! Пирушки наши, Сергей Гаврилыч, как вы знаете, происходят у профессора Галича и в действительности самые трезвые, – продолжал Пушкин, обращаясь к гувернеру, – чай да булочное печенье, но в стихах позволителен некоторый полет фантазии, licentia poetica (поэтическая вольность).
– Ну ладно, читай! – нетерпеливо перебили его товарищи.
– Друзья! Досужный час настал,
Все тихо, все в покое… —
начал поэт. Все кругом притаилось; можно было, кажется, расслышать полет мухи, если бы в то время года водились мухи. Но вот автор предлагает избрать президента «пирующих». Кого-то он назовет? —
Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale!..
Главу венками убери —
Будь нашим президентом…
– Браво! Браво! – раздались вокруг одобрительные голоса.
– Дайте же ему читать, господа! – умоляющим тоном промолвил Кюхельбекер.
Пушкин продолжал:
– Дай руку, Дельвиг! Что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни: здесь круг твоих друзей…
При первом же обращении Пушкина к своему другу-поэту взоры всех присутствующих устремились на Дельвига, на бледных щеках которого вспыхнула даже легкая краска. Но вскоре оказалось, что автор никого из приятелей-поэтов не обошел, и, когда он называл того или другого, остальные, кивая, подмигивая или просто улыбаясь, оборачивались к называемому. Сейчас за Дельвигом упоминался известный мастер на экспромты и эпиграммы, Илличевский:
Остряк любезный! По рукам!
Полней бокал досуга!
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга!
За Илличевским следовал князь Горчаков, «красавец молодой, сиятельный повеса», а за Горчаковым – Пущин. Когда Пушкин начал только:
– Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнем рукою руку… —
и машинально протянул к нему руку, – Пущин, в порыве дружбы, схватил ее да так тряхнул, что у Пушкина суставы хрустнули, и он невольно вскрикнул.
– Да разве в самом деле больно? – всполошился Пущин и принялся растирать пальцы друга.
– Эй, фельдшер! Свинцовой примочки! – крикнул шутливо Илличевский.
– Шпанскую мушку! – подхватил кто-то другой. Среди общей веселости Пушкин закончил куплет, посвященный Пущину:
– Нередко и бранимся…
И тотчас помиримся.
– Да как с тобой не помиришься, голубчик? – вполголоса заметил Пущин.
Едва замолкший смех опять возобновился, когда очередь дошла до Яковлева:
А ты, который с детских лет
Одним весельем дышишь,
Забавный, право, ты поэт,
Хоть плохо басни пишешь…
– Да я никогда и не рассчитывал, господа, угоняться за вами, – скромно отнесся Яковлев к трем светилам лицейским: Пушкину, Дельвигу и Илличевскому.
– Ну что ж это, право! Совсем слушать не дают! – заворчал опять Кюхельбекер, который, как видно, уже смутно чуял, что и на его пай перепадет стишок.
Но ему пришлось несколько потерпеть: ранее его были упомянуты еще двое: Малиновский —
…повеса из повес,
На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
Приятель неизменный… —
и Корсаков, «певец, любимый Аполлоном», воспевающий «властителя сердец» «гитары тихим звоном».
«Неужели он меня одного забыл? – мелькнуло в голове Кюхельбекера, когда по интонации голоса чтеца можно было уже заключить, что чтение подходит к концу. – За что ж такая немилость?»
– Где вы, товарищи, где я?
Скажите, Вакха ради… —
начал Пушкин последний куплет. —
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради…
Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне уснуть скорее.
Эффект от заключительной эпиграммы вышел полный. Кюхельбекер, почти помирившийся уже с мыслью, что он забыт, был ошеломлен, как ударом кулака в лоб; остальные же слушатели, забыв уже про автора, как по уговору, всей гурьбой кинулись к Вильгельму и, наперерыв прижимая его к груди, приговаривали:
– Вильгельм! Прочти свои стихи —
Чтоб нам уснуть скорее!
Теснимый со всех сторон, Вильгельм рычал, как медведь, неуклюже отбиваясь. Когда же, благодаря заступничеству Пушкина, он высвободился наконец от непрошеных объятий, то Пушкин должен был, по настоятельной его просьбе, вторично прочесть стихи сначала, причем Кюхельбекер, по своему природному добродушию, сам уже с другими смеялся над усыпительностью своих стихов.
– С Дельвига ты начал, мною кончил, стало быть, он – альфа, а я – омега лицейских «снотворцев», – самодовольно сострил он.
– С тою только существенною разницею, – пояснил острослов Илличевский, – что ты «снотворствуешь» в действительном залоге, а Дельвиг в страдательном, ты усыпляешь, а он засыпает.
По поводу приведенного выше стихотворения «Пирующие студенты» кстати будет здесь подтвердить еще раз то, что говорил Пушкин Чирикову о собраниях у профессора Галича: как свидетельствуют участники этих собраний, «пирушки», описываемые во многих лицейских стихах Пушкина, происходили исключительно в пылком воображении молодого поэта, подобно тому как он свою «монастырскую келью» в лицее «для красоты слога» очерчивает в послании «К сестре» так:
Стул ветхий, необитый
И шаткая постель,
Сосуд, водой налитый,
Соломенна свирель…
От солдатской «муштровки» надзирателя Фролова лицеистам необходимо было какое-нибудь убежище, где бы можно было им поразмять члены, перевести дух; и вот таким-то убежищем служила уютная комнатка гостеприимного Галича. За стаканом чая да трубкой действительно запрещенного табаку они могли тут по душе наговориться – о чем? Да прежде всего, разумеется, о своих литературных делах. В одном из своих посланий к Галичу Пушкин пишет:
Смотри, тебе в награду
Наш Дельвиг, наш поэт,
Несет свою балладу
И стансы винограду…
И все к тебе нагрянем —
И снова каждый день
Стихами, прозой станем
Мы гнать печали тень.
Но чтением друг другу собственных своих юношеских опытов далеко не исчерпывались эти беседы лицеистов. Зачитываясь вновь выходящими журналами, всевозможными историческими и даже философскими книгами из лицейской библиотеки, они, под свежим впечатлением прочитанного, имели неодолимую потребность обмениваться возбужденными в них новыми мыслями, изощряться в «празднословии» и «праздномыслии» (собственные выражения Пушкина).
Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые…
«Евгений Онегин»
Одно, впрочем, из таких сборищ у Галича, особенно бурное, имело преимущественно учебный характер. Дело в том, что общий шестилетний курс лицейский разделялся на два трехгодичных – младшего и старшего возраста. Между тем 19 октября 1814 года истекло уже первое трехлетие пребывания Пушкина и его товарищей в лицее, и для перехода в старший курс им предстояло теперь сдать по всем предметам полный экзамен, который, в довершение всего, должен был происходить еще публично. Хотя для облегчения лицеистов экзамен этот был отложен до января 1815 года, тем не менее они трепетали не на шутку.
– Помилуйте, Александр Иваныч! На вас вся надежда! – пристали они к Галичу, как только собрались опять у него.
– То-то! Взялись за ум, да поздно! – подтрунил над ними молодой профессор. – О чем же вы, господа, раньше-то думали?
– Гром не грянет – мужик не перекрестится, – заметил Горчаков. – А впрочем, на Бога надейся, да сам не плошай, говорит другая пословица.
– Ну да! Тебе-то, Горчаков, хорошо толковать, – возразил Пушкин. – Тебя, да Вальховского, да, пожалуй, зубрилу Кюхельбекера хоть сейчас проэкзаменуй – не срежетесь. Зато мы, прочие, провалимся… до центра земли!
– А кто же виноват в этом, друг мой? – спросил Галич.
– Да уж, разумеется, не мы.
– Не вы? Так уж не мы ли, ваши наставники?
– А то кто же? Зачем нас порядком не приструнили?
– Так, так. С больной головы да на здоровую…
– Нет, господа, – вмешался Пущин, – виновато во всем наше беспутное междуцарствие: нет твердой руки над нами – и все вновь расползлось.
– А новый надзиратель ваш, Фролов? – спросил Галич. – Кажется, человек твердый!
– Да, как камень! Но мы все-таки, как бы то ни было, не совсем уж дети или пешки; а он как нами помыкает:
– Руки по швам! Цыц! Молчать!
– Позвольте объяснить вам, Степан Степаныч… – начнешь, бывало, только.
– Что-о-о-с? Вы еще объясняться? Молокососы!
– Извините, Степан Степаныч, молокососами нас даже профессора не называют.
– Молчать, говорят вам! Марш в карцер! Еще рассуждать вздумали!..
Рассуждать, конечно, перестанешь, но – и слушаться тоже.
– Вот это напрасно, – сказал Галич, – он, так ли, сяк ли, ваш первый начальник, потому что Гауеншильд хотя и числится за директора, но так занят своим пансионом, что ему не до вас. А что Степан Степаныч ввел у нас некоторый порядок – этого, я думаю, вы не станете отрицать. Новый эконом, Камараш, кормит вас ведь лучше Золотарева?
– Лучше. Но ведь это новая метла, Александр Иваныч…
– Все равно; на продовольствие вам пока, стало быть, жаловаться нельзя. Затем, по предложению же Фролова, у вас введено теперь фехтование, введены танцы. То и другое как упражнение в телесной ловкости вовсе не лишнее. Далее: он хлопочет уже о том, чтобы сделать для вас обязательным и верховую езду, то есть то самое, что до сих пор было только привилегией графа Броглио. Словом, он не знает покоя, стараясь сделать из лицея образцовое, по его понятиям, заведение.
– По его понятиям – да! – подхватил Пушкин. – Он, может быть, и сделал для нас то, другое, но все это не выкупает тех стеснений, которые мы от него выносим. Воспитанник закрытого учебного заведения, согласитесь, должен чувствовать там себя более или менее как дома; лицей и был для нас до сих пор как бы родным домом; но, по милости Фролова, он скоро, кажется, совсем нам опостылит.
– Эх, господа! – сказал Галич. – Немножечко обкарнали вам крылышки, чтобы далеко не залетали, так вы уж и судьбу свою клянете. Чтобы верно судить о предмете, надо сравнивать его всегда с другими однородными. Слышали вы про иезуитский коллегиум в Петербурге?
– Как не слыхать! – отвечал Пушкин. – Меня самого даже родители предполагали сперва пристроить туда; но тут как раз открылся лицей – и меня отдали сюда.
– Благодарите же Бога, что не попали к иезуитам!
– А что же? Ведь коллегиум их считается в Петербурге чуть ли не самым аристократическим заведением?
– Многие аристократы, точно, отдают туда своих детей. Но почему? Потому, что коллегиум в моде, а в моде потому, что все предметы, даже русская словесность, преподаются там по-французски; французский же язык нынче для нас дороже своего отечественного! Наконец, древние языки, а также и математика, как слышно, идут там довольно успешно. Зато родная речь и православный Закон Божий в полном загоне.
– Потому, верно, что начальство училища – католические патеры?
– Да. На устах ведь у этих господ христианское милосердие, а на деле – неумолимая строгость.
– На языке мед, а под языком лед?
– Буквально. За малейший проступок воспитанники лишаются свободы и пищи, подвергаются телесному наказанию. Но это еще не все. Они шагу ступить не могут, чтобы обо всем не узнало сейчас их начальство.
– Какими же путями?
– А во-первых, в дверях дортуаров у них, конечно, проделаны такие же решетки, как и у вас здесь, в лицее. Но, по природному благодушию русского человека, гувернеры ваши нимало не стесняют вас своим надзором. Питомцы же иезуитов ни на минуту не могут быть уверены, что из-за решетки не следит за ними зоркий глаз, чуткое ухо дежурного патера. Они не могут быть даже уверены в собственных своих товарищах: выбранные начальством из их же среды аудиторы переспрашивают уроки и непокорных выдают головою. А несколько человек из них, без ведома остальных, играют роль шпионов и доносчиков, по иезуитскому правилу: цель оправдывает средства…
– Но это Бог знает что такое! Это не жизнь, а ад! – ужасались лицеисты.
– И я чуть было не угодил туда… – проговорил, с дрожью в теле, Пушкин.
– Зато стали бы тихим, аки агнец, и мудрым, аки змий! – с горькой усмешкой заметил Галич.
– И как это еще терпят у нас подобное заведение?
– Пока терпели; но дни господ иезуитов, я слышал, уже сочтены[18]. Так вот, друзья мои, и извольте-ка сравнить положение тех воспитанников с вашим. Телесных наказаний у вас не допускается уже по самому уставу лицея. Свобода ваша ничем почти не стеснена. Вы видаетесь с вашими родными когда угодно; гуляете по парку и между публикой у музыки без опасения, что кто-нибудь вас подслушает; вы бываете даже в городе на домашних спектаклях у графа Толстого; собираетесь вот у меня для литературных бесед; наконец, можете посвящать страсти вашей к поэзии все ваше досужное время…
– И даже недосужное! – подхватил весельчак Илличевский. – Недавно, знаете, на уроке алгебры у профессора Карцова вышел презабавный анекдот. Пушкин, как обыкновенно, уселся на задней скамейке, чтобы удобнее, знаете, было писать стихи. Вдруг Яков Иваныч вызывает его к доске. Он очнулся, как со сна, идет к доске, берет мелок в руки да и стоит с разинутым ртом.
– Чего вы ждете? Пишите же! – говорит ему Яков Иваныч.
Стал он писать формулы, пишет себе да пишет, исписал всю доску. Профессор смотрит и молчит, только тихо, про себя, посмеивается.
– Что же у вас вышло? – спрашивает он наконец. – Чему равняется икс?
Пушкин сам тоже смеется.
– Нулю! – говорит он.
– Хорошо! – говорит Яков Иваныч. – У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи.
Анекдот Илличевского имел полный успех: все весело захохотали, начиная с Галича и кончая самим Пушкиным.
– Да ведь математика – Ахиллесова пята моя, – заговорил Пушкин. – Другое дело, например, не менее серьезный предмет – логика. Потому ли, что Куницын читает ее так занимательно, потому ли, что он лично так расположен ко мне, или же естественная логика дается мне легче искусственной – математической, – только к логике я готовлюсь всегда очень охотно.
– Хотя и не имеешь собственных записок! – смеясь, добавил Илличевский.
– На что мне они, коли я могу взять их всегда у любого из вас? – был легкомысленный ответ.
(Надо заметить, что в то время в лицее не было еще печатных руководств и лицеисты переписывали для себя тетради профессоров.)
– На меня, Пушкин, вам тоже, я думаю, нельзя жаловаться, чтобы я чересчур прижимал вас? – спросил Галич.
– О нет! Вы-то, Александр Иваныч, очень снисходительны…
– Так кто же чересчур взыскателен? Кайданов?
– Нет, историю я тоже люблю и, обыкновенно, знаю урок.
– Так не де Будри же? Ведь недаром товарищи вас прозвали даже Французом.
– Нет, с Давидом Иванычем мы большие приятели, – отвечал Пушкин. – Но зато с немцем Гауеншильдом воюем не на жизнь, а на смерть.
– Только-то, значит? Нравом он, пожалуй, действительно, тяжел, но у него есть и свои достоинства: он хорошо знает свой предмет, он начитан. И из-за него-то одного вы, Пушкин, готовы разлюбить наш дорогой лицей?
– Вы забываете, Александр Иваныч, нового нашего надзирателя Фролова.
– Гм… да, хотя и он, как сказано, служит по мере сил и уменья. Ну что ж, и на солнце есть пятна, так как же земному учреждению, лицею, быть без них? По примеру древней Руси, земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Однако вам-то, господа поэты, это только на руку: на невозделанной тучной ниве вашей рядом с сорными травами расцветают и пышные розаны – цветы истинной поэзии.
– Все это совершенно справедливо, Александр Иваныч, – согласился деловым тоном Пущин, – но в данную минуту нам нужны не цветы, а плоды, или, вернее, горькие корни науки; по милости безначалия учение у нас, надо сознаться, шло это время довольно-таки плохо, и если вы, профессора, нас не выручите на экзамене, то мы вас поневоле уже не выручим.
– Да, видно, придется вас на сей раз хоть за виски вытянуть из воды! – сказал Галич.
– Хоть за виски! Сделайте божескую милость! – взмолились хором лицеисты.
– Постараюсь.
Молодой профессор сдержал свое обещание, и лицеисты, от первого до последнего, вышли сухи из воды.
Глава IX
Державин в лицее
И славный старец наш, царей певец избранный,
Крылатым Гением и Грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной.
«К Жуковскому»
Наступило Рождество; но, вместо двухнедельного отдыха от классных занятий, лицеистов ждала теперь усиленная «долбня»: во время самых праздников, 4 января, предстоял им уже первый экзамен, а четыре дня спустя – второй. Правда, благодаря в особенности содействию Галича, задача им была значительно облегчена: секретно каждому из них было объявлено, какой билет, из чего и кого спросят. Но так как испытание должно было происходить публично и присутствующей публике предоставлялось право также предлагать воспитанникам вопросы, то им надо было быть готовыми на всякие случайности. С утра до вечера шла «долбня» вперегонку, и даже в свободные часы, в рекреацию и за столом, только и было речи, что о научных премудростях.
Но вот от правления лицея разослали приглашения присутствовать на экзамене родителям воспитанников и разным высокопоставленным лицам. В числе последних был и Державин. Понятно, что для лицейских стихотворцев ожидаемая встреча с «маститым бардом российским» отодвинула на задний план даже ближайшую злобу дня – экзамен. Поэты нового поколения, Батюшков и Жуковский, звучностью и плавностью стихов превосходившие напыщенного старика Державина, были им, правда, доступнее его и милее; но Державин стоял тогда на самой высоте своей авторской славы, и перед этим колоссом отечественной поэзии вместе со всей образованной Россией безотчетно благоговели и юноши-лицеисты.
– Братцы! Видел ли кто-нибудь из вас Державина? – переспрашивали они друг друга.
Оказалось, что никто из них не только в глаза его не видал, но не имел и ясного понятия о нем, как о человеке. Любопытство их в этом отношении вполне удовлетворил бывший гувернер лицейский Иконников, который хотя и жил теперь в Петербурге, но сохранил к своим прежним питомцам неизменную привязанность, и на рождественских праздниках, по обыкновению, «по образу пешего хождения», то есть пешком, опять навестил их в Царском Селе. Все, что рассказал ему его дед, актер Дмитревский, о пребывании своем в Званке у Державина, он передал теперь дословно лицеистам. Те, понятно, не проронили ни одного слова.
– Так Державин, стало быть, человек как человек! – с облегчением заметил Илличевский. – А мы, Александр Николаич, признаться, таки побаивались: он представлялся нам каким-то полубогом. Начальство же выдает ему нас головою.
– Как так? – спросил Иконников.
– Да так-с: всем нам задали сочинить рассуждение на одну из двух тем – «О причинах, охлаждающих любовь к отечеству» и «О цели человеческой жизни». Настрочили мы как умели и отправили наши писания в Питер, к министру, чтобы он сам выбрал лучшее для прочтения на экзамене. На наше счастье, впрочем, взяли у каждого из нас также и лучшее, что написано нами без заказу. Я охотнее всего, конечно, дал бы свою новую комическую оперу…
– Комическую оперу? Вот куда у вас уж пошло!
– Да-с… вольный перевод, знаете, из Сегюра… Но потому-то именно, что не совсем свое, пришлось послать оригинальную мелочь: «Осенний вечер». Надеюсь, что и этой мелочью лицом в грязь не шлепнусь.
Так лицейские поэты, еще за две недели до экзамена, были празднично настроены ожидаемой встречей с Державиным. Тут возвратились и рукописи их от графа Разумовского. Увы! Иллического надежда обманула; по собственному его выражению, он «шлепнулся лицом в грязь»: оба произведения его – и заказное, и оригинальное – были забракованы. Из прозаических сочинений на заданную тему граф отдал предпочтение рассуждению Яковлева «О причинах, охлаждающих любовь к отечеству»; из стихотворных же выбор его пал на пушкинские «Воспоминания в Царском Селе».
Молодой автор, втайне ликуя, перед товарищами, разумеется, старался не показать и виду. Но сердце в нем все же невольно замирало. До сих пор он сам ведь был так доволен своими стихами; а теперь, при мысли о Державине, который должен был произнести над ним последний приговор, – как неблагозвучны, как бессодержательны представлялись ему даже целые строфы! Ну, да чему быть, того не миновать: от своей судьбы не уйдешь!
Наконец настал и первый роковой день – 4 января 1815 года. Но мы не станем утомлять читателей подробностями экзамена. Предоставленная профессорами лицеистам льгота – отвечать на вперед заданные им вопросы – привела к желанному результату, судя уже по той хвалебной заметке, которая затем появилась в журнале «Сын Отечества»:
«Испытание сие, удовлетворив ожиданиям публики, свидетельствует, с каким отеческим старанием начальство печется о образовании ввереннего ему юношества».
Прибавим только от себя, что первыми оба раза были вызываемы князь Горчаков и Вальховский, которые, несмотря на то что сам министр спрашивал их вразбивку по всему курсу, отвечали бойко, как по книжке, без запинки. После такого блестящего начала ни один уже из посторонних посетителей не воспользовался предоставленным им правом предлагать вопросы и прочим лицеистам, которые, таким образом, понятно, «удовлетворили ожиданиям публики». Если и были некоторые прорухи, то их совсем скрасил финал того и другого дня. Первый день испытания увенчался небольшою, но многосодержательною и цветистою речью профессора «нравственных наук» Куницына и «нравоучительным» рассуждением лицеиста Яковлева, прочтенным самим автором.
Второй день заключился еще более эффектно… Но мы забегаем вперед.
С утра уже этого второго дня лицейские стихотворцы были в сильном возбуждении: Державин, по старческой дряхлости отсутствовавший 4 января, обещал непременно быть сегодня, 8 числа, чтобы высказаться насчет их литературных дарований. С отцом своим, Сергеем Львовичем, прибывшим также еще до начала экзамена, Пушкин мимоходом только поздоровался: все его мысли были устремлены на одного Державина.
– Я чувствую себя, точно молодой рекрут перед первым боем, – признался он Дельвигу. – А тебе, барон, не жутко?
– Довольно с тебя, – отвечал тот, – что я проснулся нынче даже ранее звонка, что дал себе слово… ну да, дал себе слово поцеловать руку, написавшую «Водопад»!
– Вот как! А он ее тебе, ты воображаешь, так и подставит?
– Нет, я выжду его нарочно на лестнице, возьму да и поцелую.
– Посмотрим!
Дельвиг не шутил. Чтобы не пропустить случая, он еще до съезда большей части гостей вышел на парадную лестницу и стал дожидаться там на нижнем повороте. Пушкин остался на верхней площадке. Ждать им пришлось довольно долго. Наконец стеклянная дверь внизу снова стукнула, и швейцар стал торопливо снимать медвежью шубу с высокого, сгорбленного старца. Перевесившись через перила, Пушкин видел сверху, как Дельвиг живо соскользнул по перилам до нижней площадки. В то же время донесся оттуда дребезжащий голос Державина, спрашивавшего что-то у швейцара.
Но что это с бароном? Он в двух шагах от великого старца поворотился вдруг налево кругом и без оглядки взлетел опять вверх по ступеням.
– Отчего ж ты не поцеловал у него руки? – спросил Пушкин.
Дельвиг только усмехнулся.
– Да говори же: в чем дело?
– Ты, Пушкин, разве не слышал, что он спросил у швейцара?
– Нет.
– Ну, и не спрашивай лучше. Меня как водой окатило. Он поэт в душе, но прозаик на деле.
Испытание из разных предметов, не имевших никакого отношения к «российской словесности», длилось несколько часов и не могло не утомить Державина. Сидя за экзаменационным столом рядом с графом Разумовским, он подпер голову рукой и, совершенно безучастный ко всему окружающему, как бы задремал с полузакрытыми веками. Но взоры Пушкина невольно как-то все тянуло в его сторону. Гаврила Романович был на этот раз, разумеется, в «полном параде»: в парике с косичкой и в позолоченном мундире, украшенном двумя звездами. Но, вглядываясь в его могучую, словно согнувшуюся под собственной тяжестью фигуру, Пушкин живо представлял его себе в излюбленном им домашнем костюме: колпаке и халате, с Тайкой за пазухой.
«Это – старый спящий лев, – думалось ему, – все-то он на свете перевидел, ничем его не удивишь. Но почует он только сквозь сон запах свежины – родной поэзии – и встряхнет гривой, воспрянет от сна».
И точно: уже с первых вопросов по русскому языку, которым завершался экзамен, «старый лев» приосанился и сбросил с себя тяготевшую на нем лень[19]. Да, впрочем, и не диво: что бы ни разбирали, какие бы темы ни задавались, – везде и во всем выдвигали вперед его же, Державина. Оду его «Бог» разобрали, можно сказать, по ниточкам и в заключение пришли к выводу, что по полету фантазии, по образности выражений и по глубине религиозного чувства – ничего подобного нет ни в русской, ни в одной из иностранных литератур.
– М-да, осенил меня Господь, – заговорил польщенный «бард российский», и в тусклых глазах его, как из-под пепла, затлился былой огонь. – Стоял я (как теперь помню) у заутрени на Светлый праздник… Заронилась в душу искра Божия… Разгорелось сердце… Брызнули градом слезы от восторга… И вот, пришед домой, с чувством, исполненным несказанной благодарности, написал я то, что мне сердце подсказало, – начальные строфы моей лучшей оды.
– Да ведь все они у вас, Гаврила Романыч, одинаково превосходны, – любезно заметил ему сосед-министр.
– Недурны-с, ваше сиятельство; могу сказать без излишней скромности: доселе лучших нету. Но они тоже – прах, забудутся однажды, как многое иное. Трагедии же мои, наперекор моим зоилам, предрекаю вам, будут вечно жить!
На лбу «старого льва» вырезалась грозная складка, и он окинул окружающих царственным взглядом. На тонких губах Разумовского зазмеилась снисходительная усмешка.
– Потомство вас, ваше высокопревосходительство, конечно, лучше современников оценит… – сказал он.
– Потомство? Разве что потомство.
«Бедный! – подумал Пушкин, вспомнивший рассказ Иконникова о неудачных драматических опытах великого лирика. – Ну, зачем ты выдаешь себя головою, зачем показываешь себя нараспашку перед людьми, которые недостойны подвязать тебе подвязки?»
Графу Разумовскому, по-видимому, также стало жаль старика.
– Не перейти ли нам теперь, Гаврила Романыч, к оценке первого лепета лицейской Музы? – сказал он. – Дабы не докучать вам многословием, мы остановили выбор на единой, по нашему мнению, наиболее зрелой вещице, скомпонованной по образцу и плану бессмертных творений российского Орфея – певца Фелицы.
При этих словах министр почтительно преклонил голову перед «певцом Фелицы». Слегка омраченные черты последнего опять прояснились.
– Посмакуем, – произнес он, пожевывая губами, точно вперед смакуя уже предлагаемый ему на пробу литературный плод.
– Пожалуйте-ка сюда, Пушкин! – вызвал молодого автора профессор словесности Галич.
Эту решительную в жизни его минуту Пушкин предвидел уже с самого утра, и нервы его были напряжены до последней крайности. В волнении, словно увлекаемый неодолимой силой, рванулся он к зеленому столу с пергаментным листом стихов в руках.
– Старые знакомые! – благосклонно встретил его граф Разумовский. – Станьте тут, поближе к Гавриле Романычу.
Пушкин послушался и взглянул прямо в лицо Державину, который сидел не далее как на аршин от него. Волнение, охватившее юношу, не скрылось, видно, и от старика поэта, потому что, как бы для ободрения его, тот задал ему вопрос:
– Что у вас приготовлено: переводное или свое?
– Свое… – отвечал Пушкин, и сам не узнал своего голоса: вместо звучного баритона из уст его вылетела какая-то звонкая фистула.
– Хвалю, – сказал Державин, – в юности переводить небезопасно: легко заразиться подражательностью. На старости лет, как выдохнетесь, поспеете заняться этим. Теперь же пишите что на ум взбредет, но только свое. Пишите, но не печатайте! Что прибыли отдавать себя на суд площадных критиканов? Не количество, дружок мой, а качество стихов венчает поэта. Недаром и мне, бывалому стихотвору, говаривали приятели:







