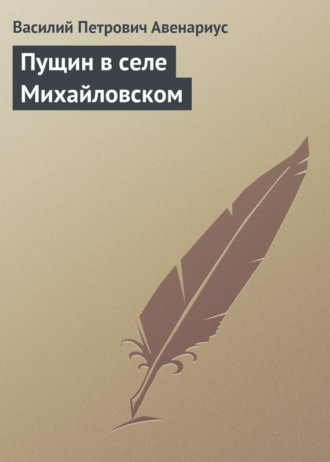
Василий Авенариус
Пущин в селе Михайловском
VI
Хотя драгоценная рукопись и появилась из чемодана Пущина, но читать ее сейчас же Пушкину не пришлось: няня, накрывавшая на стол, запротестовала и заставила их сесть, чтобы «каша не остыла».
– И ничего лучше каши для редкого гостя ты, няня, не придумала? – укорил ее Пушкин.
– Да не сам ли ты, родимый, не раз говаривал, что гречневая каша вкуснее всякой похлебки? – оправдывалась старушка.
– Разумеется, вкуснее, – поддержал ее гость, – гречневая каша сама себя хвалит. Еще в лицее у нас не было блюда почетнее.
Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе[16].
Оба лицеиста обнаружили к любимому блюду такой «лицейский» аппетит, что хлопотавшая около них Арина Родионовна могла быть совершенно довольна. Когда же она подала второе блюдо – жареного гуся, начиненного капустой и яблоками, – торжество ее было полное: наперерыв уплетая за обе щеки, они только похваливали и гуся, и хозяйку-няню.
– Остается запить доброй домашней наливкой, – сказал Пушкин, протягивая руку за одной из стоявших перед ними бутылок.
– Погоди! – остановил его за руку Пущин и мигнул старушке.
Та только ожидала этого знака и юркнула за дверь. Вслед за тем рядом в коридоре хлопнула пробка. Пушкин, недоумевая, поднял голову.
– Это что такое?
– Салютная пальба, – усмехнулся Пущин.
Влетевший в это время Алексей поспешил наполнить им стаканы из завернутой в салфетку длинногорлой бутылки.
– Но откуда сие, Пущин? – спросил Пушкин, торопять отпить, пока пенистый напиток не перебежал через край.
– Из Шампаньи, от вдовы Клико.
– Это мы, ваша милость, по пути сюда, ночью в Острове раздобыли, – пояснил со своей стороны Алексей. – Насилу-то в винном погребе достучались!
– За царя и Русь! – возгласил Пушкин и звонко чокнулся с другом.
Второй тост был за процветание лицея, третий – за отсутствующих друзей.
– А теперь за няню из нянь, – сказал Пущин. – Алексей! Вторую бутылку!
Арина Родионовна стала было уверять, что не пьет этих заморских вин, но когда пригубила стакан, так не скоро уже отняла его от губ.
– После искрометного «аи»[17] пить домашнее варево как-то даже не пристало, – заметил Пушкин. – Вот что, няня: убери-ка эту наливку к себе в девичью и угости своих мастериц во здравье дорогого гостя.
– Помилуй, батюшка! Чтобы я сама их поила…
– А вот Алексей тебе поможет. Голубчик, Алексей, угости-ка их всех там хорошенько. Мы веселы – так пусть все веселятся.
Алексей знал, видно, свое дело: немного погодя из девичьей через две притворенные двери долетели женские голоса с раскатистым смехом и хоровая песня.
Между тем няня подала господам кофе и трубки.
– Вместо ликера упьемся теперь грибоедовским сладким «Горем», – сказал Пушкин и, взяв рукопись, стал читать ее вслух.
Во всей читающей России едва ли нашелся бы в то время больший знаток и ценитель изящной литературы, как Пушкин. Какое поэтому эстетическое наслаждение должен был он испытывать при первом чтении несравненной комедии! Не раз прерывал он сам себя, чтобы выразить свой восторг или сделать какое-нибудь меткое замечание.
Но чтение внезапно было прервано посторонним лицом. Кто-то подъехал к крыльцу. Пушкин выглянул в окно – и поспешно отложил в сторону рукопись, а вместо того раскрыл на письменном столе лежавшую тут же «Четьи-Минею»{«Четьи-Минея» – жития святых на каждый день месяца (в данном случае – на январь).}.
– Что это значит? – спросил Пущин. – Кто это к тебе пожаловал?
Пушкин еще не ответил, как на пороге показалось то лицо, которое произвело такой переполох, – пожилой монах низенького роста. Оба друга, один за другим, подошли под его благословение. Усадив нового гостя на диван, Пушкин шепнул няне, чтобы подала живее чаю с ромом. Монах между тем назвался Пущину настоятелем Святогорского Духова монастыря, отстоящего в пяти верстах от сельца Михайловского.
– Прошу извинить, буде помешал, – продолжал он. – Но до сведения моего дошло, что сюда прибыл гость по фамилии Пущин, и я чаял найти моего старого знакомца, уроженца великолуцкого, Павла Сергеевича Пущина, коего давно не видал.
Украдкой переглянувшись с Пушкиным, который что-то совсем присмирел, Пущин объяснил, что он – школьный товарищ Пушкина, однофамилец же его, генерал Пущин, командует бригадой в Кишиневе.
– Так-с, – проговорил отец игумен. – Тоже стишки пописывать изволите?
– Во всю жизнь ни одного стиха не сочинил, – отвечал Пущин.
– Хвалю. А то, в самом деле, что за радость в молодые годы из-за каких-то четырех строчек-с сидеть в четырех стенах четыре месяца… Ведь столько времени мы с вами здесь, кажись, уже знакомы? – отнесся он к Пушкину.
– Около того…
– Да-с, четыре месяца, из коих – почем знать? – могут стать и четыре года!
– О каких таких четырех строчках вы говорите, святый отче? – спросил Пущин.
– О четырех стрелах наиострейших и наиядовитейших… Да вот сам Александр Сергеевич лучше моего вам о сем доложит.
– Из Кишинева, как ты знаешь, я попал в Одессу в канцелярию графа Воронцова, назначенного новороссийским генерал-губернатором, а также и наместником бессарабским, вместо Инзова.
С этими словами Пушкин, в оправдание своего разлада с новым начальником, дал такую откровенную характеристику Воронцова, что отец настоятель счел нужным положить конец его объяснению:
– Не прекратить ли нам сию тему? Не вам, юнцу, наставлять на стезю правую мужа великородного и нарочито государственного, имеющего за собой многообразные заслуги.
– Да я их не отрицаю и даже охотно взял бы теперь обратно свою эпиграмму…
– И благо. Сам Сын Божий глаголет: «Радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся…» Господину же наместнику, сами изволите видеть, ничего не оставалось, как просить о водворении вашем в гнезде родительском. Да, да! Воистину, язык мой – враг мой.
Наступило довольно тягостное молчание. Пущин попытался было завязать опять речь о чем-то постороннем; но разговор не клеился, и после второго стакана чаю отец игумен приподнялся с дивана.
– Прошу вдругорядь прощения, что помешал приятельской беседе.
И благословив опять хозяина и его приятеля, он удалился.
– А всему я виною! – воскликнул Пущин. – Без меня он и не подумал бы тебя беспокоить.
– Полно, любезный друг, – сказал Пушкин. – Ведь он и без того нередко меня навещает: я поручен его наблюдению. Теперь послушаем опять Грибоедова.
И чтение бессмертной комедии возобновилось.
VII
Стенные часы за стеною не раз уже били, а Пушкин все читал да читал с тем же увлечением, совсем забыв, казалось, что он еще у себя, в Михайловском, а не в грибоедовской Москве.
Не то – с Пущиным: уже во время последнего монолога Чацкого он подозрительно поглядывал на топившуюся днем, но давно уже закрытую печку и поводил в воздухе носом; при заключительном же возгласе Фамусова:
Ах, Боже мой! Что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна! —
он вскочил на ноги и сам возгласил:
– Что станет говорить она – я не знаю, да и знать не желаю; но что мы оба с тобой здесь угорим – в этом, брат, для меня не может быть ни малейшего сомнения.
– А ведь и в самом-то деле, – сказал Пушкин, возвращаясь к действительности, – как будто дымом запахло.
– Не дымом, душа моя, а чистейшим угаром: у меня на этот счет собачье чутье. Сейчас пойду узнаю.
Как раз, когда он ступил в коридор, с противоположного конца показалась старушка няня с зажженною свечой.
– Матушка, Арина Родионовна! – взмолился к ней Пущин. – За какие такие провинности ты меня из дому выкуриваешь?
– А нешто и к вам уже туда запахло? – всполошилась она. – Для тебя же, касатик, нарочно две горницы истопила, которые всю зиму не топились, да, знать, рано трубы закрыла…
Пущин укорительно покачал головой:
– Ай, няня, няня! А зачем ты их зимой не топишь? Или дров жаль?
– Знамо, жаль.
– А своего барина не жаль? Из-за сажени-другой дров он, бедняга, всю зиму, как сурок, сидит в одном углу; ни в бильярд ему поиграть нельзя, ни прогуляться по собственному дому. Ай, няня, няня!
У пристыженной старушки на глазах навернулись слезы.
– Да он хошь бы словечко сказал мне…
– Он – взрослый младенец, так где же ему думать о себе? Кому печься об нем, как не той, которая его вынянчила, которую и сам он любит, кажется, более всех людей на свете?
Няня была окончательно растрогана.
– Да я для него, моего ненаглядного, хошь весь дом день и ночь топить буду!
– Ну, ночью-то, пожалуй, и не для чего. А теперь первым делом откроем-ка опять трубы.
Когда это было ими сделано, Пущин сам замкнул на ключ двери в угарные помещения, открыл форточку в комнате друга и вместе с ним перебрался временно к Арине Родионовне, откуда ее подначальная команда давно уже разбрелась на покой. Старушке было особенно горько, что гость, несмотря на все упрашивания ее и барина, решил-таки уехать восвояси тою же ночью. Перед отъездом, однако, он просил Пушкина познакомить его еще с последними цветами своей музы. Так, по возвращении их в «клетушку» поэта, началось опять чтение – уже собственных его произведений, еще не появившихся в печати, в том числе и поэмы «Цыганы».
– А этот Алеко – не сам ли ты, братец? – спросил Пущин. – Ведь Алеко – Александр?
– Александр.
– И, как твой герой, ты тоже кочевал по Бессарабии с цыганами?
– Об этом история умалчивает, – загадочно усмехнулся Пушкин. – Во всяком случае, я никого на своем веку не зарезал – разве что стихом. Так поэма, по-твоему, недурна?
– Весьма даже. Ты, Пушкин, все совершенствуешься. Пройдет немного лет – и вся Россия признает тебя отцом нашей литературы, с которого в ней началась новая эра.
– Эк куда хватил! – сказал Пушкин, но глаза его радостно заблистали.







