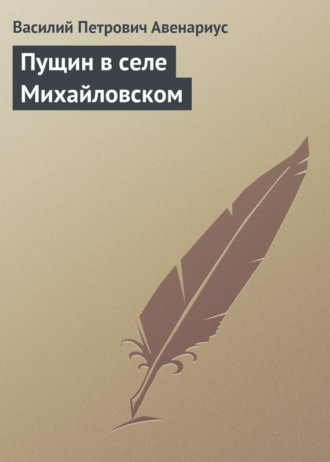
Василий Авенариус
Пущин в селе Михайловском
Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил.
«19 октября»
I
Было то в первой половине января 1825 года. В селе Тригорском (Опочецкого уезда, Псковской губернии), в доме вдовы-помещицы Прасковьи Александровны Осиповой (урожденной Вымдонской, по первому мужу – Вульф) вечерний самовар был только что убран из столовой, и хозяйка с тремя дочерьми и единственным гостем перешли в гостиную. На небольшом овальном столе перед угловым диванчиком горела уже лампа под зеленым абажуром. Сама Прасковья Александровна расположилась на своем председательском месте, посредине диванчика, и принялась раскладывать гранпасьянс. Старшая дочь (от первого брака) Анна Николаевна Вульф подсела к матери, чтобы лучше следить за раскладкой карт и в затруднительных случаях помогать советом. Сестра ее, Евпраксия Николаевна, а между своими – Зина или Зизи, предпочла отдельное кресло, чтобы заняться каким-то вышиванием. Младшая же сестра (от второго брака), подросточек Машенька, прикорнула на скамеечке у ног Евпраксии Николаевны и, положив растрепанную головку с косичками к ней на колени, не отрывала глаз от молодого гостя, в ожидании, что-то он опять сострит или расскажет, чтобы посмеяться.
Гость этот был ближайший сосед их, Александр Сергеевич Пушкин, навещавший их чуть ли не каждый день из своего сельца Михайловского. Но оживленное настроение уже оставило Пушкина: он сидел с понурою головой в каком-то грустном раздумьи.
– У вас, Александр Сергеевич, верно, опять стихи на уме? – спросила девочка.
Пушкин очнулся и провел рукой по глазам.
– Стихи? – повторил он. – Нет… Так что-то…
Он взглянул на каминные часы и быстро приподнялся:
– Пора.
Все четыре хозяйки заговорили разом:
– Да куда же вы, Александр Сергеевич? Ведь совсем еще рано: всего девять. Посидите!
– Меня что-то тянет домой…
– А я знаю что! – объявила Машенька. – Вам надо поскорей-поскорей записать хорошенькую рифму, пока не улетела.
– Нет, у меня какое-то внутреннее беспокойство, – серьезно отвечал Пушкин, – точно предчувствие…
– Вечно у вас эти предчувствия и приметы! – заметила Евпраксия Николаевна. – А до сих пор ничего еще не сбылось.
– Кое-что уже сбылось.
– Например?
– Например, предсказание старухи ворожеи Кирхгоф в Петербурге: «Du wirst zwei Mal verbannt sein»[1], и вот я второй раз в ссылке.
– Тем лучше: в третий раз, стало быть, ни за что уже не сошлют. Живите себе и пользуйтесь жизнью.
– Да, двенадцать лет еще впереди.
– Почему же именно двенадцать?
– Потому что та же Кирхгоф предрекла мне смерть, когда мне минет тридцать семь.
– Что за пустяки! – прервала его тут Прасковья Александровна. – Сыграй-ка ему, Зина, на фортепиано что-нибудь веселенькое, чтобы разогнать его мрачные мысли.
– А я знаю, чем его удержать! – подхватила Машенька и захлопала в ладоши.
– Чем?
– Да мочеными яблоками!
– Вот это так, вернее нет средства, – улыбнулась мать. – Беги же, милочка, неси скорей, пока Акулина Памфиловна еще не улеглась.
Девочка вихрем умчалась к старухе ключнице. Но затосковавшего поэта даже перспектива любимого его деревенского лакомства на этот раз не прельстила. Он взял шапку и окончательно распростился. Дамы пошли, однако, провожать его еще до передней. Только что слуга подал ему шубу, как влетела Машенька с полным салатником моченых яблок.
– И после этого будь любезной с гостем! Я едва-едва вырвала ключи от кладовой у нашей старой ворчуньи, а он удирает! Нет, сударь мой, извольте теперь кушать!
Достав из салатника ложкой одно яблоко покрупнее, она поднесла его к губам молодого гостя. Тому ничего не оставалось, как раскрыть рот пошире.
– Да ты сахаром-то не забыла посыпать? – спросила одна из сестер.
– Еще бы забыть для такого сластены! Разве не сладко? – отнеслась девочка к Пушкину.
У того рот был еще так полон, что он в ответ мог только промычать «мгм!» и кивнуть утвердительно головой.
– Жуете, жуете, как беззубый старик! – подтрунила над ним Машенька. – Разве угостить вас еще соком? Ну-с, раскройте-ка ротик.
Он опять беспрекословно исполнил требование; но угощение последовало с такою стремительностью, что едва половина попала по назначению; остальное же брызнуло ему за галстук и на шубу.
Это так рассмешило шалунью, что она с звонким хохотом запрыгала козой; вместе с нею запрыгали косички у нее на затылке, запрыгали и яблоки в салатнике, и штуки две-три покатились на пол, а за ними плеснула еще струя соку.
Мать и старшие сестры только ахнули и расступились, чтобы спасти свои платья; вслед за тем все разом рассмеялись, так же как и Пушкин.
– Экая ведь егоза! – говорила Прасковья Александровна. – Дай-ка сюда салатник, а то и его, пожалуй, уронишь.
Освободившись от салатника, Машенька принялась собственным платком усердно обтирать забрызганную шубу гостя.
– Да вы стойте, пожалуйста, смирно! Не отряхайтесь, как пудель. Ну, вот и сухи. В благодарность вы должны написать мне тоже что-нибудь в альбом.
– Про пуделя?
– Да, про пуделя, то есть про себя. Напишете?
– Вот увидим.
– Неблагодарный!
– Облили человека вкуснейшим соком, а он даже оценить не хочет. Самая черная неблагодарность! До свиданья, mesdames…
– До свиданья, Александр Сергеевич! Завтра опять увидимся?
– Если чего не будет…
– Опять вы с вашими предчувствиями!
– Что делать! Во всяком случае, не поминайте лихом.
II
Свои прогулки из Михайловского в Тригорское, куда не было и трех верст, в летнее время Пушкин совершал либо верхом, либо пешком, в последнем случае – подпираясь толстою палкой и в сопровождении большой дворовой собаки. Зимой же, когда пролегавшая то лесом, то полями и открытая здесь ветрам дорога была занесена сугробами снега, ему, обыкновенно, запрягали легкие сани. Так было и на этот раз.
Луна была на ущербе и еще не всходила. Благодаря, однако, расстилавшейся кругом снежной скатерти, общие очертания окружающей местности можно было различать.
Что за безлюдье, что за тишина! Словно весь мир вымер и накрылся саваном… Пушкина еще сильнее охватило безотчетное уныние.
«Не то же ли и со мной? – говорил он себе. – Всю прошлую жизнь со всеми ее треволненьями тоже снегом занесло. Кому в целом мире какое теперь дело до меня? Кому я нужен, кроме разве моей доброй няни, которая сама в гроб глядит?»
Тут из белого полусумрака восстали перед ним около самой дороги три знакомые сосны. Но в своих нахлобученных белых шапках они представлялись ему обледеневшими, застывшими навеки исполинскими мумиями; а одна из них вверху раздвоилась – ни дать ни взять громадная бесструнная лира.
«На моей лире струны еще не порваны, – думалось Пушкину, – но для кого я бренчу в моей снежной пустыне? Сам себя только тешу!»
И везде-то та же мертвая тишь, снег на всем – и в роще, на деревянной часовенке, и за рощей, на избах крестьянских: все гробы да гробы! А вот и свой домик – свой гроб…
Няня, Арина Родионовна, очевидно, поджидала своего барина-питомца. Как только он из сеней ступил в коридор, куда выходили, одна против другой, двери к нему и к ней, старушка показалась на своем пороге с зажженною свечой в руке.
– Чтой-то, батюшка мой, больно рано вернулся? Аль неможется?
– Нет, ничего… – отвечал Пушкин, снимая шубу и вешая на гвоздь. (Он раз навсегда запретил слабосильной старушке помогать ему при этом.) – А что, няня, без меня тут ничего не случилось?
– Чему еще случиться? – точно даже испугалась она и осенила себя крестом. – Господь нас помилуй!
– И не заезжал никто?
– Ни души человеческой.
– Странно!
– Чего тут странного, коли и так по неделям никто-то к тебе носу не покажет. Бедный ты у меня, сиротинушка!
Пушкин поморщился:
– Оставь это, Родионовна! Не люблю я твоих соболезнований, сама знаешь. Я долей своей очень даже доволен.
– А доволен, так и слава Богу. Да не заварить ли тебе малинового чаю с липовым цветом?
Пушкин слабо усмехнулся.
– Я же вовсе не простужен!
– Так ли, миленький мой! Ну, так ложись хоть сейчас, да хорошенько прикройся. Не пиши на ночь, сделай мне такую милость! Завтра поспеешь.
– Хорошо, хорошо. Доброй ночи, няня!
– Дай вот только свечу тебе тоже зажгу… Вот так Храни тебя Христос и ангел твой!
С наступлением холодов поэт наш довольствовался одной небольшою комнатой, выходившей окном на двор и служившей ему одновременно спальней, кабинетом и столовой. Была тут и кровать с пологом, был письменный стол, книжный шкап и диван – чего же более?
Не взглянув даже на свои разбросанные на письменном столе писанья, он начал раздеваться. Улегшись, он точно так же не стал, по обыкновению, читать на сон грядущий, хотя книжка с закладкой лежала тут же на ночном столике, а тотчас погасил свечу.
Но сна не было. Кругом – полная ночная темь, ночная тишина; только стенные часы через коридор из комнаты няни в урочное время отбивают 10, 11, 12 раз каким-то похоронным боем, да ветер в трубе по временам жалобно завывает, как полуночные тени на погосте. Никогда еще, кажется, опальный поэт не чувствовал в такой мере свою оторванность от целого света.
«Один, один! Тригорские соседки – премилые, предобрые существа, спору нет, а все-таки для тебя чужие. Няня, пожалуй, любит тебя, как родное детище; но у нее главная, чуть ли не единственная забота: чтобы ты был здоров, чтобы тебе елось и спалось вволю. Поделиться же своими сокровенными планами, своими задушевными мыслями – решительно не с кем. То ли дело было в лицее, в незабвенном Царском Селе! Товарищей – тридцать человек, друзей – полдюжины, а один друг, первый друг, – всегда около тебя, и днем и ночью. Двери ведь рядом: на правой дощечка с надписью: „№ 13. Иван Пущин“; на левой: „№ 14. Александр Пушкин“. И кровати даже около той же тонкой стенки. Обидел ли тебя кто до слез, просто ли невмоготу взгрустнется, – Пущин чутким ухом уже услышал, стучится в стенку: „Что с тобой, Пушкин?“ И выскажешь ему все, как на исповеди, облегчишь наболевшую душу. С тех пор, правда, наши дороги разошлись; сколько лет не видались, даже не переписывались. Но первая дружба никогда не заглохнет. Где ты, Пущин? Вспоминаешь ли еще иногда своего старого друга?»







