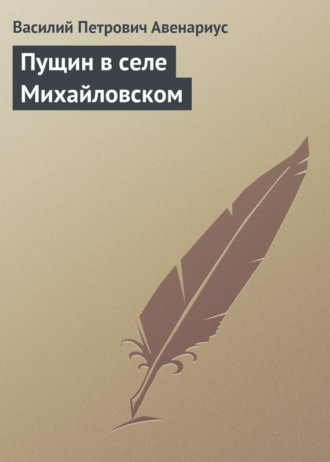
Василий Авенариус
Пущин в селе Михайловском
V
В «клетушке», действительно, было куда уютней: затопленная тем временем печь весело трещала, распространяя тепло и свет. В ожидании обеда два друга, обнявшись за плечи, начали ходить вместе взад и вперед.
– В Крыму ты, значит, пробыл всего три недели и вернулся опять в Екатеринослав? – возобновил Пущин прерванный давеча няней разговор.
– Нет, туда я, к счастью, уже не попал, – отвечал Пушкин. – Раевские завезли меня сперва в Киевскую губернию, в село Каменку, к матери старика Раевского, а оттуда, через несколько дней, я отправился прямо в Кишинев, куда между тем перебрался уже Инзов со своим попечительным комитетом.
– Он был ведь назначен наместником Бессарабской области, вместо Бахметева?
– Да, временно, пока тот вылечится от ран, а через год, когда и генерал-губернатор Ланжерон уехал за границу в бессрочный отпуск, Инзову поручили управлять также всем Новороссийским краем. Поселился я было в глиняной мазанке одного русского переселенца, но Инзов предложил мне две комнатки в своем наместническом доме: одну – собственно для меня, другую – для моего Никиты.
– Дом этот проездом мне, помнится, показывали; стоит он ведь особняком на пригорке?
– Да, и окна мои выходили прямо в сад, на виноградник. Под скатом – лощина с речкой Быком и озером; налево – каменоломни и новый город, а на горизонте – горы с белыми мазанками. Вид чудесный – даже сквозь решетки окон.
– Так тебя держали за золотой решеткой, как жар-птицу? – усмехнулся Пущин. – А столовался ты где?
– Где придется: у Инзова, у знакомых в городе, а то и в «Зеленом» трактире.
– Знаю! Прислуживала там молодая молдаванка, Мариола, у которой такой славный голос.
– Вот, вот! Одну из ее песен – «Черную шаль»[12] – я переложил по-русски: весь Кишинев потом знал ее наизусть.
– Счастливый ты человек, Пушкин! Благодаря своему стихотворству ты везде делаешься желанным гостем.
– Ох да! Даже слишком желанным: первое время от дамских альбомов мне не было отбою. Пришлось прибегнуть к радикальному средству.
– А именно?
– Одна барышня, считавшая себя неотразимой, при всякой встрече напоминала мне, что я ничего еще не написал ей. Чтобы отвязаться, я поднес ей мадригал, в котором воспевал ее до небес. Она была в восторге и на первом же вечере в доме своих родителей показала мои стихи своим соперницам. А те как взглянули, так и покатились со смеху.
– Это почему?
– Потому что внизу стояло: «1 апреля».
– Экий ведь проказник! И другим ты, верно, подносил тоже разные сюрпризы?
– Случалось. Раз, например, одна барыня за столом спустила с ног башмаки…
– Верно, от жары?
– Надо думать. Но привычка все-таки не похвальная. Я уронил салфетку и нагнулся за нею под стол; вдруг вижу – два башмачка; значит, не нужны. Как же было не убрать их?
– Хорош! А барыня что же?
– Она страшно разобиделась и пожаловалась мужу. У нас вышли с ним крупные объяснения, и не вмешайся мои приятели, пришлось бы, вероятно, стреляться.
– Но с кем-то ты там, кажется, стрелялся?
– Даже дважды: арапская кровь! Нелепее всего, что все из-за пустяков. В первый раз дело было за карточным столом. Один офицер, как я подметил со стороны, играл нечисто и обыгрывал других наверняка. Когда те стали расплачиваться, я прямо заявил, что такие проигрыши платить грех.
– То есть ты обозвал его шулером? Понятно, что после этого он должен был тебя вызвать! Но ты мог ведь и отказаться.
– Чтобы прослыть за труса? Благодарю покорно. Зато, когда мы сошлись с ним на дистанции, я взял с собой полную фуражку черешен, и пока он в меня целился, я преспокойно ел мои черешни[13].
– Лучший способ доказать свое презрение к противнику! Но сердце у тебя, признайся, все-таки екало?
– Ничуть. В минуту обиды я вспыхну как порох, а как дойдет до расплаты – я уже не волнуюсь.
– И он тебя не ранил?
– Нет. Рука, видно, дрогнула.
– А ты его?
– Я спросил только: «Довольны ли вы?» Он в ответ раскрыл мне объятья, а я – повернул к нему спину.
– Вот это так! Ну, а второй случай был у тебя с кем?
– Тоже с военным – с командиром егерского полка Старовым. В городском казино танцевали. Я дирижировал танцами и велел играть мазурку. Вдруг откуда ни возьмись – молоденький армейский офицерик и кричит музыкантам: «Кадриль!» Я повторяю: «Мазурку!» Он свое: «Кадриль!» А я, смеясь: «Мазурку!» Музыканты, хоть и полковые, послушались меня, как дирижера, и заиграли мазурку. Начальник офицерика, полковник Старов, подозвал его к себе и потребовал, чтобы тот призвал меня к ответу. Бедняга опешил: «Да как же-с, полковник, я пойду объясняться с ними? Я их совсем не знаю…» – «Не знаете? – оборвал его Старов. – Так я объяснюсь за вас». И, подойдя ко мне, он объявил, что я должен тотчас извиниться перед его подчиненным. Я, понятно, наотрез отказался, и на другое же утро мы стояли с ним у барьера. Но была сильная метель, нельзя было целиться хорошенько, и снег забивался в пистолеты. Оба мы дали по два промаха и отложили дело, пока не пройдет метель; а тем временем нас помирили.
– Опять тебя Бог спас! – сказал Пущин.
– Да, верно, я Ему еще нужен. Впрочем, дело это имело еще маленький эпилог. Старов участвовал в кампании Двенадцатого года и заслужил славу храброго рубаки. Поэтому примирение его со «штафиркой» возбудило в городе большие толки. Два дня спустя, играя в ресторане на бильярде, я своими ушами слышал, как бывшие тут же в бильярдной ом. Я подошел к ним и прямо объявил: «Как мы покончили со Огаревым, – это наше дело; но я уважаю Старова, и если вы, господа, позволите себе еще осуждать его в моем присутствии, то я приму это за личную обиду, и вы будете иметь дело уже со мною».
– И что же эти господа?
– Смутились и стушевались. В этого времени я слыл в городе отчаянным головорезом, – со смехом заключил Пушкин. – Да как же, помилуй: человек в архалуке, в бархатных шароварах, непричесанный, неприлизанный, гуляет по улице запанибрата с генералами и размахивает при этом железной дубинкой! А местным тузам – армянам и молдаванам – режет правду в глаза, да еще в стихах! Кто-то по поводу слова «бессарабский» скаламбурил даже на мой счет: «бес арапский». Но виноват ли я, скажи, что моей африканской натуре надо было перебеситься?
– И что, кишиневцы давали тебе к тому столько прекрасных поводов? – досказал Пущин.
– У большинства там, действительно, вся цель жизни сводится к вину, картам и танцам. Но ты не думай, Пущин, что на уме у меня были одни дурачества. Между тамошним офицерством и чиновничеством было несколько человек с высшими умственными интересами. Сам Инзов, при всей простоте обращения, – человек просвещенный, начитанный, особенно по истории и естественным наукам. У него сходился свой избранный кружок, в котором можно было отвести душу[14]. Здесь обсуждались все злобы дня – литературные, общественные, политические; а когда началось это несчастное восстание турецких христиан, мы все возгорели ненавистью к их притеснителям и готовы были также ринуться в бой… Есть моменты, когда ради ближнего готов поставить жизнь на карту!
– Ты, как поэт, в особенности. Восстание это если и было бесплодно, то для тебя послужило новым предметом вдохновенья.
– Для поэта, мой друг, весь окружающий мир, вся жизнь представляют неисчерпаемый источник вдохновенья: садись только да пиши. Кишиневцы видели во мне, конечно, прежде всего опасного ветреника, который при случае может щегольнуть стихом. Для Инзова с его кружком я был еще добрым малым. Едва ли кто из них подозревал, что я живу двойною жизнью: одною – с ними, другою – с самим собой. Я вел постоянную переписку с петербургскими литераторами; я перечитал массу книг не только на русском языке и трех главных иностранных, но и на итальянском, на испанском. Как школьник, который взялся наконец за ум, я пополнял те пробелы, что оставил у меня лицей. А сколько я работал над своим слогом, над каждым стихом!.. Одну поэму, которая меня не удовлетворяла, я даже сжег[15].
– Зато твой «Пленник», твой «Бахчисарайский фонтан» читаются теперь с восхищеньем всей Россией. Но ты позволишь мне, как другу, сделать одно замечание?
– Говори, пожалуйста.
– Ты зачитывался ведь Байроном? И в поэмах твоих слышится как будто тот же Байрон.
Пушкин слегка покраснел.
– Я сам чувствую это лучше всякого! – вздохнул он. – Но что поделаешь против этого мирового гения? Как-то невольно поддаешься ему и вторишь! За новейшую мою поэму «Цыганы» меня тоже, пожалуй, упрекнут в «байронизме»…
– Так не пора ли тебе отделаться от него?
– Я и то здесь, в Михайловском, принялся за Шекспира и начинаю набираться от него совсем нового, свежего духа. Что за мощь, что за глубина, что за знание человеческих страстей! В нашей литературе нет, к сожалению, ничего подобного.
– В трагическом роде – нет; в комическом же есть нечто столь же, пожалуй, великое и притом совершенно самобытное, русское.
– Ты о чем это говоришь, Пущин?
– О грибоедовском «Горе от ума».
– Мне много писали уже об этой комедии из Петербурга, но я до сих пор так и не читал ее, потому что она еще не разрешена к печати.
– Так прочти ее в рукописи.
– Да откуда ее взять?
– Откуда? Из моего чемодана: я привез ее тебе в презент.
Пушкин, ходивший все время обнявшись с приятелем, схватил его теперь за плечи и крепко затряс:
– Вот человек! Привез с собой такую прелесть и хоть бы слово! Давай же ее сюда, скорей, скорей!







