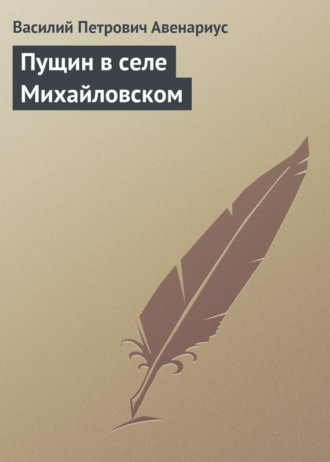
Василий Авенариус
Пущин в селе Михайловском
Хорошо, что темно: перед самим собой хоть не так стыдно утереть глаза… А ночь, безрассветная ночь тянется, тянется без конца!
Уже под утро изнывший поэт забылся тревожным сном.
Вдруг точно электрическая искра пробежала по его членам, и он разом пришел в себя.
«Что это? Почтовый колокольчик? Кого это в такую рань принесло? Эк их, однако! Совсем шальные: вломились в закрытые ворота, и колокольчик гремит уж у крыльца…»
Пушкин вскочил с постели и кинулся к окну. Так и есть: ворота настежь, а перед крыльцом – тройка, вся в мыле; пар с нее столбом. На облучке же – не ямщик, нет, а какой-то слуга, который, крепко натянув вожжи, тпрукает на разгоряченных коней.
«Господи! Да ведь это, никак, Алексей, человек Пущина! Может ли быть?»
Тут и сам барин, закутанный в енотовую шубу, начинает вылезать из саней и повертывается лицом.
– Пущин!
Не думая уже о том, что может простудиться, Пушкин как был – босиком и в рубашке – выбежал из дверей и на крыльцо.
Мороз на дворе стоял крещенский, но Пушкин не чувствовал холода и с распростертыми руками ждал друга.
Тут и друг его завидел, вбежал к нему на крыльцо и, подхватив в свою шубу, на руках внес его в дом, в коридор, в спальню.
Стоят они посреди комнаты друг против друга, целуются, глядят один на другого со слезами на глазах, опять целуются – и не находят слов.
Немая сцена имела одну свидетельницу – Арину Родионовну. Заслышав стук двери и чьи-то незнакомые поспешные шаги, она взглянула в коридор, оттуда в открытую дверь своего барина – и остолбенела на пороге.
В следующее мгновение она уже поняла, что этот гость – школьный товарищ Александра Сергеевича, и, как к родному, кинулась к нему на шею. Пущин, точно так же сообразив, кто эта старушка, крепко ее обнял и поцеловал в обе морщинистые щеки.
Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных…
К этой цитате из известных стихов своего друга он прибавил уже от себя в чистейшей прозе:
– А что, няня, с дороги недурно бы прибраться, умыться?
– Ахти! – всполохнулась няня. – Прочие-то комнаты у нас нетоплены…
– Да вот Алексей мой, коли нужно, поможет.
Но показавшемуся в дверях Алексею было не до старушки: он припал к руке ее молодого барина.
– Что ты, что ты, Алексей!.. – говорил Пушкин, сам его целуя и наскоро прикрываясь лежавшим на стуле халатом.
– Он также из твоих поклонников, – объяснил Пущин, – многие твои стихи наизусть знает.
– Очень хорошо! – рассмеялся Пушкин. – Стало быть, я делаюсь уже, в некотором роде, народным поэтом?
III
Прибыл Пущин в восемь часов утра, а в половине девятого оба приятеля-лицеиста сидели уже в прибранной комнате и сами прибранные за дымящимся кофе с зажженными трубками, любовно переглядываясь, точно не могли наглядеться один на другого.
– Смотрю я вот на тебя, – заметил Пушкин, – и все глазам не верю: как это ты из блестящего артиллериста преобразился в обыкновенного, серого человечка, как мы, грешные! Ведь ты теперь по уголовной части?
– Да, брат, со мной не шути, – был шутливый ответ, – судья уголовного департамента московского надворного суда!
– Но как ты решился на такую жертву – махнуть из Москвы да в нашу трущобу?
– Жертва, на самом деле, не такая огромная: еще в Москве дошел до меня слух, что тебя из Одессы удалили сюда, в Псковскую губернию. Ну, а во Пскове у меня родная сестра: муж ее командует там дивизией[2]. Вот я и отпросился на рождественские праздники в Петербург, к отцу; оттуда, после Крещенья, собрался на несколько дней к сестре…
– А от нее ко мне? – подхватил Пушкин, пожимая опять руку приятеля. – Мне все, брат, еще не верится, что мы вместе! Ты выехал из Пскова ведь с вечера?
– А то как же?
– И ехал всю ночь напролет? «О, дружба, это ты!» Но как это вы с Алексеем прискакали одни, без ямщика?
– Именно что прискакали. Свернули с большой дороги, мчимся среди леса по гористому проселку. Все мне казалось не довольно скоро: «Пошел, ямщик, пошел!» А тут, под гору, на всем скаку сани в ухабе набок – и ямщик в снег. Мы с Алексеем, не знаю уж как, удержались в санях. Схватили вожжи. Испуганная тройка несет во весь дух среди сугробов, в сторону не бросится: благо, лес кругом и снег по брюхо; править даже не нужно. Вдруг поворот, глядь – домчались и со всего маху в притворенные ворота.
Пушкин расхохотался.
– То-то я впросонках слышу гром и звон: землетрясенье, что ли, или сам Зевес-Громовержец пожаловал?.. Ах ты, мой милый, милый! Ну что, расскажи-ка, расскажи: что у вас там, в Москве? что в Питере? Что наши старые братья-лицеисты?
Удовлетворив первое любопытство брата-отшельника, Пущин сам приступил к расспросам:
– Когда тебя пять лет назад услали из Петербурга, я как раз был в отлучке, в Бессарабии, где гостил у той же сестры. Ведь провинился ты только стихами?
– Только – и своими, и чужими.
– Как так чужими?
– А так: все нецензурное, что ходило по рукам в Петербурге, приписывали мне. В один прекрасный день возвращаюсь вечером домой и узнаю от своего дядьки, что заходил какой-то подозрительный господин и предлагал ему пятьдесят рублей, чтобы дал только прочесть что-нибудь из моих писаний.
– Но тот ему, разумеется, ничего не дал?
– Понятно, нет. На всякий случай, однако, я тут же сжег все мои бумаги. И не напрасно: на другой же день я был приглашен к Милорадовичу[3], и первый вопрос его ко мне был о моих бумагах. «Граф, – сказал я ему, – все мои стихи сожжены. В квартире у меня вы ничего не найдете. Но, если вам угодно, все найдется здесь (Пушкин указал на лоб свой). Прикажите подать бумаги: я напишу вам все, что когда-либо написано мною, – разумеется, кроме напечатанного и всем известного». «Ah c'est chevaleresque![4]» – сказал Милорадович и пожал мне руку.
– И ты написал целую тетрадь, – досказал Пущин. – Мне потом об этом говорили. Хлопотали о тебе ведь и Карамзин, и добрейший наш Энгельгардт[5].
– И недаром: меня отправили только проветриться в более благорастворенный климат.
– А чтобы ты не болтался по-пустому, тебя назначили на коронную службу?
– Да, в распоряжение генерала Инзова, попечителя колонистов южного края, да со всеми онерами[6]: с соответственным чином и с прогонами на дорогу. Родители дали мне с собой надежного человека, Никиту, из наших крепостных; а Дельвиг с Яковлевым проводили меня до Царского: других из друзей-лицеистов в то время в Питере не было. Из Царского я пустился уже один с Никитой на перекладной по Белорусскому тракту.
– А знаешь ли, Пушкин, что мы с тобою чуть было не встретились?
– Что ты говоришь!
– Ведь было то в мае месяце?
– В начале мая, да.
– А я, прогостив в Кишиневе у сестры до апреля, ехал обратно в мае как раз тем же Белорусским трактом. От скуки на одной станции заглядываю в книгу, куда записываются подорожные: не найдется ли знакомых имен? И вдруг читаю: «Пушкин». Что за оказия! Зову станционного смотрителя: «Скажите на милость: какой это Пушкин проезжал у вас здесь вчера?» – «А поэт, – говорит, – Александр Сергеевич». – «Не может быть! Куда ему ехать и зачем?» – «А в Екатеринослав, на службу, кажется, – в красной русской рубахе, в опояске, в поярковой шляпе…»
– Да, это самые верные приметы, что на службу! – рассмеялся Пушкин. – Но этакая, право, досада, что мы так и не встретились с тобой; то-то наговорились бы…
– Ну, теперь зато наверстаем. Инзова, вообще, ведь хвалят?
– О, это золотой старик! Он принял меня не как начальник, а как отец, стал утешать, что и в провинции люди живут. За три года я вполне успел оценить его доброту.
– Но в Екатеринославе ты пробыл ведь недолго?
– Всего две недели.
– Только-то?
– Взял я, видишь ли, со скуки лодку покататься на Днепре. Время стояло жаркое; соблазнился я выкупаться, да, разгорячась, слишком долго, видно, пробыл в воде и схватил горячку. Но все к лучшему: благодаря болезни я попал на Кавказ, на дивный Кавказ!
– Инзов дал тебе сейчас отпуск?
– Да, на несколько месяцев. На мое счастье в то самое время через Екатеринослав проезжали на Кавказ Раевские и предложили мне место в своей коляске. Ведь ты, Пущин, тоже знаешь Раевских?
– Двух Николаев Николаевичей, отца и сына, героев Двенадцатого года? Кто их не знает, хотя бы понаслышке! Ведь сын теперь, кажется, в лейб-гусарах?
– Да, и уже в чине ротмистра, хотя годом меня моложе. Узнав, что я в Екатеринославе и больной, отец вместе с сыном тут же разыскали меня в моей жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкой оледенелого лимонада. Сопровождавший их в дороге военный доктор, Рудыковский, обрил мне голову и закатил хины. В коляску я лег еще больной, а через неделю совсем ожил. Хворать в таком обществе, впрочем, и не приходилось: кроме нас, мужчин, ехали еще в двух каретах две дочери Раевских, две дочери Рудыковских, англичанка, компаньонка…
– Ты щеголял перед ними с обритой головой?
– Нет, в феске; она была мне, говорят, очень к лицу.
– Верю: тип у тебя подходящий. А на Кавказе ты, что же, купался в минеральных источниках?
– Во всяких: сперва в серных горячих и кисло-серных теплых, потом в железных и кислых холодных. От вод я точно возродился: только бы жить да наслаждаться жизнью. А что за жизнь: дичь и воля! Жили мы то в палатках, то в калмыцких кибитках; восходили на заоблачные выси, ночевали под открытым небом. Вокруг – горы да горы, на горах – черкесские аулы; а по ту сторону горной цепи – гром пушек, бой и смерть!
– А вас самих черкесы не беспокоили?
– Бог миловал. Но когда в начале августа мы двинулись в Крым, нас провожал конвой из шестидесяти казаков, а сзади тащилась пушка с зажженным фитилем.







