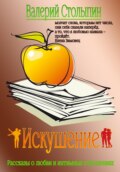Валерий Столыпин
Всё по-взрослому
Помоги мне себя простить
Я бы хотела жить в маленькой белой башне
Лучше на самой верхушке седого мыса.
Так далеко от всего Вашего,
Чтобы не встретиться даже в случайных мыслях…
Сола Монова (Юлия Соломонова)
– Но… белый танец… как бы, никто не объявлял, – смутился широкоплечий улыбчивый крепыш в ладно скроенном костюме, явно не из магазина, с манерами аристократа, привычно демонстрирующий явное превосходство перед всеми, тем более перед дерзкой выскочкой, посмевшей вот так запросто разрушить его фантазии, которые он наметил воплотить в жизнь.
Девушка-мечта, на которую он сам положил глаз, даже успел просчитать в деталях причудливые, но заманчиво волнительные варианты процесса соблазнения, стоимость аппетитного мероприятия (экономить на исполнении азартной затеи он не намерен) и представил себе очаровательные прелести обладания призовым фондом в полном объёме, запросто пригласила его на танец.
Какова, дрянь!
– Игру затеяла. Сюрпризы любит. Ну-ну! Вызов принят. Следующий ход мой.
Игорь Леонидович ужасно не любил отчаянных мужчин, от которых никогда не знаешь, чего ожидать. Чего уж говорить об амбициозных притязаниях длинноногой нахалки с осиной талией, кошачьей грацией, глазами трепетной лани и повадками, судя по всему, кровожадной хищницы.
– Но, хороша, чертовка, хороша! Всё равно я её сделаю, зуб даю.
Не получившее немедленной разрядки тело сладко ныло, требуя немедленной сатисфакции.
Игорь Леонидович пронзил испепеляющим взором изумительно женственную, хрупкую на ощупь валькирию, претендующую на титул Афины, и бесцеремонно впился в её губы жадным поцелуем.
– Попытка подавления воли, – бесстрастно констатирована нимфа, – впечатление не очень. Грубо. Невкусно. Я так понимаю, альфа-самец метит территорию колониальных притязаний в стиле Калигулы.
Рептильный мозг всегда выбирает стратегию силы. Забавно, даже немного смешно.
У меня пёсик, Танго зовут, мастиф. Он делает это иначе. И знаете, его пахучие метки никто до сих пор не посмел оспорить. Ваш вероломный вариант должен означать, что меня запятнали, что сопротивление бесполезно? Ноги вверх, вы арестованы. Уверен, что справишься?
Смотреть, как желание заполняет его глаза, как дрожит в нетерпении напряжённый мужской торс, как наливаются желанием мысли, было невыносимо приятно.
Мужчина указательным пальцем взял нахалку за подбородок, – бросаете вызов, леди, не боитесь?
– Да будет тебе, разве я похожа на участницу турнира по укрощению строптивых кобелей? Флиртуешь ты, не я, правда, в довольно оригинальной манере. Гораздо эффектнее удар в челюсть. Победа нокаутом характерна для бесспорного лидера. Я лишь пригласила на танец. Тыы в ответ вторгся без объявления войны на мою интимную территорию, разоблачая тем свою, простите мой несовершенный французский, некую незрелость. Стоило бы озвучить анекдот на эту животрепещущую тему про поручика Ржевского. Вот ведь был мастер игривых комплиментов и пошлой жеребятины.
Физиономия Игоря Леонидовича от возмущения вытянулась, приобрела неприятный пунцовый оттенок.
– Что с тобой! Дыши животом. Глубже. На счёт три начинай медленно выдыхать. Ме-длен-но. Замечательно. Ты танцевать намерен, или пора скорую вызвать? Здоровье беречь нужно. Во-от, так-то лучше. Продолжим?
– Позволь представиться, Виктория… Михайловна. Неудобно переходить на ты не познакомившись, – вкрадчивым голосом церемонно вручила новоявленная Афродита ключи от рая партнёру в медленном танце, – приблизившись несколько ближе, чем позволяли приличия, чтобы он мог оценить её несомненные достоинства.
Игорю Леонидовичу показалось, что перед ним совсем другая женщина: покладистая, кроткая, нежная.
Конечно, неприятно ощутить энергию столь агрессивного нападения, но, кто знает, возможно, это необычная стратегия, позволяющая сориентировать мужчину в специфических эротических предпочтениях. Только непонятно, на какую роль она претендует.
– Выдрать бы её. Хлыстом для начала. Или хворостиной. Но лучше, для порядка, чтобы отбить охоту хамить, отодрать. Нетрадиционно, жёстко. Ха-ха!
Ядрёная грудь озорницы, обтянутая полупрозрачной тонкой тканью, вздымалась и опадала, призывая возбуждённого любовника, который повторно поймал высокую волну вдохновения, к активным действиям.
Редкостная, конечно, штучка, но как заводит! Такое с ним творится впервые.
– Я не я буду, если не стреножу строптивую кобылицу, – подначивал себя Игорь Леонидович, у которого странным образом, как от сильного переохлаждения, вели себя внутренности.
– Я веду, ты подчиняешься, – пытаясь вернуть обычную уверенность, начал торговаться мужчина.
Девушка кокетливо приподняла плечики и сверкнула белозубой улыбкой, давая прижать себя к широкой груди.
Это могло означать что угодно, но джентльмен поплыл в радужной невесомости, ощутив живую мощь упругого бюста, аромат которого повредил что-то очень важное в голове.
Кровь хлынула в нижний отдел, срывая пломбу с ограничителя скорости и давления.
Неудержимое желание накрыло искателя приключений, добавляя смелости, которая несколько бесконечно долгих минут до этого скулила, забившись в некую виртуальную щель.
– Лобовая атака будет ей дорого стоить, – раззадоривал себя отважный кобельеро, чувствуя одновременно возбуждение и тревогу: она вряд ли догадывается, что такое по-настоящему грубый секс.
Виктория, покорно потупив махровые ресницы, позволила вести себя в неумелом танце, не обращая внимания на непристойное путешествие шаловливых рук партнёра, нагло прогулявшихся по открытому вырезу спины с аварийным заходом в очень интимную зону ниже пояса.
– Не пора ли нам, – зашептал на ушко богине Игорь Леонидович, – покинуть этот вертеп. У меня шампанское для такого случая заготовлено.
– Очень кстати. Я тоже думаю, пора. Кажется, ты созрел для серьёзного разговора.
– Перезрел. Ещё немного и выпрыгну из штанов.
– Очень мило с твоей стороны. С удовольствием насладилась бы этим зрелищем. Но говорить буду я. А ты слушай. И кивай, если понял.
Виктория Михайловна нежно опустила маленькую ладошку меж ног партнёра, ласково, но очень чувствительно сжала напряжённые возбуждением бубенчики, – тс-с-с, тихо, это наша с тобой интимная тайна. Имя Инга тебе знакомо? Инга Витальевна За-вад-ская. Я её мамочка. И не прикидывайся шлангом, я всё знаю. Кивни, что услышал, осознал, что больше не будешь. Помоги мне тебя простить.
Игорю было лихо. Одно резкое движение и…
– Да пошла ты, – попытался он вырваться, но резкая боль не позволила сопротивляться.
– Вот и умница! Забудь про неё. Не для тебя мама ягодку растила. Понимаю, что синтез гормонов и феромонов у тебя поставлен на поток. Испытала на себе технологию, сделала выводы. Могёшь!
Игорь Леонидович открыл рот, но игривая ладошка пришла в движение, вызывая неприятное ощущение, – не стыдно охмурять маленьких девочек? Можешь не отвечать, по глазам вижу – стыдно. Договорились? Вот и чудненько. Скажи, что я тебе нравлюсь, и танцуй, пока не устанешь. Приятно было познакомиться. Звони, если что.
Тебе уже от счастья не укрыться
Мы можем навсегда прощаться
Полу-во-сне, полу-в-бреду.
Я всё равно к тебе приду:
Мне просто некуда деваться.
Вадим Хавин
Зойка любила дружка своего больше жизни, оттого и дразнила. Время пришло девчонке невеститься, да и смелая, дерзкая была чересчур: одевалась намеренно в короткие платьица, специально для Витьки, грудью упругой прижималась, волосами распущенными щекотала, чтобы аппетит интимный разбудить, о существовании которого тот ни сном, ни духом не ведал.
Коленки голенастые специально для него напоказ выставляла, подол до трусиков якобы случайно задирала, за руку нежно брала, чтобы в глаза удобнее заглядывать, губы жадные до ласки подставляла.
Но Витька – телок: мычит, глаза зажмуривает. Сердечко волнуется, стукотит как движок у мотоциклетки. За метр беспокойный пульс услышать можно.
Зойке, конечно, приятно, но она взрослой стать решила, от своего желания не отступится. А уж коли игра в любовь в такую жаркую пору вошла, жди неожиданностей. Горячая кровь на такие безумства способна толкнуть – только держись.
Налюбоваться дружок не мог на узорчатые прожилки под её прозрачной кожей. Дрожал как осиновый лист, когда невзначай прикоснуться к подружке доводилось. Млел, созерцая божественное цветение беспечной юности.
Нельзя!
Мальчикам, вроде, можно до поры к тайне прикоснуться (выдерут да и только), чтобы опыт накопить, чтобы не осрамиться, когда срок наступит, а девчонкам беда: позор на всю оставшуюся жизнь.
Витька не может так поступить, особенно с Зойкой. Они же с детства не разлей вода. Куда один, туда и другой. На селе все знали – рано или поздно их свяжет судьба.
Знала и Зойка, что он застенчивый, робкий, но всё равно мечтала, – сейчас поцелует.
Разве от такого подарка можно отказаться! Не дурак же он, в самом деле.
Представляла, как сладко будет вдвоём, – любит ведь, чего ждёт? Вот она я!
За руку брала, в заросли лозняка поутру водила, подальше от любопытных глаз. Смело сбрасывала лёгкое платьице, – гляди, любуйся. Вот здесь можно дотронуться. И здесь. Всё-всё можно, даже то, чего совсем нельзя. Ну же! Какой же ты у меня глупенький!
Зойка танцевала нагишом, руками ласково звала, – иди ко мне, любый.
Она была почти взрослая: так все говорили. Вон, и грудь поспела, и кустик меж ног призывно топорщится. Расцвела девчонка, округляться начала, порозовела. Млеет в ожидании любви, трепещет от откровенного бесстыдства толпящихся в голове крамольных мыслей, от переполняющих кровь эмоций, от невнятного напряжения в налившейся спелыми соками груди и внизу живота.
Витька краснел, терялся, отводил в сторону зачарованный взгляд.
По ночам грезил, позволяя в фантазиях всё то, чего не мог себе разрешить в Зойкином присутствии.
Его чувственность только пробуждалась. Ничего он ещё толком не понимал, но позывные взросления настойчиво о себе напоминали, наполняя незрелое тело нежностью и бурлящей кровью.
Только бы Зойка не узнала, какие мечты он себе позволяет!
Не мог Витька подружку обидеть, не мог, даже мысленно.
А Серёжка, когда оказия случилась, стесняться не стал: задрал подол и опростался, причиняя при этом боль.
Не любил, на дармовщинку позарился. Жаден парень до новых интимных впечатлений. Чего не взять, коли девица не сопротивляется? Баба не схочет – мужик не вскочит. Девка-то в соку, ничего не соображает: из реальности выпала. Может и не вспомнит ничего, когда в себя придёт. А и вспомнит – не велика беда. Он ведь не сильничал.
Зойка была к нему равнодушна. Созрела прежде времени, это да. Со всеми девчонками так. Природа распорядилась им быстро взрослеть, а мальчишкам дать время окрепнуть: сил накопить, мышцы нарастить. А Серёга старше был, что к чему представление имел: не она первая, не она последняя.
Кто-то скажет, – чокнутая она, эта Зойка, суицидница. В психушке ей место, – и будет прав. Отчасти. Поскольку не сумел распознать душу ранимую, тонкую. Девочка реальность с фантазиями перепутала.
Так бывает, когда напор гормонов в крови мысли в раскоряку ставит, а необузданный творческий потенциал, помноженный на развитую сверх меры впечатлительность, толкает в пропасть неизведанного.
Влюблённые девочки – натуры хрупкие, импульсивные. Натворят невесть чего в хмельном угаре сладкого влечения, вкушая по неопытности ворох запретных для их опасного возраста эмоций – не расхлебать опосля.
Вот и Зойка… дурочка, на крючок запредельной глупости попалась. Нет, чтобы успокоиться, подумать. Сразу в пропасть, чтобы не страдать. Как же это глупо!
Потом жалела, кляла себя за порочную беспечность. Поздно. Крапивное Серёжкино семя упало в благодатную почву, выпустило цепкие щупальца, разом и проросло.
Зойке в тот год, когда родила Никитку, едва семнадцать исполнилось. Сама дитя, до ставней оконных дотянуться не может, ростом не вышла, а богатыря выродила. Боровичка голосистого с красной головкой почти пять кило весом.
Порвалась вся, но терпела. Все орут, а она молчком муку адскую приняла: кару добровольно себе назначила.
Не дождалась любимого – получи!
Вспоминала чуть не каждый день, как Витька украдкой смотрел на острые её локотки, на узкие плечи с подвижными лопатками, на впалый животик, над которым нависали худосочные рёбрышки, которые можно было пересчитать поштучно.
Она ведь звала его тогда, – на, любый, возьми.
– Время не пришло, Зоенька. Погоди, пока повзрослеем. Всё у нас будет. Как положено, по-честному. Только дождись.
Глупый. Не будет теперь ничего! Кто захочет связать жизнь с утратившей честь гулящей девкой. Да ещё и с приварком.
Как же она ревела в тот день, когда Витька в областной центр учиться уехал, как упрашивала, – останься! Сгину без тебя.
Накрутила себя, чуть умом не тронулась.
Не послушал. Думал, блажит девка. А она чуть руки на себя не наложила, такова была сила потрясения.
Серёжка из петли вынул. Никому о том не сказал, но плату непомерную взял – невинности лишил, пока Зойка окончательно в себя не пришла. Девчушке тогда без разницы было: она с жизнью уже распрощалась. Семь бед – один ответ. Пусть делает, чего надобно, и проваливает.
Ведь знал, паршивец, что нельзя семенем разбрасываться, что осрамит девку, а замуж не позовёт. Недаром говорят, что охота пуще неволи. Больно велик был соблазн запретный плод сорвать, надкусить, сочной мякоти целомудрия отведать. Правда, слово дал, что никто о том не узнает. Но шила в мешке не утаишь.
И Зойка не призналась, чей сын брюхо обживает, кто мальцу настоящий отец.
У Сергея к тому времени, когда живот у Зойки на нос полез, свадебка наметилась. По залёту нечаянному. Он и в этот раз хотел незаметно отползти, но не успел. Братья невесты вовремя сообразили, подсуетились. Руки-ноги не повредили, а портрет здорово разукрасили.
А ему как с гуся вода.
Недёржанных девок на селе пруд пруди. Он теперь опытный, следов не оставляет. К тому ещё солдаткам да вдовам маета неприкаянности душу травит. Всем любви подавай. Хоть такой, развратной, коли другой для них нет.
А есть ещё иная порода баб – любительницы жеребятины. Сами знаки подают, мало того – наливают за утоление порочного голода.
В деревне думали, что отец Никитки Витька. А он – ни сном, ни духом.
То есть, что родила, знает, про своё якобы отцовство – нет. Ему ли не ведать, что до сей поры невинный телок. Целоваться и то не выучился. Разве что в шею Зойкину губами впивался пару раз, да за ухом грелся. Но, то не в счёт. Это по-дружески, по-братски.
Горько ему, больно, что так несуразно вышло. Себя виноватит.
Закроет глаза – Зойка танцует. Для него. дурака. Танцует и зовёт.
Смешная, красивая, родная, в чём мать родила.
Тщедушная, маленькая, прозрачная, как уклейка, а грудь… он ведь только делал вид, что не смотрит. Как было удержаться от соблазна?
Всё как есть помнит. Грудь была настоящая.
Сколько раз Витька потом грезил, протягивая навстречу длинноногой танцовщице без покровов, к её бархатистой коже, к упругому бутону груди, размером с румяное яблочко, раскрытую ладонь, представляя, как прикасается к этой бесценной реликвии, как наливается священной энергией любви.
И застывал в ужасе, физически ощущая потерю, которой могло не случиться, будь он решительнее, смелее.
Упустил своё счастье! Сам упустил.
Может, стоило тогда поступиться принципами, забыть про традиции, про девичью честь и свою совесть, которая на поверку оказалась тяжким бременем, которая раз за разом возвращает воспалённую память в окаянное прошлое?
Сильны мы задним умом, когда ничего нельзя изменить. А ведь она звала, упрашивала, словно ей одной та любовь была надобна.
После техникума Витька уехал в Заполярье. Можно сказать, сам себя наказал.
Парень он видный. Девчонки вокруг табунами невестились. Женщины в соку, глядя на широкие плечи, сильные руки и цепкий взгляд, кто бессовестно, нагло, кто простодушно, застенчиво, предлагали любовь. Всякую, в том числе без обязательств.
Витька был поглощён единственной страстью: Зойкой бредил. Ночами в поту просыпался, криком кричал, прощения просил.
До сих пор Зойка его звала. До сих пор не отпускала.
Не выдержал. Всё для себя решил, поехал каяться.
Родители писали, что не было у Зойки с тех пор никого, словно эпитимью на себя наложила. Фотографию мальца прислали.
Никите шесть лет минуло.
Рыжий, кучерявый. В Серёгу Кучина, не иначе, лучшего некогда друга. У него одного на всё село кудрявая, как у ягнёнка, шевелюра красным золотом рдела.
Этот общеизвестный факт Серёжкин брак и сгубил. Как пошёл по селу слух о рыжем мальчонке, Варвара ему на порог указала. Братья скорости добавили. Хотели оскопить, да пожалели.
Тот к Зойке. Да куда там, – не было у мальчонки отца, и такого не нать. Опоздал, касатик. Да и не ужились бы мы. Без любви-то.
– Много радости любовь тебе принесла? То-то ты в петлю прыгнула. Без мужика в своём дому никак нельзя. Я же рукастый.
– Зато до баб охоч. Мне ещё этого сраму не хватает. Витька бы мальца не бросил. И по бабам не побежал бы.
– Много ты знаешь! Так может он того, и не мой вовсе?
– А и не твой. Что с того! Я ему каждую неделю красной краской кудри мажу, чтобы тебя осрамить. И себя заодно. Поди, поди вон, по добру, по здорову.
Удружил Серёга, нечего сказать. Но разве виноват он, что наградил отпрыска редким колером?
О том, что стало реальной причиной появления на свет Никитки, никто не ведал. Хоть в этом вопросе Сергей не подвёл.
Зойка, когда болела, заговаривалась, Витьку звала, прощения вымаливала.
Нормально, естественно, даже правильно, спрятаться в одиночество, зализывая кровоточащие сердечные раны. Но как долго необходимо и можно жалеть себя, оплакивать и лечить истерзанную, в порезах и ссадинах от необратимых потерь, но живую, готовую вновь и вновь возрождаться, душу: неделю, месяц, год… или весь дарованный природой срок осознанного бытия?
Разве можно казнить себя без срока. Преступников, и тех рано или поздно из заточения вызволяют. Зойка о том не раз и не два матери заикалась.
– Кто ж тебе, оторве, таку обиду спустит, блаженная? Забыть пора. Не пара ты ему. Не он тебя, ты его не дождалась, ты любовь предала, – корила маманя.
– Покаюсь. Глупая была. Некому было боль свою доверить. Даже тебе не могла. А вдруг он мне тот грех попустит? Ноги целовать буду. Выведай адрес у Ильиничны, письмо напишу. Обо всём. Мне шестнадцать годков было, чего я понимала-то! Нет у меня больше сил, себя казнить.
А Витька взял да сам приехал, словно раскаяние Зойкино почуял. Кто знает, может, у влюблённых неведомая связь через небеса налажена.
К родителям не зашёл, сразу к подружке на порог.
– Сына покажи, Никитку.
– Так не твой ведь, Витюша.
– Мы про то никому не скажем. Усыновлю, будет мой.
– Давно уж все догадались. Масть не скроешь.
– Примешь, простишь?
Зойка кинулась Витьке в ноги, – гада я окаянная, злыдня проклятущая, изменщица подлая. Нет мне без тебя жизни. Разум тогда помутился, не ведала, что творю, любый мой. Прости, коли гордость позволит со мной знаться, век грехи те отмаливать буду!
– Не блажи. Встань с колен. В том и моей вины в достатке. Будем вместе разгребать, чего наворотили по глупости. Ты ведь меня каждую ноченьку все эти годы звала. А я… дурья башка. Всё могло быть иначе. А-а-а, чего даром воду в ступе толочь. Того дивного дня не вернуть. Помнишь, как для меня танцевала?
– Как не помнить!
– Ну, жена, раз такое дело, коли обиды прощены, будем праздновать. Никитку зови, матерь с отцом. Всех зови. Мужчина в дом возвернулся. Заживём!
– Теперь-то меня не испугаешься, не побрезгуешь в губы целовать?
– Зацелую. Только не теперь. Хочу, чтобы в первый раз как тогда, на берегу, в ивовых зарослях. Чтобы с самого начала всё правильно. Дождалась-таки, любая моя! Сына хочу, дочку, семью большую. Тебя хочу, Зоенька! Ты же меня научишь?
– Сам управишься. Чтобы с бабой хороводиться, много ума не нать. Природа кругом соломки подстелила. На котов да иную живность глянь. Кто их той науке обучает? Да никак ты, соколик, до сей поры любви девичьей не познал!
Зойка расплакалась, прижалась к Витькиной груди, но осторожно, робко. Не верила до конца своему счастью.
– Как знать, как знать. Вдруг у меня ничего не выйдет?
Зойка прыснула в кулак, – и то верно. Вдруг? Стоит проверить, пока Никитос с маманей на ферме управляются. Время есть. Я и станцевать могу, не отяжелела пока. Или опять чё не так?
– Тебе бы всё хиханьки, дурища. А у меня сомнения. Боязно мне.
– Ничего не изменилось. Всё такой же телок. Как же люб ты мне, соколик!