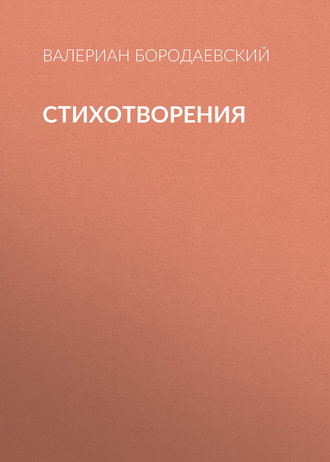
Валериан Бородаевский
Стихотворения
Песня
Взгрустнется ль мне, всхрапнется ль мне,
Всегда со мной глаза мило́й,
Глядят во дни, глядят во сне,
С такой ли грустью да тоской?
Далеко милая моя,
Проехать надо город Псков.
Со мной не разлучилася
Ее горячая любовь.
В тюрьме моей сижу, бобыль,
Никто ж меня не навестит,
Мету полы, глотаю пыль, –
А отделенный–то ворчит.
Приходят дни, проходят дни,
Всегда со мной глаза милой,
Они глядят ко мне одни,
Как я живу с моей тоской.
Народ освобожденный
Заветный час пришел. Восстал народ державный,
По всей стране звучал как бы набатный звон;
Повел плечом едва и пал подгнивший трон,
И красный стяг воздвиг наш победитель славный.
Владык не нужно нам! Брат брату в праве равный,
Вступают в новый путь, увенчанный огнем.
Привет, привет тому, кто битву с древним злом
Несет бестрепетно, как труженик исправный;
Кто может жертвовать и ждать грядущих дней
С терпением и мудростью великой;
Кто кликнул лучший клич: Ленивых не жалей!
И в праведном бою с разрухой многоликой
Кто на полях родных, средь хлеба золотого
Познал великий долг народа трудового.
Косовица
Рожь готова, рожь поспела, всяк налился колосок.
На рассвете закосили, помолившись на восток.
Головным шел дядя Ваня, шире всех его размах;
Он не станет, не устанет, разойдется просто страх!
Развернулись стройным рядом все другие молодцы.
Вся артель сошлася дружно: загляденье – не косцы.
Знаем дело, знаем время: коли можно надломить
В колоске зерно любое – время матушку косить.
Чтоб вольнее – шапки скинем, венчик ржицы вкруг волос.
Слушай песню в небе синем… Жаворонку довелось
Видеть светлое раздолье нашей Руси трудовой.
Заходи дружней, ребята, вишь, уходит сам–большой,
Дядя Ваня, наш вожатый, голова и быстроход,
Будто шутит, а не косит – будто водит хоровод.
Замочная скважина
Мир виден через замочную скважину.
N.N.
Глубокая ночь. Тишина. И замочная скважина
Еще золотится от лампы – извне.
Душе моей грезилась башня… Этаж за этажем
Она возносилась на синем – во мне.
Прекрасная башня из мрамора чудом не падала,
А только склонилась, как зрелый цветок.
Я видел, как ты поднималась, смертельно усталая,
И слабой никто восходить не помог.
Я грезой приближен к тому, что мне сладостно было бы.
Иль рухнула башня живая во мне?
Замочная скважина ярко мне в сердце светила бы. –
Я спал. И пришла ты во сне.
«Сердце бьется шибко, шибко…»
Сердце бьется шибко, шибко –
Жгучий ветр в лицо дохнул.
В чьих руках я – только скрипка?
Кто струну перетянул?
Кто привел к пересеченью
Двух стремлений, двух путей,
Осенил, как вдохновенье,
Чашу дал и молвил: пей!
Чьею окружен я бездной?
Чьим истерзан я венцом?
Ночью синей, ночью звездной
Встречен Богом? Палачом?
Тишина… Лишь крови шелест.
Слышен дальний чей–то зов.
Я познал святую прелесть
Облетающих цветов.
Свобода
Я проводил двоих друзей на волю.
Один, весь озаренный, ликовал,
Тюремную позабывал он долю
И милых уж душою обнимал.
Другой – мудрец, – изведав, что в неволе
Он только мыслил, только отдыхал,
Спокойно выходил, как пахарь в поле,
Когда налажен плуг и час настал.
Я, провожая, думал, что друзьями
Дух наградил прекрасными в тюрьме,
Что многие томятся здесь годами
И выйдут ли – Бог весть, и было мне
Предчувствие моей свободы больно:
Из храма так выходишь – мимовольно.
Памяти сына
I. «Был у нас такой мальчонок – Бог увел его от нас…»
Был у нас такой мальчонок – Бог увел его от нас.
Был удачлив от пеленок – он родился в добрый час.
В Павлов день родился крошка, подсказал, как надо звать;
На крестины пригласили мы писательскую рать,
Не затем, что горды были и любили блеск бесед,
Единил нас златокудрый, легконогий Мусагет.
Вячеслав отцом был крестным – красил розами купель,
Алексей Толстой пел оду, что пастушечья свирель.
Был Кузмин, Верховский, точно лики тех ушедших дней.
Всё собранье олимпийцев, весь венок крылатых фей.
И лилась беседа наша, беззаботна и светла,
В петербургский день морозный Иисусова числа.
II. «Вырастал наш Павел крепким; был спокоен, много спал…»
Вырастал наш Павел крепким; был спокоен, много спал;
Был веселый, – лапкой цепкой он с медведиком играл,
Любовался травкой малой, синий венчик васильков
Созерцал благоговейно в час весенних вечеров.
Позже, музой посещаем, сочинял порой стихи
И почитывал с охотой про отцовские грехи
(Впрочем, то, что папа–цензор, испытуя, пропускал;
Жгучим эросом младенца греховодник не питал).
Издавал малец газету с гордым именем «Шалун»,
В ней он сказку нацарапал… Рос писатель в нем иль лгун?
Лгун пытливый и правдивый, как поэту надо быть –
Часто строчит день–то целый, позабудет есть и пить.
III. «С революцией настала Павлу новая пора…»
С революцией настала Павлу новая пора.
Вся семья–то выезжала из широкого двора.
Нужно было осмотреться, становясь на новый путь,
Нужно было с новым веком столковаться как-нибудь.
Деревенское приволье городским сменив домком,
Он узнал малютку Славу с черной коской и глазком.
Славе Павел был представлен. Был он розов и смущен.
Он еще не знал то слово: вероятно, был влюблен.
То ли шалость, то ль стремленье преклониться, полюбить.
Пили рядом чай, варенье предлагал, чтоб услужить.
Убегали в садик малый, в уголке искали тень.
На малютках–креслах тихо ворковали в ясный день.
IV. «Так роман был первый начат, и конца роман не знал…»
Так роман был первый начат, и конца роман не знал.
Волн быстрей дни нашей жизни, и Павлуша поспешал.
Смерть пришла, как тень внезапна, и ребенок наш угас,
Он, рожденный в день прекрасный и в счастливый тихий час.
Он лежал в гробу прозрачный и как будто говорил:
«Плачьте, плачьте, я–то знаю, что свое здесь совершил,
Заключил я краткий век мой, но успел всё испытать,
Всё, что сердцу нужно было и на чем лежит печать
Жизни вечной… Всё святое полюбил я в ранний час,
Оттого иду спокойно и в душе лелею вас.
Между нами нет разлуки, только крепче связь с Отцом».
Так, казалось, говорил он просветившимся лицом.
V. «Провожали гроб ребята и девули без числа…»
Провожали гроб ребята и девули без числа.
Между ними, как вдовица. Слава юная прошла,
И была она прекрасна, словно белой розы цвет.
Лета день был теплый, ясный – он был дан тебе, поэт,
Чтоб печаль тобой любимых озарялася лучом
И кропился, как елеем, дух, пронизанный мечом.
Вот и вся поэма Павла, я писал ее затем.
Что во сне склонился милый и спросил он: «Папа нем?
Пусть напишет он про сына, не смущается концом,
Пусть собрата видит в Павле. Сочиняем мы вдвоем.
Сократи что больно было, вникни в светлый детский мир:
Нас, поэтов, ведь могила не лишает звонких лир».
Ad Rosam Per Crucem[3]
Всё темнее сердце и печальней,
Но к Тебе, упорствуя, стремлюсь.
Как лоза завьет колонну пальмы,
Я вкруг воли Спаса обовьюсь.
Никогда б не ведать мне исхода,
Не дойти до Божьего крыльца,
Если б Ты, предвечная Свобода,
Не приял тернового венца.
Если б, багряницей облеченный,
Ты не стал позорищем для слуг
И, на крест рабами вознесенный,
Не простер широко бледных рук.
И в борьбе с властителем упорным
Нам ясней Любовь твоя, Христос, –
На кресте обугленном и черном
Расцветет венок пурпурных роз.
Подражание Кампанелле
Народ наш величав, как некий светлый бог
С неисчерпаемой и творческою силой,
Но чудно правит им ребенок злой и хилый,
Велит ему – несет то камень, то песок.
Тирану низкому он выстроит чертог,
На дикий клич его забудет страх могилы –
Пойдет колоть людей, как сноп, что колют вилы
И в слепоте своей <замкнет> себя в острог.
И дело страшное! Когда к нему приходит
Вернейший друг его и говорит: «восстань!»,
Безумно в друге он обидчика находит
И яро на него свою подъемлет длань.
А тот – ничтожный царь, что ядом зелья травит,
Смеется в высоте и черту свечки ставит.
Слепой
Слепой от малых лет, старик убогий, с палкой,
По коридорам он бродил часами;
Своим незрячим взором жуткий, жалкий,
В шубейке порванной был одинок меж нами.
Как он попал сюда? Чем согрешил? Болтали,
Что обладал он памятью лукавой
И выдавал партийных… Тут кивали
На приходящего… Такой печальной славой
Был окружен слепец. Но многим он казался
Почти что ведуном. Он сны соседям
Истолковать умел и тихо улыбался
В отрывистой и сумрачной беседе.
Он в камере своей всех поименно помнил,
Знал святцы наизусть, был сам календарем.
И если жизнь нам делалась истомней,
Он утешал словами: «все умрем».
Вечное. Сонет
Пока забвение стыда
Как ткань гнилая не порвется
И многоглавая беда
Змеей вкруг мира грозно вьется,
Во дни, когда растет вражда,
И с братом брат безумно бьется,
И злое слово никогда
Пугливым сердцем познается,
На рубеже предельных мук,
Когда целующий – Иуда, –
Порвется пестротканый круг,
Нежданное свершится чудо,
И расцветет, как белый крин,
Из сердца мира – Божий Сын.
Аид
Они вскрывали мощи Иосафа
И видели в них только прах и тлен.
Пусть так! Когда Христа постигнул плен,
Что видел в нем надменный Каиафа?
Пусть Иосафу до Христа далеко,
Пусть мощи – только тень Святой Любви;
Но, если миру Бог сказал «живи!»,
Свирепей змия пламенеет око.
Змий, миру подаривший древле тленье,
Влечется лишь к тому, что создал сам.
Бессильному войти в лучистый храм –
Тому в гробах и сила и значенье.
Воробьи
То бывало, воробьи слетались
У решетки под моим окном
И чирикали и светом упивались,
Опьянялись солнечным вином.
Был я счастлив счастьем воробьиным,
Забывался под моим замком.
Вот их нет… И ныне ни единым
Уж не греюсь солнечным лучом.
И куда девались птахи эти?
Перелет – не дело воробья,
Их не ловят в западни и сети:
Неизвестна им тоска моя.
Мое сердце – как цветок измятый,
Кем–то брошенный на мостовой.
Одинок я, холодом объятый,
Одинок под пылью и пятой.
Убежали
Убежали нынче двое арестованных с работ,
Оттого–то наши власти злая оторопь берет.
Не пускают нас сегодня пробежаться по снежку,
На дворе чуть–чуть размыкать наше горе да тоску.
Мы, покорные, страдаем за удачливый побег,
Мы сегодня не гуляем, и без нас кружится снег,
И без нас заводят вихри песни гулкие свои,
И без нас близ кухни скачут на дежурстве воробьи.
Двор сурово охраняют–соблюдают сторожа.
Двое где–то убегают – им погода хороша.
Заметает след мгновенно легковеющий снежок,
И насвистывает бойко загулявший ветерок.
«Я новеллы нынче слушал…»
Я новеллы нынче слушал:
Мопассан галантерейный
Нынче спиртик будто кушал
У порога спальни ейной.
Был хозяйский сын героем,
Сам он был герой – пожиже;
Наслаждались жизнью трое,
Почитай, как и в Париже!
Жили–жили. Торговали
Многоценными духами
И цветочки обрывали
Ошалелыми руками.
Воровали дерзновенно,
И всегда сходило гладко.
И вздыхал проникновенно:
– Те года – не сон ли сладкий?
Жизнь, как Маслена неделя,
Торовато протекала…
А теперь – мели, Емеля,
К языку–то что пристало?
«Во тьме, меж нами, в ночь беззвездную…»
Во тьме, меж нами, в ночь беззвездную
Он умирал – вне череды,
И мы стучали в дверь железную,
Просили света и воды.
Всё глубже вздохи и размернее
Из груди миг за мигом шли,
И ночь, казалось, беспредельнее
Склонилась к матери–земли…
Вот чиркнет спичка отсыревшая –
Но света не увидим мы…
И грудь хрипела наболевшая
Средь этой сырости и тьмы.
Никто не внял. Не дрогнут правила,
Навеки данные тюрьме,
И под замком пребудут камеры,
Пока земля в глубокой тьме.
Последний звук… Ни вздоха более.
Спасен… Свободен он теперь!
Но кто–то всё стучит неволею
В железом кованную дверь.
«Пятидесятый день меж этих мрачных стен…»
Пятидесятый день меж этих мрачных стен
Я и томлюсь, и странно наслаждаюсь.
Вот ночь последняя, и кончится мой плен,
И в старый мир я возвращаюсь.
Настанет сладкий миг, и белой пеленой
Вдруг ослеплю глаза, и не в квадратах тесных
Промозглого окна утешусь синевой –
Увижу всю красу полей небесных.
Увижу я глаза не сквозь дверную щель,
Скажу, что думаю, без сторожей ревнивых,
И высшая тогда откроется мне цель
В моих томительных порывах.
Но не забыть мне тех, кто долгие года
Не перейдет теснин изгнанья;
Мне больно им сказать: простите навсегда
И жутко молвить: до свиданья.
Песня юродивого
Я от Бога всё приемлю,
Как небесные цветы,
Что летят ко мне на землю, –
Я от Бога всё приемлю
В свете вечной красоты.
Скорби, боли и недуги,
Если сердцем ты готов, –
Только сладостные други,
Скорби, боли и недуги –
Только круги лепестков.
Недоведомой мне тайной
Ты хранишь меня пока.
Средь сумятицы печальной
Недоведомой мне тайной
Жизнь страданий мне легка.
Так летят ко мне на землю
В свете вечной красоты,
И я дивным звонам внемлю,
Что несут ко мне на землю
Вековечные цветы.
«Кругл и розов. Взор сияет…»
Кругл и розов. Взор сияет.
Рот открыт и машут руки –
Вот таким меня встречает
Мой младенец – по разлуке.
Лиру строить не дерзаю
На державинскую оду,
Лишь смиренно прославляю
Мать и мощную природу.
Ева средь волчцов и терний
Тем упрямей поднимает
Человека, тем размерней
И полней в нем кровь играет.
А насколько и докуда
Хватит сил – что дальше будет?
Эта мысль – души остуда,
Здесь не мы, а Высший судит.
Званы мы в наш мир юдоли
Для труда преодолений.
Пусть гнетут и мучат боли,
Эти боли – лишь ступени.
«Мы двое вышли из тюрьмы…»
Мы двое вышли из тюрьмы.
Ты полетел – стрела из лука,
Я тихо шел… Расстались мы:
Для каждого своя наука.
Чрез площадь шел мой долгий путь.
Смеркалось, и снега сияли…
Дышала, поднимаясь, грудь.
Сквозь дымку звезды проступали.
Потом я улицей шагал.
Встречались люди, обгоняли,
Их голос ласково звучал,
Когда они мне объясняли,
Как здесь пройти, где повернуть,
Как выйти на мосток к порожкам.
Так я держал обратный путь
И в жизнь вливался – понемножку.
И сердце ждало сладкий миг…
Так ждет, в лазури догоняя,
Журавль подбитый горний клик
Его приветствующей стаи.
Кручина
Над равниной плакала кручина;
Растекалась кручина ручейками,
Ручейки по речкам собирались –
Уходили речки к синю–морю.
И кручина, голосом окрепнув,
Говорила, пела синю–морю:
– Море, море, – Русь в боях могуча,
Каждый в ней – закал принявший витязь.
Только сердцу вдовьему не легче,
Только сердцу матери не слаще
О погибшем витязе крушиться.
Льются слезы без конца, без края.
На полях, политых кровью братней,
Вызревает хлеб, и хлеб тот горек. –
Так кручина морю говорила.
Омрачилось сине–море. Горькой пеной
Побелели волны, но спокойно
Прогремело море: – Праздный ропот.
Человек приходит не навеки,
Не навек уходит из–под солнца.
Посмотри на небо: круги правит
Человек, подобный звездам светлым.
Не горюй о нем ты, доля вдовья,
И не плачь о нем, старушка Божья:
Зоря алая не на́ век отгорает –
Пролитая кровь не погибает.
Поклонись, кручина человечья,
Ты отцу зари, предвечному солнцу.
«Издалека мертвил я благодать…»
Издалека мертвил я благодать
И осквернял тебя, божественная фреска;
И краски яркие затем лишились блеска,
Что я не мог палитры удержать.
Я двигал кисть вперед и снова вспять,
И вот судьбы законная отместка.
Так Космоса незыблемый закон
Один навек – как ход самой природы.
Узнай ту ткань, где ты, как нить, вплетен,
И обретешь ты дар святой свободы –
То будет миг, где явь сменяет сон.
«Он нездоров – и стал вдвойне нам дорог…»
Он нездоров – и стал вдвойне нам дорог:
Дрожа, горит в нем малый огонек.
Нам каждый вздох и крови каждый шорох
Гласят как зов, как ласка, как упрек…
Меж нас он врос звеном нерасторжимым,
Беспомощный – он силу нам дает;
То нас роднит с высоким херувимом,
То с червяком, что по листку ползет.
Далекие светила, сохраните
Недужного целительным лучом:
Вот жизнь его на еле зримой нити
Качается под каждым ветерком.
«Причалили… И брызги влажной пыли…»
Причалили… И брызги влажной пыли
Блеснули на лету, но луч погас. –
Усталость нашу мы еще хранили,
А море бурное ушло из глаз.
Освобожденные, мы снова вместе были,
Тюремные собратья, – в первый раз.
Мы о случайном много говорили;
Молчание соединяло нас.
И вот опять переживаю снова
Вчерашний день – и он во мне поет;
Ушедшие, к вам обращаю слово:
Пусть радуга над вами расцветет;
Открытым взором нашу боль окинем,
Как легкий дым, витающий на синем.
Перекати–поле
Плугом я оторван от земли родимой,
Я подхвачен ветром и несусь по полю –
Чрез овраг, дорогу, пашню – мимо – мимо,
С ветром разделяю новую мне долю.
Я землей питался и развил недаром
Купол свой ветвистый – был кустом зеленым;
Мчусь я бурым комом, обкатался шаром,
Породнился с буйным вихрем–ветрогоном.
Пробегаю версты, – и поля всё те же;
Конь храпит, испуган, смяв меня копытом.
Хорошо мне прядать чрез кусты и межи,
По пути обняться с бурьяном невзрытым.
Жажду вместе с ветром вечной перемены;
Хочется летать мне, нравится катиться.
Я еще не волен, но уже не пленный:
На крылах воздушных я лечу, как птица.
Два сонета
1. «Лик Спаса моего я подниму ль, склоняясь…»
Лик Спаса моего я подниму ль, склонясь,
Хоругвь священную я понесу ли миру?..
О, сколько долгих дней я не тревожил лиру,
Слезами горькими смывая кровь и грязь…
Ты не возьмешь меня, мой древний темный князь,
Не привлечешь раба к покинутому пиру;
Довольно послужил я жалкому кумиру –
На новый, лучший путь иду, перекрестясь.
В тюрьме моей твои сокрушены оковы.
Суровые враги, хвалю ваш грозный стан;
Дерзай, слепец, ты мне от Бога дан.
Твой залп не заглушит моей Осанны,
Свобода не лишит даров твоих, острог,
Когда со мной Отец, душе рожденный Бог.
2. «В руке Твоей я только ком земли…»
В руке Твоей я только ком земли,
Ты вылепил и, сжав, растопишь снова.
Покорно жду таинственного слова,
Чтоб лилии над бездной расцвели.
Когда б уста изобразить могли
Хоть луч любви, луч солнышка Христова,
Иль между волн, где тонут корабли,
Размах сетей, раскинутых для лова!
Влеки меня, предвечная Любовь,
Не покидай привычного к изменам.
Пусть голос твой звучит еще и вновь:
Как я блажен моим нежданным пленом!
За дверью там блестит нестрашный штык…
Товарищ, ты слыхал, что Бог велик?
«О новом смертнике мы слышим каждый день…»
О новом смертнике мы слышим каждый день,
И каждый день уму вопросы ставит.
Уж смерти не страшит таинственная сень,
И, мнится, правильно наш перевозчик правит.
Бодрись, мой дух. Будь легок, как олень,
Беги к тому, чье имя солнце славит.
Пусть в шлаки темные тоску мою и лень
Высокий Параклет в каленом горне плавит.
О, други близкие, вы слышите ли гром,
И гнева ярого вы видите ли чаши?
Вопросы крайние поставлены ребром.
Для истины сердца зажгло ли ваши?
И мудрость вещую отвергнете ль теперь,
Когда безумствует в своем бессилье зверь?
«Мои часы ведутся без ошибки…»
Мои часы ведутся без ошибки,
Мой жребий вынут – я не тороплюсь.
В перстах Твоих лозой хочу быть гибкой
И слышу голос Твой: «Дерзай, не трусь».
В саду любви благоухают липки.
С цветка к цветку я, как пчела, несусь;
Я верю, Ты простишь мои ошибки,
Когда Тебе, Единому, молюсь.
Ты без меня детей моих научишь
Прекрасному, как ты учил меня…
Быть может, ты темницей только шутишь,
И я, бубенчиком моим звеня,
Пасусь, как мул, в репьях и без поклажи,
Беспечный мул, простой, ленивый даже.
«Ты пишешь и слезу роняешь на листок…»
Ты пишешь и слезу роняешь на листок.
Зачем ты здесь? Бежал от пули и штыка.
О хате и земле сожгла тебя тоска,
И ты ушел в кусты и скрылся, как сверчок.
Не вышло – не того… И строгий человек
В разлатом галифе накрыл – и цап–царап!
Теперь сиди и плачь… И слезы кап, кап, кап…
Бумага смокла вся. Утешься: не навек.
Плечами богатырь. Румян, как маков цвет,
Стыдлив, как девушка… Ты – подлинно герой
И вместе дезертир с поникшей головой.
Как мне понять тебя? Поведай свой секрет?
Устал от крови ты… Ты лил ее весь год.
Сначала с радостью. Потом – потом привык.
Но вот в печальный день вдруг поскользнулся штык,
Ты потянул назад, назад, а не вперед.
Ты не боялся, нет, но убивать устал.
Душа остынула… Довольно, дайте срок…
Теперь сиди в тюрьме, плененный голубок,
И всё, и кончено… Письмо ты дописал?
«Жизнь сердца жаждет вечной перемены…»
Жизнь сердца жаждет вечной перемены;
Я вновь пришел к тебе, мой мертвый дом.
Вновь посмотрел извне на те же стены
И видел часового под ружьем.
Играет изморозь по стенам; воздух ясен –
И пламенеет солнце на штыке.
Вот я гляжу, спокоен и бесстрастен,
А люди там – в уныньи и тоске.
Вокруг тюрьмы блуждаю наудачу.
И мнится мне, что тайну я открыл:
Простор полей я чувствую иначе
И белый снег по–новому мне мил.
Удавленник
М. Г. Рождественскому
Он с нами жил и ждал суда в смятеньи,
А в сердце тьма вросла, как черный цвет.
Нам слышались в ночи то стоны, то хрипенье
Души растерзанной, не верящей в рассвет.
Он ждал суда, но смерть впитал заране;
В прощальный час дрожал, как зябкий лист,
И бросился в петлю, избрав крючок в чулане,
Толкнул ногой скамью, мотнулся и повис.
А утром мы веревку разделили,
Бранили глупого: куда, зачем спешил?
А как и где его похоронили,
Не знаю, не слыхал, и звать как – позабыл.
Безумный ты, мудрец ли, я не знаю;
Я знаю, ты ушел туда, где нас мудрей.
Вслед за тобой душою я блуждаю
Сквозь сумерки торжественных зыбей.
От смерти в смерть уйти! Бежать от смерти лютой
В объятья смерти нежной, как сестра.
Приять венец, дарованный минутой,
Услышать зов: «Приди. Я жду… Пора».
Сновидцы
И. М. Персиц
Мы поутру в чека от таинства ночного
Несем на братский суд видения и сны.
Тот видел паровоз, а тот барана злого,
Та – жутко–алый луч, а этот – сук сосны.
И серый старичок, болезнью изнуренный,
В провидцы чуткие внезапно обратясь,
Толкует медленно: «К добру, когда зеленый».
«Ждет оправдание». «Твоя к тебе придет».
«Яйцо мерещилось как будто бы большое», –
Продребезжал чуть слышный голосок.
«Яйцо? К слезам всё круглое такое».
«Хлеб видела? Дождешься, верь, дай срок».
Мы здесь вповалку все… Но трепет жизни тайной
Струится над челом измученных людей,
И рок божественный, извечный, неслучайный
Сердец касается крылом летучих фей.
3. К розе путем креста (лат.).





