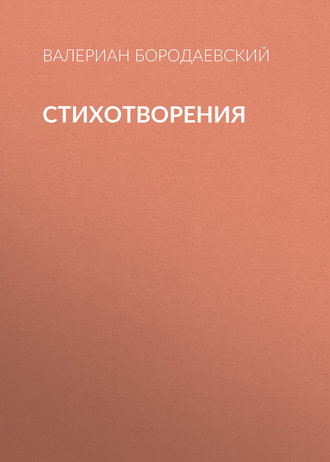
Валериан Бородаевский
Стихотворения
Колыбельная сердцу
Лебедь прекрасный, твоя чистота отражает
Розы румяной зари.
Синие воды твою белизну повторяют.
Лебедь прекрасный, душе говори.
Озеру ты ли навеешь сон о снежных вершинах?
Берегу – рокот забытых гармоний?
Ты ли, душа, отразишься в душе лебединой?
Душу мою истомленную помни.
Лебедь прекрасный, побудь хоть немного со мною:
Я не дотронусь твоей белизны.
Ты ведь успеешь лететь над печальной землею,
Синие могут терпеть глубины.
Retardus
Есть в человечестве натуральная сила инерции, имеющая великое значение. Сила эта… безусловно необходима для благосостояния общества.
Победоносцев
Ты встал над Русью мертвенным кащеем,
Наставник царский и российский папа;
Ты тайно совещался с древним змеем,
И мощь была в твоих костлявых лапах.
Ты обнимал до смертного томленья
И поцелуем замыкая стоны,
А сам любил красу богослужений,
Просфоры, свечи, золотые звоны…
А сам любил кремлевские седины,
Раскольников пылающие срубы…
И мозглых казематов рык звериный
Чуть поводил насмешливые губы.
Самодержавия предызбранный оракул,
Тебя страшил налитый ветром парус.
Ты веровал в несокрушимый якорь.
Тобой владел угрюмый дух Retardus.
В степи
Жаворонки в синем возжигают свечки.
То и дело свечки ставят по–над полем.
И пионы степи пламенные речи
Властно выкликают о широкой воле.
В сердце радость свищет, как на лапках суслик.
Солнце не устанет, кони не изменят.
И пролетки ловкой круговые щели
Бесконечность Бога безнадежно мерят.
Снежинки 1922 года
Солнце щурится, желтея сквозь туманы,
И лениво падает перекрестный снежок.
Из гигантской трубки кто–то над домами
В небо чуть пускает сиреневый дымок.
Я ушел из дома и брожу без цели.
Я смотрю, как трое дерево валят.
За веревку тянут. Слышу – заскрипело.
Рухнуло и стихло… Глухо говорят.
Слышало ты, сердце, как деревья стонут,
Старые деревья парков и дорог?
Из туманов синий приоткрылся омут
И последний падает белый пушок.
Вот бегут: старушка, мальчик и салазки.
– «Войтыл, поросенок, а теперь лимон:
Что – лимон?» А мальчик, растаращив глазки,
Видит – снег и солнце. Миру удивлен.
Миру удивляюсь и брожу, как пьяный,
Говорю снежинке вздорные слова.
Солнце желтое сквозь сизые туманы
Словно в полумаске улыбается едва.
1921
Венчанные кровавыми звездами,
Они песнь вольности широкую несут.
И на ветру развеянное знамя,
Пурпурное, гласит: «Они идут».
И мир взирал с надеждой и тревогой
На грозный труд тех роковых людей,
Что, повинуясь чьей–то воле строгой,
Искали неизведанных путей.
Европа порывалась и не смела,
И, мастера крапленых карт, вожди
Коварно говорили: «Не поспело»,
В зачатке убивая мятежи.
Мы кровью изошли на скудных нивах,
И побеждал красноармейский штык.
Но облака на небе были лживы,
И солнце всякий выпило родник.
С Поволжья ширится зловещий голод
И сердце слабое полно тоской,
Оно стучит – стучит, как тяжкий молот,
Взлетающий над крышкой гробовой.
Земля, насытясь трупами, устала.
Живые спорят с гробовым червем.
О, Русь, ты правды мировой искала,
И правда обернулась – костяком.
«Родитель мой король – он был в жестоком гневе…»
Родитель мой король – он был в жестоком гневе,
Когда пасти стада за речкой голубой
Я, королевский сын, к пастушке, робкой деве,
Однажды убежал весеннею зарей.
И как Адам в раю полурасцветшей Еве,
Так я отдался ей – и мудрой чередой
Скользили дни мои, и грезил змий на древе,
Пока я песни пел любви моей святой.
А в королевстве шли великие раздоры:
Король низвержен был, другой на трон воссел,
Но что мне до того? Я только песни пел.
И помню: раз мы с ней от королевской своры
Спаслись на дереве. Там, заплетясь гнездом,
Ласкал нас древний змий – и спали мы втроем.
9 января
Кровавым январем ты продолжал этапы
Судьбины роковой безумно отмечать;
Издалека ее к тебе тянулись лапы,
И на чело легла проклятия печать.
Когда к тебе с хоругвями, как дети,
Текли толпы и пели гимн отцов, –
Вдруг проиграл рожок, и залпом ты ответил,
И лег багрец на белизну снегов.
Ты показал, что страх позорней преступленья,
Узнала Русь, что там, в дворце – лишь раб.
И день за днем ковал ты только звенья,
И, слабый царь, ты в кузне был не слаб.
В грозовых днях ты был изнанкой нужной,
О цоколи дворцов точилися мечи…
Ты трепетал, как выродок недужный,
И сердцу и уму ты говорил: молчи!
Но в глубине твоей Водитель жил суровый,
Сильнейший, чем Гапон, избранник января.
Он вел страну к пожарам жизни новой,
Он миру жертвовал Россию и царя.
III
«Наш милый сын, рожденный на вершине…»
Наш милый сын, рожденный на вершине,
Как неба дар был сердцу беглецов;
И кольца змиевы баюкали отныне
Младенца нежного под шелесты дубов.
Он дивно рос и креп, внимая, как в долине
Скликались голоса торжественных дроздов,
Как в горней высоте, к неведомой судьбине,
Стремился рой святых на властный клич богов.
Уж стал он отроком прекрасным и печальным;
Уже в расщелину ушел премудрый змий,
Чтоб сердце сжечь свое на алтаре хрустальном
Под пенье сладостных подземных литаний;
А юноша мечтал о славном бранном споре
И о красавице, тоскующей в затворе.
«В сияющей чаше белогрудые ласточки…»
В сияющей чаше белогрудые ласточки,
Безумствуя, реют на широких кругах;
– «Из солнца бы вырвать нам зернышко радости,
А там и затихнуть, умереть в камышах». –
Не спросят у сердца: ты, сердце, устало ли?
Сгорая, всё выше восходить мы должны
И помнить про небо, про ласточку малую,
Про волю святую острокрылой весны.
«Ты свела, как раковина, створки…»
Ты свела, как раковина, створки.
Ты бледна и говоришь едва.
Редкие слова бессонно горьки,
Как полынь–трава.
И, в глубоком кресле отдыхая,
Видишь там, через окно зеркал:
Брошена русалка молодая,
Вольная русалка между скал.
Острый камень окровавил руки;
Непреклонна стража хмурых гор.
И в последней угасает муке
Синий взор.
«Скажи, какой рукой, нечистой и позорной…»
Скажи, какой рукой, нечистой и позорной,
Ты сброшена – ребенок – под уклон?
За слово ль нежное иль за платок узорный
Ты предала твой дорассветный сон?
Какими шла неверными тропами,
Где находила камень – голове
И алыми холодными устами
Росинку малую ловила на траве?
Как, наконец, смирилась и потухла,
И вот теперь – ключом заведена –
Косишь глаза, как розовая кукла,
И просишь поцелуев и вина!
Ах, в этом теле, маленьком и хрупком,
Ты тайну неизбывную хранишь
И – мертвая, – кружась заздравным кубком,
Нам о любви растоптанной поешь
«Итак, фальшивы были роды…»
Итак, фальшивы были роды,
Был крик ребенка – только миф,
И возле дерева свободы
Разлегся охмелевший скиф.
Всё глуше, глуше льются речи,
Всё тише топот стад людских.
Так меркнут тлеющие свечи
В дыре подсвечников пустых.
Увы! Навеки – то, что было,
Что в древности своей седой
Сказалось Тютчеву как сила
Бессмертной пошлости людской.
«На поиски, быть может, лучших мест…»
На поиски, быть может, лучших мест
Стремится нить лучистая далеко;
Что до меня – куда ни кину око,
Я вижу свет и только свет окрест.
Небесный хлад в парче златистых звезд
Встречает клен, как мудрый царь востока;
Душа лесов, под дуновеньем рока,
Восторженно свой поднимает крест!
Здесь бересклет, румянясь как ланиты,
Стыдливой девы, сердцу говорит,
Что беззаветно любящий дарит;
Что вечностью те будут позабыты,
Кто в строгий час свиданья с женихом
Тьму не пронзит приветственным огнем.
Бабье лето
Спеши, спеши – короче стебель!
Дробите лист – вся сила в цвет!
Так мало солнца в бледном небе,
Чуть улыбнулось – и уж нет!
Вот на бугре, средь глины бурой
Пригрелся лютик… – как цветет!
Он до поры успеет хмурой
И просиять – и кинуть плод.
Гвоздика, видно, опоздала:
Малиновый венок так мал!
Пусть! Ты права, когда искала
Пробить свой корешок меж скал!
А было жестко, было больно, –
Так больно было – путь искать
И, замирая мимовольно,
О влаге камень вопрошать!
Что было так легко в апреле,
То чудо – в этот краткий срок;
Но мир – весь чудо, и у цели
Смеется каждый лепесток.
Святое время – бабье лето:
Тепла последний перегон;
Как будто явь – и точно сон;
Как будто песнь – а кем пропета?
«В звуке – вся жизнь, вся надежда в торжественном гуле…»
В звуке – вся жизнь, вся надежда в торжественном гуле
В трепете ветра и рокоте вод;
Думы свой круг завершили – устали, уснули;
Сердце смирилось – и ждет.
Вот из–за рощи волна доплеснула святая
Колоколов.
В синих просторах звезда прочертила, мерцая,
Мнится: ласкающий зов…
Ты ли, душа, мне родная,
Вышла, любя, из своих берегов?
«Серебристо–воздушными нежными пятнами…»
Серебристо–воздушными нежными пятнами
Одуванчики светятся в росных лучах
И мерцаньями тихими, сердцу понятными
Говорят о мгновенном, гласят о веках.
Красный стебель ты сломишь и дунешь рассеянно –
Зыбкий призрак разорван и тает, как дым;
Но не верь: что природой, как семя, содеяно,
Причастилось бессмертью под солнцем святым.
В этот утренний час, отягченные росами,
Улыбнутся цветы мимолетной весне;
И ответы богов за людскими вопросами,
Словно облак волокна, скользят в глубине.
Resignation
Воздвигнуты для въезда знатных лиц
За городом Херсонские ворота.
Я пленный в них входил, глядящий ниц.
Конвой был строг, уставший от работы.
Была глухая ночь. И сердцем я страдал,
Я чувствовал года – их груз мне сел на плечи.
Втроем мы шли. От них я отставал.
С конвойными какие будут речи?
Всё будет сделано как повелит закон.
Я говорю себе: откройся всякой каре.
В тюремной тьме, в ее давящей хмаре
Я верю, что сдержу совсем ненужный стон.
И, мнится, я впитал уроки древней Стои,
И сила мудрых слов как вечная скала:
Терпи не жалуясь, покуда кость цела.
Страдать покорствуя – ведь дело–то простое.
Наш дом – диковинный кирпичный красный куб,
Окошки сводчаты, замки по пуду каждый,
И черный дым, виясь над рядом труб,
Восходит к небесам с неутоленной жаждой.
Со всех сторон мы кинуты в тюрьму.
Грехи свои кто знает, кто не знает…
Тот сердцу верует, тот гордому уму,
И дни за днями тихо тают.
«Нам, полоненному народу…»
Нам, полоненному народу,
Что пал под силою враждебной,
Пошли твой дар, твою свободу,
Свод неба синий и целебный.
Пошли нам солнце золотое,
И пенье птиц, и ветер вольный,
Простор полей многоглагольный
И сердце, как цветок простое.
Дай нам понять, что волей отчей
Творится наше восхожденье,
Что первый в мире Бог – рабочий
И что к Творцу идет творенье.
Дай пленному лихую долю
Принять как таинство святое,
Дай сон: нет стен, а только поле
И в небе солнце золотое.
Легенда о Моисее
Однажды Моисей, взошед на гору,
Взирал задумчиво. Кругом светло
Сияла ширь холмов на радость взору.
Весной обласкана, земля цвела,
Ликуя в пестротканом облаченье,
Душа пророка радостной была,
И на челе сияло вдохновенье.
Вся в радугах под нежной синевой
Цепь снежных гор, как легкое виденье,
Сулила неизведанный покой….
Вдруг соколом гонимый голубь белый
Промчался в небе трепетной чертой –
И Моисея сердце восскорбело.
Он бросил в небо возглас: не убий!
И как бы тучей небо потемнело.
Нарушилась гармония стихий,
Гром грохотал, и эхо повторяло
Всё тот же возглас строгий: не убий!
И сокол внял. Над голубем витала
Смерть неминучая, но вот он снова жив,
А птица ловчая далече улетала.
Вернулась вновь, голодных положив
Птенцов к ногам сурового пророка.
И молвил: «Мне ловитву запретив,
Не хочешь ли их гибели? Жестоко
Твое решение. Возьми, корми их сам!»
И сокола пронзительное око
В последний раз скользнуло по птенцам
И вещему пророку. И покинул
Детей тому, кто взор свой к небесам
Воздвиг, молясь. Но миг сомнений минул,
Он нож берет. Вот грудь он обнажил
И лезвие кругообразно двинул.
И плотью Моисей голодных наделил,
И кровью их поил, забыв страданье.
Так, став истоком живоносных сил.
Пророк святое вынес испытанье.
Песенка стража
Мурлычет сторож песенку
У двери у моей;
Знать, тоже ищет лесенку
Туда, где посветлей.
То кается, то мается,
То будто вовсе пьян…
Так по ветру качается
Замотанный бурьян.
С той песнью в сердце просится
Мечтаний легкий рой:
По малой капле точится
За звуком звук родной.
Люби кого приходится.
Кого? Не всё равно ль?
Святую Богородицу
Иль трепетную моль?
На всем печать Господняя,
Везде Его рука,
И песня та свободнее,
Что плачет у замка,
Что стонет понемножечку
Всю ночку напролет,
Сверлит себе окошечко,
Хоть щелку на восход.
Мечтатель
Ах, бежать от стен ревнивых,
Поразмыкать злое горе,
Позабыть зоилов лживых,
Видеть горы, видеть море!
Видеть вольные просторы,
Слышать говор, клик и хохот.
Шире море! Выше горы!
Там, где мула звонок топот…
Над тропинкой каменистой,
Там витают только птицы,
И озон струится чистый
В царстве вещей Ледяницы.
Обежать мир стародавний,
Облететь ли быстрой думой?
Ну, скажи, что своенравней
Вновь прийти к тюрьме угрюмой,
Попроситься под запоры,
Повиниться перед стражем,
Оттого что море, горы,
Всё у нас – когда прикажем.
Эзопу
Гений в теле горбуна,
Вдохновеньем озаренный,
Ты – всегдашняя весна,
Вечный лавр густо–зеленый.
Что тебе зима и плен,
Непогода или вёдро?
Всё земное – прах и тлен,
Правда только в песне бодрой.
Жизнь уходит, как струя
Из разбитого сосуда,
Все условья бытия –
Черепков гремящих груда.
Правда там, где дух царит,
Где мечте своей в угоду
Непрестанно он творит
Сам себе свою погоду.
Правда там, святой мудрец,
Где бессильны плеть и казни.
В легкокрылой твоей басне
Ты нашел ее, творец?
Паук
Посвящено Диме
Вот он, паук, давно классический.
Как быть тюрьме без паука?
В нем символ дан почти мистический:
Отъединенье и тоска.
Таясь, весь день глядит внимательно
На суету бездумных мух
И ткань свою блюдет старательно,
Как инженер суров и сух.
Ему пути давно намечены
(В себе носил он те пути)…
Там, где две нити третьей встречены,
Он должен жертву оплести.
А сколько на улов отчислено
Крылатых фей на каждый день?..
И молвит он глубокомысленно,
Почти сурово! «Не задень,
Не нарушай порядка строгого,
А сам в углу своем сиди,
Учись у паука убогого
И познавай, что значит: жди».
Так говорит он или слышится
Из глубины моей тоски?
И паутина чуть колышется,
Натянутая мастерски.
По вольной воле иль рождению
В тюрьме нашел ты крепкий дом?
Что уподоблю наслаждению
Беседы с пауком?
Песня луны
Посвящено Наталии Ивановне
Сквозь мою решетку из–за туч струится
Тонкий луч, трепещущий и нежный,
То луна, земли моей сестрица,
Всё–то ходит по степи безбрежной.
Наливает тучку золотым елеем,
Душу наполняет грезой и покоем,
Будто тихо молвит: «Что мы разумеем?»
И еще потише: «Многого ли стоим?
О тебе, поникший, в небе я тоскую,
Вот и заглянула в малое оконце.
Солнце наклоняет чашу золотую;
Солнце не устанет оттого, что – Солнце.
На полях лазурных, заплетая петли,
В ризе сребротканой я почти устала.
Свет мой хоть и видишь, вопрошаешь свет ли?
Неба дар безмерен – сердцу всё–то мало».
Посох в цвету
Если твой посох расцвел, кто помешает скитанью,
Кто преградит тебе путь, если ты с Богом идешь?
Странником был ты и станешь свободен, пленный;
Каждой дороге отдаст верный свой оттиск стопа.
Друг природы
посв. Вас. Иван. Шевченко
Менять ружье не так уж безопасно,
За это попадешь порой и под замок.
Ну, что ж? Я рад: я слушаю, как красно
Ты про охоту молвишь, мой стрелок.
Ты говоришь, и видится мне ясно
Весенний день, скользящий твой челнок.
Ты сгорбился и в небо смотришь страстно,
И тихо–тихо щелкает курок.
Почуяли… крыла звенят по влаге.
Чу! выстрел! И Трезор твой, полн отваги,
Бредет в кусты, куда чирок упал.
Промок, дружок… И гладишь ты Трезора…
Так при тебе я волю вспоминал.
Терпи и жди!.. Ты в Льгов уедешь скоро.
Защита песни
Пишущий стихи похож на того, кто,
собираясь ходить, подвяжет ногу.
Л. Толстой
Суровый дух, стихи ты осудил.
Мудрец, ты в них забаву только видел.
Но не людей – ты истину обидел,
Ты о цепах поющих позабыл.
К певунье пряхе стройный ритм восходит,
Кто с челноком заговорит шутя.
Взгрустнется ли, забвение находит
В мурлыканье безгрешное дитя.
А бурлаки, что бечевой ходили,
Как вьючный скот поникшие в тоске…
Их песни вольные о матушке–реке
От очерствения, как миро, сохранили.
Смягчается томление дороги,
Когда бренчит колоколец дуги,
И пел ямщик про жребий свой убогий
И создавал «не белы то снеги!».
Нарушена ль души моей больной
Гармония – ищу родных созвучий.
Ты, песня, – радуга под тучей грозовой,
Опора и надежда жизни лучшей.
Малышу
Дитя без соски и гремушки,
Ты – радость наших тусклых дней,
И как судьбе, седой старушке,
Не улыбнуться веселей?
Рука косящей не устала,
А ты явил свое лицо,
Пришел, пока несет так мало
Яиц куриных Глав–яйцо.
Трещит, скрипит ладья Харона,
Работою утомлена.
Давно «на пана и барона»
По Стиксу плавает она.
Цвети без булочки… И много
Одолевай докучных без!
Но, если вправду силен бес,
Он только тявкает на Бога.
Андре Шенье
посвящ. Е. М.
Нет, никогда ошейник гильотины
Не омывала кровь святей, чем эта…
Огнем и духом правились крестины
Прекрасного и юного поэта.
Как он любил укромные долины,
Где дремлет Пан в палящий полдень лета,
И песни дев, роняющих в корзины
Дар нежных роз для гроба и букета.
Тропою кротости он шел к великой силе,
И стал он – лев, когда пришел палач,
И волки исступленные завыли,
Чтоб заглушить детей и женщин плач,
Гнев правого и рокот соловьиный,
Витающий над черной гильотиной.
Книга в тюрьме
Посвящ. Леон. Петр. Богданову
Романы Эркмана и Шатриана
Читаем здесь. В них прелесть простоты,
И выступают как бы из тумана
Народные незримые черты.
В них жизнь дана вне позы и обмана:
И сельские смиренные цветы,
И горечь слез под грохот барабана,
И сердца заповедные мечты…
Блюдет один из пленных книги эти,
Тюремный шкаф кой–чем снабжает нас.
Забудешь всё. Вдруг вскрикнешь: «вот те раз…
Странички нет! Граждане – те же дети:
На папироски дергают листки,
Чтоб табачком забыться от тоски».
Моему сыну. Сонет мистический
Когда они пришли, ты рисовал безделки,
В которых был намек на строгий ход судьбы:
Блужданья моего там намечались стрелки
И Года старого увечья и горбы.
Когда они ушли – от острой переделки,
Как Астероиды – след мировой борьбы,
Ютились ящики, бумаги, скарб наш мелкий,
А я уже шагал на внятный зов трубы.
Душа смятенная клянет свои основы…
Но, зодчий храма, знает: нет, ты не в плену,
Здесь тайна некая, бродило жизни новой.
В солнцевороте том угадывай весну,
И ты поймешь, мой сын (пускай немного позже),
Кто, мудрый, замесил нам в этот хлебец дрожжи.
Тиф
посвящено Талаловскому
Есть паразит, приносящий в укусе
Немочь лихую, нередко и смерть.
Верит ученый в науку и трусит,
Смел неученый: он верит лишь в твердь.
Злой паразит заповедному служит,
Правит им ход неуклонный планет.
Кто о небесной планете не тужит,
Должен о тифе не слишком скорбеть.
Он не напрасно тебя посещает;
Вот отчего неученый правей:
Верит в планиду и бодро шагает,
Смерть ли он встретит – братается с ней.
Вот посмотри: на снегу бросил платье,
Голый сидит и снежком себя трет:
Надо быть чистым, – и это занятье
Я во дворе наблюдал… О, народ!
Много ты тайн недоведомых чуешь,
В этом святая твоя красота.
Пасхой Христовой ты смело целуешь
Хоть и проказу – устами в уста.
И ничего! Так наступит на змея
И скорпиона, кто прав и велик.
Кто через зло перейдет не робея,
Тот уж не носит цепей и вериг.
У больного
Он бледен и в тенях зеленых. Уходят
В орбиты глаза.
Протянуты руки вдоль тела
Поверх одеяла.
Что скажешь ему,
Посетитель?
Помнешься
И бросишь тоскливую глупость,
Что, дескать, напрасно
Горькую долю тюрьмы
Усложнять…
Что люди лихие
Не могут понять…
Довольно.
Он слушает? Нет. Забылся? Ни слова…
Ему не смешно и не нужно.
Довольно!
Его лихорадит. Уходят
В орбиты глаза
На лице исхудалом.
Солнце в коридоре
Клонится к западу ясное, красное.
Вышли и мы в коридор
В длинном окне посмотреть
Солнце прекрасное,
Желтый по стенам узор.
Бледные лица друзей,
Тех, кому здесь посветлей.
Ходим мы кучками, речи не вяжутся…
Всех–то нас тянет к окну
То ли себя пожалеть,
То ль помечтать про «такую бы лестницу»,
Про старину,
Иль посмеяться, кто в смехе успел
Выковать щит от томительных стрел
И дразнящих…
Лучей,
Тихо скользящих
По лицам людей.
Чья красней?
Посв. Нат. Никол.
К раббину Риво некто приходил,
Глася: «Назначено мне дело злое;
Мне говорят, чтоб меч я обнажил
На человека. Но мерзит кривое,
А повелевший смертью мне грозил,
Когда ослушаюсь. Рабби, больное
Утишь мне сердце, совесть развяжи,
Что ныне делать, ясно расскажи».
И отвечал учитель: «Сам подумай
О крови брата – иль твоя красней,
Чем кровь его? Пускай злодей угрюмый
Убьет тебя – ты крови не пролей.
Ждет смерть тебя иль жизнь в юдоли шумной,
Не изменяй завету: «Не убий»».
Так говорил смятенному Рабби.
Изобретатели
Посвящ. Ив. Евг. К.
Долой острог! Да здравствует трудовая коммуна!
Надпись на флаге
Убийство Каин изобрел
(Был человек–кремень),
И кроткий Авель отошел,
Как гаснет вешний день.
А кто решил людей согнать
От четырех дорог?
Кто первый изобрел острог?
Кого мне поминать?
Иль имя это сам Господь
Скрывает от людей?
Ведь Каин убивает плоть,
И душу – этот змей.
Еще охотнее сравнишь
С косматым пауком…
Он опозорил слово дом:
Ни дна ему, ни крыш!
Пусть он витает в пустоте,
Не ступит на порог,
Кто черной послужил мечте,
Кто выдумал острог!
Окно без рам
Диме
Поднявшись на этаж второй,
Ты подойдешь к окну без рам,
Где сквозь решетку ветр живой
Несет не воздух – фимиам;
И вольный виден кругозор:
Площадка бега и за ней
Пустынных домиков узор,
Дымки, а там – простор полей.
И восхищенный ловит взгляд
Вид идиллический. Вдали
На лыжах четверо ребят
Цепочкой резвой протекли.
Вот сняли лыжи. На снежки.
Меж ними бой уже кипит;
Они задорны и легки,
И верно каждый победит!
Над ними веет ветерок
И тот же ветерок в окно
Несет порхающий пушок,
И место мне в игре дано.





