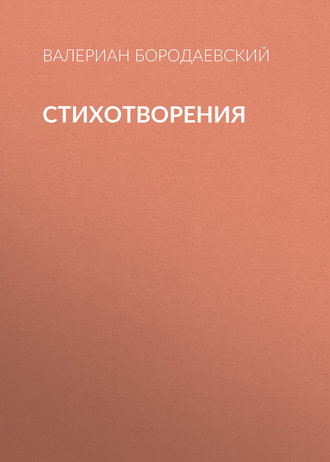
Валериан Бородаевский
Стихотворения
VII. Приказчик
Дорожкой полевой в потертом шарабане
Ты не спеша трусишь… Луга еще в тумане;
Но встал ты вовремя: ты правишь ремесло.
Картуз, надвинутый на хмурое чело,
В рубахе кубовой твой стан отяжелелый,
Степная крепость мышц и шеи загорелой,
В перчатке замшевой огромная рука
И длинный жесткий ус, седеющий слегка,
На грунте желтых нив и неба голубого, –
Как много для меня храните вы родного!
Лошадка круглая, не требуя вожжей,
Бежит размеренно – ни тише, ни скорей.
Ты должен осмотреть порядки полевые:
Потравы нет ли где, идут ли яровые,
Шалят ли овражки; не виден ли жучок…
Телега встретится: соседский мужичок;
Поклон приветливый – и вольная дорога. –
Ты тронешь козырек и поворчишь немного,
Что, в рожь заворотив, погложет как–никак
Клячонка тощая тобой хранимый злак.
На полку едешь ты. Там вольный распорядок.
Подолы подоткнув, рассыпались меж грядок
Девицы шустрые; не молкнет яркий смех…
Мелькнет вдруг молодость и первый сладкий грех,
И первое «люблю» полольщицы–дикарки
В глазах, расширенных как у пугливой ярки,
Что нож почуяла от любящей руки
И блеет и дрожит, исполнена тоски…
И снова никого… Кругом простор да тишь.
Поводья натянув, на пашню ты катишь,
А чибис, вспугнутый над ржавыми лугами,
Кружит и плачется и хлопает крылами…
Уж солнце высоко, и недалек обед.
Ты повернул – домой… Подруга многих лет,
Смирившая твой пыл своей природой прочной,
Завидя шарабан в окошечко молочной,
Поспешно кубаны на ледник отошлет
И, сплющив нос, к стеклу губами припадет.
VIII. Повар
Ходит черный при луне
Таракан по балалайке
И бренчит о старине
Да о белой молодайке.
На плите вода шипит,
Жаром пышет поварская. –
За окном сверчок трещит,
Смотрит звездочка, мигая…
– Спишь ты, старый? – И стучат
Девки шустрые в окошко.
За картинами шуршат
Прусаки… Мяучит кошка.
Замирает при луне
Таракан на грустных струнах,
И бежит по седине
Серебро от струек лунных…
Ну, играй же, таракан!
Запляши на балалайке!
– «Ночь раскрыла сарафан,
Светят груди молодайки!»
Богини
I. Богини
Их было две по сторонам балкона,
Отрытые из древнего кургана,
Две бабы каменных, широкоскулых
И с плоским носом – две огромных глыбы,
Запечатлевших скифский вещий дух.
И милый дом, восставшие от праха,
Вы сторожили, мощные богини,
С улыбкой простоватой и жестокой
На треснувших, обветренных губах…
Одна была постарше, с вислой грудью.
Ее черты казались стерты влагой:
Быть может, сам великий, синий Днепр
Ее терзал в порыве покаянном, –
Владычицу греховную зачатий, –
И мчал к морям, с порога на порог.
Другая, юная, еще хранила облик
Девический; граненых ожерелий
Тройная нить ей обнимала шею,
Округлую и тяжкую, как столп.
О, серый камень, как томил ты дивно
Ваятеля, – как мучил он тебя,
Чтобы мечту пылающих ночей
Привлечь к твоим шероховатым граням!
Когда ко мне прекрасная хозяйка.
Чуть улыбаясь, шла с балкона, в блузе
И пышных локонах, кивая головой,
И становилась, опершись на плечи
Одной из двух таинственных богинь, –
О, что тогда в груди моей кипело…
Я слышал речь ее, с едва заметным
Акцентом польским, целовал персты
И увлекал от каменных чудовищ
К террасе, завитой плющом тенистым…
А там, внизу, они стояли грузно,
И каменные плечи их серели
Непобедимой, вечной, мертвой мощью…
II. В осьмнадцать лет
В мой городок из северной столицы
Глухой, метельной ночью я скачу
Услышать смех двоюродной сестрицы.
Я юный ус порывисто кручу,
Бубенчикам заливистым внимаю
И ямщику нелепости кричу.
Оборотясь, кнутом он машет: знаю!
(А борода – как глетчер, и в глазах
Лазурное приветствие читаю.)
Вкруг фонарей танцует снежный прах;
Дымится пар над крупами лошадок
И свищет ветер в гривах и хвостах.
И этот свист, как голос лирный, сладок
Под сводами торжественных ворот
(Являющих возвышенный упадок).
Вот белый дом. И здесь она живет…
Молчите, бубенцы! И тихо мимо
Дверей заветных он меня везет.
Горит душа, больной тоской томима,
И к лону нежной девушки мечта –
В осьмнадцать лет! – влечет неудержимо.
«Теперь скачи!..» Знакомые места:
Дрема домов, что выбиты навеки,
Как в бронзе, в детской памяти. Креста
Серебряное пламя; шар аптеки…
Там – сад во мгле… Всё за сердце берет!
И грезится: вот приоткроет веки,
Шепнет: «целуй!» и как дитя уснет.
III. Ребенку
Смеясь идешь, но с твоего пути
Я сторонюсь и, головой качая,
Шепчу:
– Дитя, повремени цвести.
Не раскрывайся, роза, ласке мая!
Они страшат – твои тринадцать лет
И этот профиль горного орленка,
Глаза огромные – их тьма, их свет, –
И алость губ, очерченных так тонко,
И платьице в широких кружевах…
Скажи мне – зеркалу ты верно говорила
Слова любви с улыбкой на устах?
И мать печальная, не правда ли, бранила
За долгий, нежный и пытливый взгляд?
Не прекословь… Склоненные ресницы,
Сокройте ясные глаза отроковицы:
Пусть тайну женскую до времени хранят.
IV. «Ты помнишь ли тот день, когда в саду отцовом…»
Маргарите Бородаевской
Ты помнишь ли тот день, когда в саду отцовом
Вдруг изнемог наш смех… И ты была в лиловом
И с лентой венчиком, и голос твой звучал
Как сладостный рожок среди вечерних скал;
А клены стройные сквозистыми перстами
Гасили острый луч и зыбились над нами, –
И падал изумруд – и вспыхивал и гас
Зеленый огонек полуоткрытых глаз?
Я полюбил узор простых и плавных линий,
И ты казалась мне забытой героиней
Романов дедовских, чью древнюю печать
Досужим вечером так сладко пробегать
И путать т и ш, похожие как братья…
И были мы одни. И многое сказать я
Хотел тебе… Но нет, нас кто–то окликнул!
И охлажденный ветр в лицо нам потянул,
И туча сизая, как чья–то дума злая,
Гнала полями тень от края и до края.
V. «Лицо твое, как светлый храм…»
Лицо твое, как светлый храм,
И купол сверху – золотистый.
Как этим северным чертам
Идут и кика и монисты!
В глаза как будто смотрит бор
Зеленых сосенок и елей,
Кивая смотрит – взор во взор –
Сквозь дымку мглистую метелей.
Слова любви дрожат, текут…
В ответ едва ты двинешь бровью,
Но вьются ленты и зовут
И на груди вскипают кровью.
А там – гудят колокола
От синих струй лесистой дали,
И в сердце сладкая стрела
Несет нездешние печали.
VI. Речные лилии
Вы лишь одни цветы речных холодных лилий
Душой младенческой тогда еще любили;
И праздником был вам тот долго жданный час,
Когда мы под вечер на счастье брали вас
В челнок охотницкий, и вы к рулю склоняли
Два пестрые крыла персидской легкой шали;
Мы ж, властно укротив лягавой визг и прыть,
Решали, важные, куца нам лучше плыть,
Чтоб дичь сторожкая – бекасы, утки, даже
Малютки–кулички (для полноты ягдташей)
Нас не почуяли, сокрытых в тростнике.
Так плыли мы втроем, качаясь в челноке,
И с весел медленных, журча, стекали капли.
За беглым плеском рыб, за взлетом тощей цапли
Следим прилежные… Вот щелкают курки, –
Весло скользит из рук… Напрасно: высоки!
И стайка серая чирят, свистя крылами,
Углом разорванным проносится над нами.
На миг забыты вы… Но зоркий синий глаз
Уж видит на волнах то, что пленяет вас:
За гривой камышей, в лучистой синей дали
Вам белые цветы любовно закивали.
Откинув локоны, вы, как бы невзначай,
Туда везете нас, и белый этот рай, –
Когда приблизимся, – с таким внезапным пылом
Охватит жадный взор, таким движеньем милым,
Ребяческим, вскочив, склоните лодку к ним, –
А шаль протянется по волнам заревым,
Чуть розовеющим, – и руки стебель длинный
Ухватят, цепкие, и вырвут с липкой тиной,
С листами влажными возлюбленный цветок,
Что был (казалось мне) тот час уж недалек,
Тот строгий час, когда, тревожны и суровы,
Любви таинственной предать себя готовы,
Мы, побледневшие, как тайной роковой,
Упьемся этих глаз бездонной синевой.
VII. Мефистофель
Андрею Белому
В красный вечер вдоль опушки
Мне навстречу пудель черный:
Завитушки, погремушки,
Над ушами бант задорный, –
Пышный бант из ленты алой!
А за ним, как лебедь статный,
Чудо–дева колебала
Солнца пурпурные пятна.
Скромен был жакет дорожный;
Хлыст в руке и Ритор сладкий, –
Том божественно–безбожный, –
И в глазах одни загадки.
Мефистофель с бубенцами
Вдруг залился… Вот обида!
Улыбнулась мне глазами
Чудо–дева, Маргарита.
Прянул красный луч по платью,
На губах зажег рубины…
Сгиньте, мары злой заклятья,
Наважденья сатанины!
И оделись пыльной тучей,
Провалились за ракитой:
Лик безмолвный, том певучий,
Алый бант и пес сердитый.
VIII. Идиллия
Le jour qui plus beau se fait,
Nous refait Plus belle et verde la terre.
Ronsard
Отгремел последний гром.
Как вином
Упоен наш сад приветный.
Влажный лист в лучах сквозит,
И скользит
Резвый зайчик семицветный.
Тянет дым из поварской,
Над травой
Тихо стелется, молочный.
Звонкий голос прокричит,
Пробежит
Босоножка в час урочный.
Кличет желтых гусенят;
И пищат,
Ковыляя вперевалку.
На балкон с тобой придем
И вдвоем
Сядем в шаткую качалку.
Книжку станем разрезать,
Пробегать
И страницы потеряем…
Прочь! Друг друга на побег
В рощу нег
Влажным взглядом призываем.
IX. «Долгий день читали вы журналы…»
Долгий день читали вы журналы,
Одиноки в недоступной комнате.
Облака уж догорали, алы,
И я думал: теперь меня вспомните.
И как были мертвы в старом доме
Бесконечные коридоры и горенки…
И с какой изнывали истомой
За окном розоватые горлинки!
Я смотрел сквозь кружево завесы
На тропинки, песком убеленные,
Слушал шепот сада, шорох леса,
Свисты кос на лугах, – отдаленные.
И когда я грустил на закате,
И обвеялись тополи дремою,
Зашуршало любимое платье
И шаги простучали, – знакомые.
Коридоры темны и пустынны.
Думал я: в переходах заблудитесь…
Ваше платье так строго и длинно.
Как от долгого дня вы пробудитесь?
И как тронете ручку дверную:
Вдруг охватят льдистыми объятьями
Тени древние – горячую, живую, –
И пройдете, звякнувши запястьями…
X. Зарево
Всю ночь над полями алело,
Как факел, тепло и светло.
Далекое где–то горело
Безвестное чье–то село.
И облак кровавые звенья
Вплетались в лазурную ночь
В тот час, как немые виденья
Плен сердца идут превозмочь.
Мы вышли… Искали прохладу…
Над клуней кричала сова…
Я верил пурпурному взгляду,
Но бледные лгали слова!
Всю ночь над равниной алело, –
Как знать, что творилось вдали?
И сердце восторженно пело
О розах ревнивой земли.
XI. Баядера. Сонет
Твоей мечтой взлелеяна химера
Высокого служения богам.
В объятия, отверстые, как храм,
Слепой хаос приемлешь, баядера.
Не дерзостно свободная гетера
Дитя учила ласкам и дарам, –
Покорствуя торжественным жрецам,
Ты возросла, священная пантера.
Твои полуоткрытые уста
Лобзаньями бессмертных славословят:
Как голубица в страсти ты чиста.
И путь из роз, смиренные, готовят
К лазури очистительной реки
В запястьях две истонченных руки.
XII. «Ты, женщина любви, бегущая вольней…»
Ты, женщина любви, бегущая вольней,
Чем дикий мчится конь в безудерже степей
И, буйный, прядает, кидая вширь ногами;
Немая женщина с желанными губами,
Раскрытыми для нег, как розовый бокал,
Что в забытьи моем я вновь и вновь искал!
Я знаю, – ты спешишь… Твои мерцают взоры.
Окно зовет тебя; открыты дерзко шторы
На площадь шумную, где каждый друг и брат, –
И пальцы по стеклу насмешливо стучат…
О, конь! Каким тавром плечо твое отметить
Иль бархатистый круп, чтоб, – где тебя ни встретить, –
Моя рука одна властительно легла
На холку длинную бездумного чела,
И ты пошел за мной, забыв и степь и волю,
И буйных косяков приманчивую долю?
Какой бы тайный знак мне в сердце начертать
Твоем, о женщина, чтоб, обратившись вспять,
Ты вновь пришла, любя, и, сжав чело перстами,
Сжигала кровь мою безумными словами?
XIII. Уездная
Я люблю печаль уездных городов,
Тишину ночей беззвездных, гул подков;
Площадей ленивых травы – подорожник и лопух –
И причудливые нравы пригородных молодух.
Что мне в том, что машет осень рукавом,
Льется дождь, другим несносен – что мне в том?
Переклик неугомонный ржавых труб
Сердцу, ищущему звоны, – только люб!
Сердцу, любящему струны, – лучший друг
Ночь, несущая буруны, матерь вьюг.
На стене моей беленой два скрещенные ружья
И портрет необметенный – будто милая моя;
Затянуло паутиной взор усталый, неживой,
И над грудью лебединой окружило как фатой.
Ударяет тихо в ставни чья рука, –
Или ты, друг стародавний, ты, Тоска?
Нежно бусы прозвенели на губах.
Этот пламень в гибком теле, детский страх!
Ах, в пурпурных этих волнах мне ли к берегу доплыть?
Ты притихнешь и подсолнух станешь робко теребить.
На груди, не позабыла, принесла стыдливый дар
И, потупясь, говорила: муж хмелен и стар…
Как любил я эти нравы молодух!
Площадей ленивых травы и лопух;
Тишину ночей беззвездных, заглушенный гул подков, –
Грусть забытых и безвестных, слишком русских городов.
XIV. «Ты в дубленом полушубке…»
Ты в дубленом полушубке
Хороша, как зимний день!
Целовал бы эти губки,
Да подняться что–то лень.
Сапоги твои расшиты,
На подковке каблучок;
Брови хмуры и сердиты,
И нахохлился платок.
А глаза – что у голубки:
Не видал таких во сне…
Целовал бы эти губки,
Только жутко что–то мне.
Слово горькое отрубит
Иль ударит – не беда!
Страшно, если приголубит,
Зацелует навсегда.
Брови хмуры и сердиты,
Ходят бусы на груди…
Нецелованный, небитый
Лучше мимо проходи.
София
«София, София, Небесная Дева…»
София, София, Небесная Дева,
Кропила и грела ты эти поля;
Но рдяные заросли вражьего гнева
Мне к лету высоко подъемлет земля.
София, София, Царица, Царица,
От гарпий спасешь ли твой гибнущий всход?
Взмахнешь ли серпом, светлоликая жница, –
Крылатая стая мне сердце клюет!
В победе неверной на миг возлетает
И кубком горячим упьется одна, –
Но мертвая снова, грозя, оживает
И вновь с победившей змеей сплетена.
София, София, Небесная Дева,
Царица над сонмами ложных цариц,
Исполнись святого и правого гнева!
Сожженный к стопам твоим падает ниц…
София, София, Царица, Царица,
Еще я не кончил молитвы моей, –
Как новая сладкая, страшная птица
Резнула мне сердце ударом когтей.
Разбитое зеркало
I. Моя свирель
Моя свирель – из белой косточки:
Слезами щели прожжены.
Когда взойдут, мигая, звездочки,
И копья льдистые ясны
Над белым и лазурным глетчером,
И зелень неба холодна, –
Еще белей холодным вечером,
Еще умильнее она.
Ко мне свирель моя запросится,
Коснется губ моих, любя;
И с ней душа горе возносится,
И с ней – ищу, ловлю тебя!
Вожу очами оробелыми:
И там и здесь – неверный свет…
И мне ль за горними пределами
Найти твой перелетный след?
II. «Я не знаю, что было, как было…»
Я не знаю, что было, как было, –
А смерть – та будет потом.
И за что мое сердце изныло,
Расскажет Архангел с мечом.
Расскажет Архангел гневный,
Потрясая пурпуром крыл,
Что очи любимой царевны
Я сам – убийца – закрыл.
А впрочем, на свитке свершений
Так много заклятых имен…
Так темны сходящие тени,
Так жуток прощальный их стон!
Не знаю, как было, что было, –
Вся мудрость моя изошла.
Кровавые смотрят светила
На холм, где царевна легла.
III. «Июль пылал, и вихорь пыльный…»
Июль пылал, и вихорь пыльный,
Крутясь, бежал и бил в лицо
И от невесты замогильной
Бросал разбитое кольцо.
Лучились жгучие осколки,
Дымился золотистый прах…
И дале вихорь мчался колкий
И где–то падал – на полях.
И где–то падал – в сизой дали,
И не восстанет никогда!
Ланиты, как июль, пылали
От грезы смутной и стыда.
А кузнецы в траве звенели,
Ковали неразрывный сплав…
И кольца новые горели
На перегибах шатких трав.
IV. «Огнем пожара сожигая…»
Огнем пожара сожигая
Из темных, окруженных глаз,
Мою дорогу, роковая,
Пересекала ты не раз.
И как губительной стихии,
Что победить не станет сил,
Я образа заповедные
Тебе навстречу выносил.
Ты усмехалась и бледнела
И, вскинув горестно платком,
Как лиру, выгнутое тело
Топила в хаосе людском.
Тогда я звал… Но ты молчала,
И я достичь тебя не мог,
Пока ты вдруг не вырастала
На перекрестке трех дорог!
И через годы, – в этой пытке, –
На перекрестке трех дорог,
Судеб таинственные свитки
Я разбирал – за слогом слог.
И ныне мне темно и сиро:
Уж не постичь твоих путей,
Ты, пламень сумрачных очей,
Ты, плоть, звенящая как лира!
V. «Довольно. Злая повесть кончена…»
Довольно. Злая повесть кончена
О возмутившемся рабе.
Чтоб улыбнулась ты утонченно,
Я посвящу ее – тебе.
Ты в ней проходишь, маскирована;
Но, размышляя, ты поймешь,
Зачем с прожитым согласована
Однажды снившаяся ложь.
И острия зачем притуплены
Былой снедающей тоски,
И много ранее искуплены
Пожатия твоей руки.
Не повторить, что жизнью скажется
О возмутившемся рабе;
А как узлы в ней крепко вяжутся,
Ты верно знаешь – по себе.
VI. «Подошли мы к разбитому зеркалу…»
Подошли мы к разбитому зеркалу
И глядимся, глядимся туда…
Черной трещиной лица коверкало;
О былые, о злые года!
Камнем выбит твой смех озаряющий
(Я осколок в душе схоронил).
Брезжит глаз, как огонь догорающий,
Как светляк на кусте у могил.
Изувеченный резкими струями,
С омертвелым стоял я лицом.
Покрывай же его поцелуями
И рыдай о небывшем былом.
VII. «Натянешь ли ты голубую вуаль…»
Натянешь ли ты голубую вуаль,
Мерцая булавкой, – широко, округло
Откинувши руки, и смотрятся в даль
Глаза, где угрюмое пламя потухло;
Иль руку в перчатке мне молча даешь
(Там бледный кружок у ладони любовно
Моим поцелуям оставлен!) – и ждешь
И слушаешь сердце, – забилось ли ровно;
И тронешь дверную скобу и ко мне
Опять повернешься и медлишь, мечтая
О встречах давнишних, о милой весне,
И крадет румянец вуаль голубая, –
Я знаю: я нищий… И чем отплатить
За чашу, где пенится горечь разлуки?
Не этой ли позой: недвижно скрестить
Тебя обнимавшие руки?
VIII. Прогулка
И гуще кровь становится, и сердце,
Больное сердце, привыкает к боли.
Ап. Григорьев
Да, мы пройдем с тобой близ ветхого собора
И стену обогнем, и тот же жидкий сквер
Нас поманит иссохшими ветвями
К скамье убогой, где когда–то мы
Читали вензеля, слова – признанья
Любовников давнишних… Уж они
Те надписи забыли и затерли
Телами грузными, вкушая отдых
С детьми и няньками в закатный час.
Под нами – Тускар. В голубых волнах,
Как жимолости цвет, снесенный ветром,
Тела людей отрадно розовеют –
Бесстыдные, зовущие тела.
Там, над водой часовенка и крест,
Которому так жарко я молился;
О чем – ты знаешь… Эти вечера,
Когда луна нас мягко озаряла,
Казалась ты далекой, как луна,
Как метеор, низвергнутый на землю…
Теперь всё это – правда ведь – как сон?
И, может быть, пора с холодным смехом
Резнуть ножом усталую скамью
И начертать горящие два сердца,
Которые пронзил единый вертел,
Протянутый лукавою судьбой?
Ты видишь, там – веселые гуляки,
Идут сюда… В нахохленном платочке
Девица краснощекая… Нам нужно
Скамейку уступить. Мечтать о жизни
Они не будут, если должно жить!
И отведем глаза, затем что опыт
Неправо судит бренную любовь.
IX. «Ты, дорассветной мечтою взволнована…»
Ты, дорассветной мечтою взволнована,
Никнешь к стеклу утомленным челом.
Белое небо, печально по–новому,
Смотрится будто незрячим бельмом.
С плеч заостренных платок опускается;
Ночью греховной ты шепчешь упрек.
Жадные красные губы сжимаются,
Как на снегу оброненный цветок.
К Царству Небесному сердце усталое,
Уж не противится, тихо идет.
Но и земное свое, запоздалое,
Счастье, как крест, покоряясь, несет.
X. «Солнце потоками крови горячей исходит…»
Солнце потоками крови горячей исходит.
Солнцем зажженные, мы улыбаемся двое.
Губы раскрылись, как рана, – и рану находят.
Солнце великое, кто твою рану закроет?
В древнем покое бесстрастья – кто прорубил тебя, злобный,
Жизнь неизбывная, боль воспаленных зияний?
Черные, милые очи, что тайне домирной подобны,
Слезы роняют одни, но верны своей тайне…
XI. Двое
С улыбкой детских губ, раскрашенных на диво,
Он смело подбежит и, перед вами став,
Окинет взглядом вас так остро и пытливо
Глазами цвета ранних вешних трав!
И вы потянетесь к остриженной головке,
Звеня запястьями; а он, скользнув, как уж,
Докажет скоро вам, что не всегда вы ловки
И что дитя отважнее, чем муж…
Легки, затопают сафьянные сапожки;
У ваших ног, грозя, сомкнет он полк солдат,
Рукой коснется вдруг агата круглой брошки, –
И, не сморгнув, на взгляд ответит взгляд.
А вы потупитесь негаданно–нежданно,
И в сердце запоет, заноет, зацветет,
Как роза пурпура, зияющая рана
И бледность щек окрасит в свой черед…
XII. «Если сердцу нужно приобщиться радости…»
Если сердцу нужно приобщиться радости, –
Шелковинку нежной паутинной нити,
Что струится в крепком, ясном, синем августе,
Между мной и вами, улыбаясь, киньте.
Если скорби сердце хочет упояющей,
Только скорби жгучей – что, слепые, знаем? –
К страсти одинокой неравного товарища
Увлечете ль весело, холодная и злая?
Но я знаю, знаю… Пусть вы не поверите…
Ночь любимых глаз мне одному измерить:
Если станет жаждать сердце только смерти,
Вы одна придете смертный кубок вспенить.
XIII. «Гремели, ослабев, и множились трикраты…»
Гремели, ослабев, и множились трикраты
Над сводами туманных, синих чащ
Еще зловещие, последних битв раскаты,
И в клочьях багровел простертый в небе плащ.
Стволы дубов, мрачась, как уголья, чернели;
Больной огонь под пеплом слабо тлел.
И только над крестом горе взнесенной ели
Кровавый мотылек любовью пламенел.
XIV. Осенний пантум
Разносит вихорь сумрачный глагол
Бездомными червлеными листами.
Сойди ко мне в уединенный дол,
Коснись чела прохладными перстами!
Бездомными червлеными листами
Пестрят овраги и сожженный луг.
Коснись чела прохладными перстами,
Заворожи снедающий недуг.
Пестрят овраги и сожженный луг.
Зеленый луч дробится в сетке веток.
Заворожи снедающий недуг,
Твой поцелуй рассеянный так редок…
Зеленый луч дробится в сетке веток.
Смешливая синица прозвенит.
Твой поцелуй рассеянный так редок…
В какую даль лазурный взор стремит?
Смешливая синица прозвенит.
Стучит желна, подъемлясь по вершине.
В какую даль лазурный взор стремит?
Ведь ты моя… Ведь ты моя – поныне?
Стучит желна, подъемлясь по вершине.
Там за холмом, трубя, манит рожок.
Ведь ты моя… Ведь ты моя – поныне?
Пусть затаен язвительный упрек.
Там за холмом, трубя, манит рожок.
Заноет сук надломленной березы.
Пусть затаен язвительный упрек, –
Я жадно жду, когда прольются слезы.
Заноет сук надломленной березы;
Вот дождь листов пурпуровый пошел.
Я жадно жду, когда прольются слезы.
Разносит вихорь сумрачный глагол.





