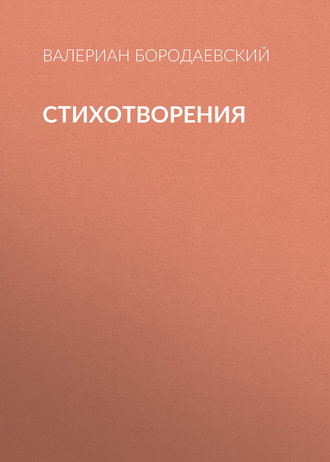
Валериан Бородаевский
Стихотворения
Виргилий. Сонет
Посвящ. Е.В. Шлоккер
Бальзам надежды он на раны пролил,
В железный век мечтал про золотой,
Гласил о Том, кто исцелит все боли
И успокоит мир с его тоской.
Душа, влекомая к земной юдоли,
Томилась неключимою рабой.
Он с ней заговорил о светлой воле,
О синем, что сияет над землей.
Живя с природой, чуткий и пытливый,
Он изучил крылатую пчелу
И возрождений символ дал нелживый.
Садовому искусный ремеслу,
Привил ты Риму черенок Мессии
И дал Психее пару новых крылий.
Павел Ефимов
Влечение, а не принуждение властвует над вселенной.
Фурье
Сам к нам пришел ты незваный, непрошеный,
Вымел нам камеру, щи разогрел.
Строгой судьбой в эти стены заброшенный,
Нес ты уж месяцы грустный удел.
Стал ты нам другом, спокойный и сметливый.
Мы тебе хлебца давали, кто мог.
Круглый лицом и улыбкой приветливый,
Утром приходит, несет кипяток…
Было нас двое и двое к нам прибыло.
Ты помогаешь и всем четырем.
С ласкою тихой блюдешь ты, что б ни было.
Как без тебя мы отсюда уйдем?
Ждешь ты амнистию. Грех твой не маленький:
С поля бежал – и добрел до тюрьмы.
Месяцы ждешь ты, солдат неудаленький,
Месяц с тобой дожидаемся мы.
Ты говоришь нам в часы откровенности:
«Вы хороши мне и я вам хорош».
Труд твой за хлеб, а безмерные ценности –
Ласку твою – бескорыстно даешь.
Жизнь не оставит нас в нашем томлении;
В этом покинутом солнцем мурье
Осуществляем семьей восхождение
К миру гармоний, что строил Фурье.
Жена и муза
Обеим
Чтоб видеться (в тюрьме тоска – не голод),
Ты, пленнику, приносишь мне обеды,
Усталая пересекаешь город,
И наши через щель не веселы беседы.
А по ночам божественная дева,
Пока я сплю, незримо ждет у ложа.
Проснешься – «Здесь ты?» – «Здесь!» Глядишь налево:
Окно во тьме. Но ты и так пригожа.
Твой голос – свет душе. Не надо утра.
Чем сердце ты, богиня, удостоишь?
И вот начнет торжественно и мудро.
Я тихо вторю ей: нас в мире двое.
Ты прежде забавляла – учишь ныне,
Я познаю, чем мир стоит и движим.
Как человек, подобный мерзлой глине,
Восходит ввысь – про то мы строки нижем.
И ритмы мира, музыку вселенной
Несешь ко мне и сыплешь из корзины
Твои цветы, и я ликую, пленный,
Вознесенный на снежные вершины.
Пока ты здесь в ночи и озаряет
Мне щелку милый взор в дневную пору,
Я не томлюсь… Печаль моя витает
Как облако по синему простору.
Тебе и ему
Ты говорила мне, что он уже садится
И гордо выглядит, как молодой орел.
И любо слышать мне, как сыном мать гордится,
Приветствуя ребячий произвол.
Он зим еще не знал, и круг его в начале.
Стремленье первое – дать юной силе ход.
Чтоб руки матери подняться не мешали,
Он много раз их гневно оттолкнет.
И будет сладкий миг, когда он крепко станет,
И лучший миг еще, когда он крикнет: я!
И он пойдет на клич, куда его поманит
Прекрасная богиня бытия.
В углу моем, смиряясь, незримо привыкаю
Сурово заглушать зов жизни изжитой.
Чего еще я жду? Иль, может быть, желаю?
– Жизнь хороша, но лучше – на покой…
Что впереди с моей я стал бы делать волей?
Обманы смутных дней я до конца познал,
И ныне утлый гроб мне грезится без боли,
Заманчивый, как страннику привал.
Расскажешь сыну ты, когда понять он сможет,
Как странно наши с ним скрестилися пути;
И пусть рука его тебе еще поможет
За мною вслед покорно добрести.
Старуха
Посвящено В. Е. Бахтадзе
Едва повечеру окончится поверка
И скрежетом ключа мне кровь оледенит,
Ко мне приблизится старуха–лицемерка
И на ухо спеша заговорит.
Меж тем как ночь недвижима на страже,
Проходит старая и шепчет, наклонясь,
Что был ты то да се, силен и важен даже,
И чьей–то прихотью стал только грязь.
И липнет, как слюна, и сморщенной рукою
Докучно, медленно чело ласкает мне.
От этой жалости я рабьим сердцем вою
И цепь мою кусаю в полусне.
Все койки до конца она пройдет дозором,
Оплачет всех, кто слезы лить готов,
И нескончаемым, томящим разговором
Заманит нас в трясину без краев.
А ночь тюремная на страже не устанет,
Покуда черноту царапает восток,
И каждый, истомлен, как приведенье встанет
На скрип ключа, будящего замок.
Запретное свидание
Сквозь щелку двери мы едва переглянулись,
Ты поняла меня, и губы улыбнулись.
Прощаемся кивком. И вот к тому окну
Спешу перебежать: обманем сатану!
И я не долго жду. Спешит. Остановилась.
Корзину ставит в снег. Окно дарует милость
Беседы радостной, свободной и живой.
Чуть только далеко… Но воздух–то какой!
И в этом воздухе ядреном и колючем
Твой голос слышится, отрадно благозвучен,
Как горного рожка торжественная медь,
Как журавлиный клик, манящий улететь…
Морозец–то каков! Но в сочетанье дружном
Два наших голоса текут зефиром южным.
Новые соседи
От сумы да от тюрьмы…
Пословица
Новые соседи принесли нам жалобы новые,
Слова–то другие, а послушаешь – те же.
Ночью храпы иные, а сны, видно, наши, свинцовые…
Наши прошли вы этапы, наши канавы и межи.
Новые соседи, привет от старых пленников!
Только не горюйте слишком, не советую:
Жить здесь можно труднику, можно и бездельнику,
Есть куда направить лодочку отпетую.
Лодки наши, лодочки, с парусами рваными,
Бури–то вас бросили и рубили скалами…
Солнце где–то прячется, скрытое туманами.
Много горевали вы? То ль еще бывало нам?
Бросьте счет, товарищи: дни, недели, месяцы…
Не томи, друг, сердца, назад не оглядывайся,
Принимай без страха всё, что только встретится,
От сумы с тюрьмой, смышленый, не отказывайся…
Корейша
Провидец, скрывшийся безумьем, словно маской,
Он в шутку звал себя студентом хладных вод
И жил, утешенный какой–то дивной сказкой,
В больнице под ключом – Бог весть который год.
В чудачествах не знал ни меры, ни предела,
Сегодня – балагур, назавтра – глух и нем.
Брал приношения и раздавал их тем,
Над чьими душами нужда отяготела.
И много было в нем непонятых глубин…
Забьется в уголок, зачем–то камнем диким
С благоговением, с вниманием великим
Дробит бутылки там… Как маг и властелин.
Когда к нему порой ходили за советом,
Он на клочке писал неясные слова.
Он юродивым был и, может быть, поэтом,
И умер, преклонясь, как осенью трава.
………………………………………………
За гробом рос прибой задумчивых людей.
Шли плача и скорбя. Казалось, будто правил
Он сердцем простецов, кто любит горных фей…
И след сияющий по–над Москвой оставил.
Моей жене
Мать четырех детей – двоих ты потеряла:
Порхнули ласточки из милых рук.
Мечтой скорбящею за ними ты витала;
Так облачко целует лунный круг.
И двое близ тебя: наш отрок и малютка,
А я в плену – и как могу помочь?
Томит грядущее: оно темно и жутко:
Холодная, всклокоченная ночь.
И пусть мне говорят, что я напрасно верю,
Что я не в силах Бога доказать, –
Пусть будет так! Я тайну сердцем мерю:
Я знаю, что такое смерть и мать.
Не хлопочи
День пережит – и слава Богу
Тютчев
Читай мои стихи… Я в них тебе виднее.
Забудь про шелуху печальную мою.
Я душу отдаю моей крылатой фее
И в ней тебя и мир ласкаю и люблю.
И что мне до того – я тощ или упитан?
Тюремной сырости души не умертвить.
Когда для песен я взлелеян и воспитан,
Я в беспредельности давно уж начал жить.
Не беспокой же тех, кто в мире власть имеет.
Так безразличен мне превратный мой удел…
Когда в душе моей весной незримой веет,
Мне только жалко их тупых враждебных стрел.
Сектант. (Откровение, гл. 11, ст. 2–3).
Сегодня ввергнут к нам евангельского толка
Сектант, и вопрошал его наш сионист,
Как экземпляр живой диковинного волка,
Что между сереньких так странно бел и чист.
Да, веру жаркую не спрячешь – не иголка.
– Но в Тройцу верите? – Как в Библии стоит.
– И в Богородицу? – Он гнулся мягче шелка,
Но отвечал, храня невозмутимый вид.
– В Апокалипсисе, – сказал он в заключенье, –
Есть нам пророчество: закончится наш строй
В сорок два месяца – и будет нисхожденье.
Затихнул и поник печально головой.
«О, два свидетеля, отцы святых декретов!»
Так говорил слуга евангельских заветов.
Рудольф штайнер. Сонет
Твое обетование не ложно,
Великий Вождь, ты прав, я вижу это:
Душа народа ждет, как мать, тревожно
Неверный шаг незрелого поэта.
Так вешним днем пробьются осторожно
Побеги трав, когда земля пригрета.
Теперь мне сердце выразить возможно,
Когда над ним стоит моя планета.
И пусть ты далеко: ведь дух твой мощный
Достиг меня через поля и горы,
От юга твоего к стране полнощной.
Мне грезятся пылающие взоры,
Чело жемчужное, движенья дланей
И слышны громы вещих заклинаний.
Сосед
Посвящено Л. А. П.
Были соседи мы, стали соседями,
Рядом ведь камеры нашей тюрьмы.
Душу отводим порою в беседе мы
В краткие дни нашей лютой зимы.
Ввергнутый в яму (хотя и не львиную),
Так же ты ясен, как ранее был,
А запоешь про детину с кручиною –
Кажется, всё бы с тобой позабыл!
Мы прочитали вчера с изумлением,
Будто пропали бумаги твои.
Ищут по городу их объявлением…
Водку хватил он иль выпил Аи?
Что б он ни выпил, печальный мучитель твой,
Верно, не будет ему веселей,
Чем близ тебя, средь волны освежительной
Песни широкой и вольной твоей.
Семицкая песня
Мы березку заплетали,
Мы кукушку поминали
В светлый вешний наш семик.
Небо было – голубое
И веселье – молодое…
Прикасался к лику лик.
К губам – губы, к сердцу – сердце,
Распахнулась настежь дверца
Меж душою и душой.
Гулко квакают квакушки;
Все мы девоньки–подружки,
Это праздник наш родной.
Из одной–то мы деревни,
Мы блюдем обычай древний:
Заплетайся, хоровод!
Парней прочь – бери их леший!
На березку ленты вешай,
Лето жаркое нас ждет.
Будет пёкло, будет страда,
А весной – одна отрада,
Соловей–то: чок–чок–чок!
Только Ваня пусть придет к нам,
Ваня тихий пусть поет нам,
Как у норки друг–сверчок.
«Сегодня в сумерках звучал согласный хор…»
Сегодня в сумерках звучал согласный хор
Из женской камеры. И вспоминались живо
Поля родимые, зеленошумный бор
И юных девушек, бегущих торопливо
По ягоды, беспечный разговор.
Я говорил в тоске. Пусть счастье будет вновь,
Но никогда уже к нам не придет беспечность.
Как первоцвет души – лучистая любовь,
Так и тюрьмы объятья – это вечность,
И навсегда она отравит кровь.
Первый зуб
Ты бросаешь мне в окошко,
И твой голос юн и звонок:
– «Показался зубик первый». –
Зреет радостно ребенок.
Шаг за шагом, понемножку
Он идет дорогой верной.
«Сосунок такой забавный,
Укусил сегодня больно,
И о зуб стучала ложка…»
Сердце слышало невольно:
Я тебе, родная, равный, –
Догоняю понемножку.
Так чрез слезы, стоны боли
Слышен мерный шаг природы.
Так от века и до века,
Через годы, через роды,
Вырастаем поневоле,
Достигаем человека.
«Свободен мухи лёт, а пауку работа…»
Свободен мухи лёт, а пауку работа.
Пусть буду мухой я, плененной пауком.
Я не забочусь, нет, но я для них – забота:
Сначала изловить и высосать потом.
Чуть смеркнется – пришли, всех нас переписали,
И гнусно скрежетал в замочной щели ключ.
Не я считал их, нет; они нас проверяли,
И сердце слышало, как ручеек певуч.
Пускай у стен моих сменяются патрули –
Простивший тот же всё, всегда, и в ночь и в день.
Не я их запирал – они меня замкнули,
И надо мной шумит и зеленеет сень.
Сонет прозревшего. Сонет
В. А. Полоскову
Как протекло мое перерожденье,
Хотите знать? Бог посетил меня.
В осьмнадцатом году я из селенья
Бежал в поля, тоскуя и стеня.
Вблизи гремело жуткое сраженье,
И треск и грохот на исходе дня.
Открылось мне, что это – преступленье:
«Проливый кровь – убийца», – думал я.
И громко так моя душа стонала,
И я молил: «Творец мой, пронеси
Твой правый гнев. Служил тебе я мало.
Отныне весь я твой: от зла спаси;
Прозревшего учи, как жить для Бога».
И внял Отец. Так стал я у порога.
Жене больного
О. В. Рождественской
Вам дали, как жене, вблизи больного светить.
Быть может, надобно, чтоб был преступник жив;
А может быть и так: сам непреклонный тиф
Способен женщине как джентельмен ответить.
Блажен, кто в забытьи глаза любимой встретит:
Пусть бред горячечный упорно прихотлив,
Он может те глаза преобразить в залив
И тем благой исход издалека наметить.
То с книгой дружеской, то с верною иглой,
Жена всегда войдет к больному как хозяин.
Был Адой любящей утешен даже Каин.
А муж преступный ваш не Каин – Боже мой!
Дерзайте, кроткая: за вас сама природа;
И пусть второй ваш приз последует: свобода.
Любовь и смерть. Сонет Диме
Полонский пел кузнечика так нежно.
Мишле творил глубокий труд – «L'insecte»:
Жизнь малых тварей изучив прилежно,
Преодолел он грани многих сект.
Он показал, что дробное безбрежно.
Любви и смерти узел он рассек;
Явил осу, что строит безмятежно
Дворец детве, кончая краткий век.
Он понял мотыльков, что в круг сберутся
Пред тайной тайн… Раздумье….
Миг один – Они к цветку прямым путем несутся,
Где ждут приют и амбра для родин,
Где юность их блаженно протекала,
Где мать–старушка тихо угасала.
Мертвая голова. Сонет Диме
В лучистой Франции, когда вино Шампани
Лилось, как позже кровь, во славу трын–травы[1],
Явились бабочки, неведомые ране,
С энигмой на спине ужасной головы.
Народ, измучен злом, бродящий как в тумане,
Ждал знамений везде и думал: каковы
Удары грозные? Гадали поселяне
О смысле подлинном той мертвой головы.
Что страшный этот знак стране родной пророчит?
Из пропасти ли сонм колдуний прилетел?
Он язвы моровой, войны иль глада хочет?
Закон возмездия никто не разумел…
Впервые океан переплывал картофель,
Личинки сфинксовы и тонкий Мефистофель.
Скарабей
Quand la veuve en deuil, l'eternel Isis qui se reproduit sans cesse avec les memes douleurs, s'arrachait de son Osiris, elle reportait son espoir sur le scarabee sacre, et elle essuyait ses pleurs.
Michelet[2]
Египтянам скарабей
Дорог был как символ жизни.
Жизнью жил их мавзолей,
О таинственной отчизне
Говорил им скарабей.
Был усопший египтянин
В дивный кокон заключен
Для пути в отчизну тайн,
Как ладья был оснащен:
Плыл к Изиде египтянин.
Мудрость древних тех людей
Угасала понемногу:
Позабыт и скарабей,
И гробницы, и дорога
В область праведных теней.
Спит, как лев, в пустыне знойной
Край великих пирамид,
Дивный сфинкс его хранит,
И в увечье вид достойный.
Оттого порой томит
Душу царство пирамид.
Ракиты
Посвящ. И. В. Нестерову
Ракита, вездесущая ракита,
Ты – дерево родной страны моей.
Зеленой тенью лента речки скрыта
От ярких ослепительных лучей.
Кудрявым хмелем в чаще лоз увита
Тропинка втайне любящих людей.
Там, к хилой хате прислонясь, ракита
Сожмет ее объятьями ветвей.
Зимою вдоль проселочной дороги
Наставлен веток бесконечный ряд, –
И верен путь, хотя метели строги.
А кинешь на погост досужий взгляд –
И там она: ничьи не позабыты
Холмы могил крестом живой ракиты.
Охотнику. Сонет
Убита Треплевым таинственная чайка.
Вы «Чайку» видели, охотник? Крепко вы
О нежном символе подумали? Увы!
Вы были тетерев, а драма – только лайка.
Когда из логова поднялся робкий зайка,
Подумали ли вы про коготь злой совы;
Иль, наведя ружье, о всем забыли вы?
И с выстрелом вскричали: получай–ка!
Не думалось ли вам, что всякий долгонос,
В болото погрузив мудреный свой насос,
Весь день работает почище вас, охотник;
Что всякий куличок, летящий над водой
С бодрящим посвистом, живет, как вы, мечтой
О солнце и любви, мой милый греховодник?
Зимний рассвет
Светает. Колокол, зовущий к службе ранней,
Душе вскрывающий блаженство упований.
О, час прозрачности, неясной, но живой,
Когда по облачкам струится золотой
Новорожденный луч и кличут по застрехам
Друг дружку воробьи к заботам и потехам;
Час пробуждения трудящихся людей,
Скрип бодрый сапогов, скрип дровяных саней,
Веселый дым из труб, струей всходящий зыбкой,
В окошке пара глаз с проснувшейся улыбкой,
Движенье гроздьями висящих кубанов
В руках румяных жен – их лепет, смех и зов,
И крепкий дух овчин оранжевого цвета –
Во всем гармония и радость для поэта.
Новобранец
И. Н. Решетинскому
За звездочкою звездочка,
За белой веет белая…
Лежит мой путь–дороженька
Сквозь степи омертвелые.
Любезную гармошеньку
Терзаю всё разлукою,
Жену мою Матрешеньку
Томлю сердечной мукою.
Изба моя, жена моя
Да мерин мой саврасенький…
Прости–прощай! солдат уж я
Под звездочкой, под красненькой….
Дадут ружье да скажут: пли!
Пойду за океан–реку.
Индусы, слышно, подошли…
Равняться лестно – на Москву!
За звездочкою звездочка,
За белой веет белая.
Поет моя гармошечка
Про нивы–жатвы спелые.
Акафист в камере
П. Обабкову
В соседней камере, когда сгустился мрак,
При трепетной свече акафист Иисусу
Читали нараспев, и ждал с надеждой всяк,
Чтоб облегчил Господь больной души обузу.
Сменялись два чтеца, и семеро людей,
С благоговением оборотясь к решетке,
Ловили каждый стих… Дышалось им вольней,
И были их глаза молитвенны и кротки.
Славянские слова звенели в тишине,
Во глубь седых веков мечту мою стремило.
«Иисусе, Пастырю, не погуби мене» –
И вопиял мой дух из стен своих: «помилуй!»
Похвала тюрьме. Сонет
Тюрьме моей я буду благодарен:
Мне очень хорошо в тюрьме жилось.
Тюремщик здесь – слуга, острожник – барин
(Такое уж в России повелось).
Нам каждый день кулеш горячий сварен,
Мясца шматок (при нем большая кость).
Лишением свободы кто ужален,
Пускай того, безумца, гложет злость.
В России нет свободы лучезарней,
Чем в тюрьмах, где дозволено цукать
Не только ту ж неведомую мать,
Но и к свободе нежных чудо–парней.
И говорю друзьям: Живи и наслаждайся,
Да помни сказ: тюрьмы не отрекайся.
Кретин
Я называл его кретином. Лобик низкий
Над бровью убегал, теряясь в волосах,
И весь какой–то был он мятый, серый, склизкий
И пробуждал недоуменный страх.
Лицо людское в нем скользнуло точно с горки,
Запнувшись как–то вдруг у роковой черты
Животного. Таких легко судили порке,
А ранее гвоздили на кресты.
Он бессловесен был, ему не дали койки,
Один на каменном валялся он полу.
Без философии был человек он стойкий,
Без пессимизма верил в ночь и мглу.
Он в шапке меховой казался будто лучше
И даже пробовал похохотать порой;
Усевшись на тряпье, он говорил, что мучат,
И поминал, что хочется домой.
Песня черной земли
По зеленой по пшенице
Густо–синий василек…
Посмотрел я молодице
Прямо в синий во глазок,
Посмотрел – она косится.
– «Поцелуй меня разок.
– Муж–то увалень да дурен,
Ты же павушка из пав». –
Синий глаз ее зажмурен.
– «Ну, целуй, когда ты прав,
Видно, быть грозам да бурям –
Слышишь шелест дремных трав?»
Так мы начали беседу
С молодицей в добрый час;
Только тот и жди победу,
Чей не дремлет верный глаз.
Было всё равно соседу,
Ну а милой – в самый раз.
Царица нищета
Святой Франциск к Царице Нищеты
Любовно возносил лазурные зеницы;
Учил Готама нас: Всё в мире – это ты,
И говорил Христос про беззаботность птицы.
Он звал к лугам, где нежные цветы,
Где сельный крин прекрасней багряницы
Царей земных… Но люди, как кроты,
Ушли от солнца в черные темницы.
Но вот приходит Бог, как сила злая,
И сочетаемся мы с грозною нуждой,
А из–за туч манит рука родная
И вечный взор сияет глубиной…
Пойми слова, звучащие нестрого:
«Нет в людях сил – возможно всё для Бога».
Веревка
Ощупью средь ночи я петлю накинул
На непрочной койки рваную холстину;
Правой узел правил, левой сжал края:
Крепкая веревка слушалась меня.
Узел был на славу, всё казалось прочно,
Но, слабея снова в темноте полночной,
Разошелся узел. Падала рука!
И сжимала сердце строгая тоска.
Всё–то представлялось сумрачное дело:
Как дрожали руки и душа скорбела
У того, кто жаждал верную петлю
Ночью той ужасной, стоя на краю
Бездны необъятной, что дышала грозно
И шептала в ухо: поздно, слишком поздно!
Голову сдавило как бы злым недугом.
Я с веревкой скользкой говорил, как с другом.
– Вот я пленник бедный, починяю ложе;
Дело просто, ясно, – только отчего же
В пальцах моих трепет и в груди огонь?
Мнится мне, мерцает смутно бледный конь,
А над ним отверсты в мгле недвижной ночи
Роковой медузы фосфорные очи.
Или ты, веревка, вольной смерти учишь,
Для чего меня ты долгой ночью мучишь? –
И я ждал ответа… Но из рук скользила,
Как змея, веревка. И в углу уныло
Шелестели мыши средь бумаг моих,
И щемил мне душу нерожденный стих.
«Пальмы да пальмы… Сплетения пальм без конца…»
Пальмы да пальмы… Сплетения пальм без конца
Ночью морозной на стеклах изваяны.
Завтра встречаем мы красное солнце Творца
Нашими стройными вайями.
Как изваял их мороз, мы не в силах понять, –
Разум немеет пред явью и грезою.
Робкое сердце плотское учись же смирять
Перед небесною Розою.
Эпиграмма (на Валер. Гавр. Калинина)
Познайте тайну душ: Как агнец нес он
Неправый плен, но быв освобожден,
Глядел насупленно, был грустен и смятен,
Как бы блуждая меж трех сосен.
Отрывок
М. Г. Рождественскому
Сдвинуть вы меня хотите, друже;
Ваши символы – туманные слова.
Вы без мысли не пройдете лужи,
В строгой мысли зреет голова.
Символ что? Под образы любые
Что угодно я вам подведу,
А у вас всё – Логос да София,
С вами вместе – нет, я не пойду.
Ваши доводы – гонимый бурей листик,
Их не хочет ни мой ум, ни вкус;
Есть один душе опасный мистик –
Галилейский плотник Иисус.
«Наш разговор оборван часовым…»
Наш разговор оборван часовым:
– Здесь говорить нельзя. Скорее проходите. –
Поежась, ты пошла, не спорить же с таким!
А он вослед кричал еще сердитей:
Повиновение дало ему размах;
Воистину, для счастья нужно мало.
И вырастал он в собственных глазах,
Пока вдали ты пропадала.
Пляска стражей
Слышу пляски дробный топот
За железными дверями.
Этот – ну в ладоши хлопать,
Семенит другой ногами.
Эй, Тула, Тула – я,
Тула – родина моя!
Ночь длинна, устали стражи,
Подремали сколько надо.
В коридоре свянешь даже –
Невеликая отрада.
Слава Богу, мы не пленны:
Те замкнуты – нам свобода.
Хоть одни и те же стены,
Да иная, знать, природа!
Вот к рассвету близко время.
Оседлай коня–скамейку,
Повод в руки, ноги в стремя –
Догоняй судьбу–злодейку!
Эй, Тула, Тула – я,
Тула – родина моя!





