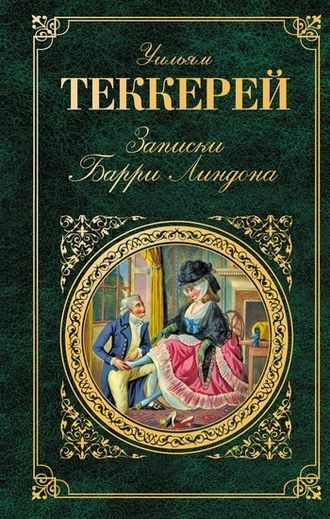
Уильям Мейкпис Теккерей
Книга снобов
Глава IX
О военных снобах
Нет на свете общества приятнее, чем общество хорошо воспитанных и образованных военных, но точно так же не сыщется ничего более невыносимого, чем общество военных снобов. Их можно встретить во всех рангах, от старика генерала, чья подложенная ватой грудь блистает десятками звезд, пряжек и орденов, до подающего надежды корнета, который бреется в чаянии бороды и только что получил назначение в Саксенкобургский уланский полк.
Я всегда восхищался таким распределением чинов и должностей в нашей стране, которое ставит этого юного мозгляка (еще на прошлой неделе выдержавшего порку за орфографические ошибки) командиром над усатыми великанами, закаленными в битвах с врагом и стихиями; которое ставит его выше людей, в тысячу раз превосходящих его по опыту и заслугам, только потому, что у него есть деньги в банке, и которое со временем принесет ему все почести его профессии, тогда как старый солдат, служивший под его командой, за свою храбрость не получит другой награды, кроме койки в Челсийском инвалидном доме, а старый офицер, чье место он занял, покорно удалится в отставку и будет доживать свои дни в бедности, на половинном окладе.
Когда я читаю в «Газете» такого рода объявления: «Поручик Григ, гвардейской артиллерии, производится в капитаны, на место Гриззла, который уходит в отставку», – то я знаю, что станется с ветераном Пиренейской кампании Гриззлом. Мысленно я следую за ним в скромный, провинциальный городок, где он поселяется и проводит время в отчаянных усилиях жить как подобает джентльмену на пенсию, равную половине заработка портновского подмастерья; я представляю себе, как маленький Григ получает повышение за повышением, переводясь из одного полка в другой, каждый раз чином выше, избегая неприятностей заморской службы и к тридцати годам становясь полковником, – а все потому, что у него есть деньги и что отец его – лорд Григсби, которому в свое время везло точно так же. Должно быть, Григ на первых порах краснеет, отдавая приказы старикам, которые во всех отношениях лучше него. Избалованному ребенку очень трудно не дерзить старшим и не быть эгоистом, точно так же и этому балованному дитяти Фортуны в самом деле очень и очень трудно не быть снобом.
Неискушенному читателю, должно быть, часто казалось удивительным, что армия, самое продажное из всех наших политических установлений, тем не менее отличается на поле брани; и мы с радостью воздадим должное Григу и ему подобным за доблесть, которую они проявляют, когда этого требуют обстоятельства. Аристократические полки герцога Веллингтона сражались не хуже других (говорят, даже лучше других, но это чепуха). Сам великий герцог был когда-то денди и пользовался протекцией, так же как и Мальборо до него. Но это доказывает только то, что денди так же храбры, как и другие британцы – как все британцы. Будем считать, что высокородный Григ брал укрепления Собраона не менее храбро, чем капрал Уоллоп, бывший пахарь.
Время войны более благоприятствует ему, чем мирное время. Подумайте о том, каково живется Григу в Артиллерийском гвардейском полку, или в гвардейской пехоте, подумайте о походах из Виндзора в Лондон, из Лондона в Виндзор, из Найтсбриджа в Риджент-парк, об идиотской службе, которую приходится ему нести: следить за выправкой своей роты, за состоянием лошадей в конюшне, командовать: «На пле-ечо! Шагом ма-арш!» – это все такие обязанности, с какими в состоянии справиться даже самый ограниченный ум, когда-либо достававшийся смертному. Профессиональные обязанности лакея и то более сложны и разнообразны. Красные куртки, которые сторожат господских лошадей на Сент-Джеймс-стрит, могли бы выполнять эту работу ничуть не хуже пустоголовых, добродушных и рахитичных поручиков, которые фланируют по Пэл-Мэл в сапожках на высоком каблуке или собираются к одиннадцати часам под звуки оркестра вокруг полкового знамени на площади перед дворцом. Приходилось ли любезному читателю видеть, как один из этих молодых людей шатается под тяжестью древка или, самое главное, как он салютует знамени? Стоит прогуляться до дворца, чтобы видеть своими глазами это великолепное шутовство.
Я имел честь раза два встретиться с пожилым джентльменом, в котором вижу образец армейской муштры и который всю свою жизнь служил в самых аристократических полках или командовал ими. Я имею в виду генерал-лейтенанта сэра Джорджа Тафто, К. О. В., К. Б. М., К. Г., К. С. В., и т. д. и т. д. Его манеры во всех отношениях безупречны; в обществе это совершенный джентльмен и законченный сноб.
Человек не может уйти от собственной глупости, как бы ни был он стар, и сэр Джордж в шестьдесят восемь лет является ослом в большей степени, чем в пятнадцать, когда он впервые вступил в ряды армии. Где он только не отличался: его имя упоминается с похвалой в десятках бюллетеней; да что там, ведь он – тот самый человек, грудь которого, подложенная ватой и блистающая множеством орденов, была уже представлена читателю. Какими добродетелями обладает сей удачливый джентльмен – это я затрудняюсь сказать. За всю свою жизнь он не прочел ни одной книги, и до сих пор его багровые подагрические пальцы пишут ученическим почерком. Он дожил до старости и до седых волос, однако никому не внушает почтения. Одевается он и до сего времени, как самый бесшабашный юнец, шнурует и обкладывает подушечками свой дряхлый остов, как будто он и сейчас все тот же красавец Джордж Тафто 1800 года. Он эгоист, грубиян, ругатель и обжора. Любопытно видеть его за столом, следить, как он задыхается, стянутый корсетом, и взирает на свой обед жадными, налитыми кровью глазками. В разговоре он часто бранится, а после обеда рассказывает непристойные казарменные анекдоты. Во внимание к его чинам и заслугам люди оказывают этой звездоносной, титулованной старой скотине некоторое уважение, а он смотрит на нас с вами сверху вниз и выражает свое презрение к нам с дурацкой и бесхитростной прямотой, что бывает весьма забавно наблюдать. Может быть, если б его готовили для какой-либо другой профессии, из него не вышло бы такой малопочтенной старой развалины. Но для какой же другой профессии? Ни на что иное он не годился: неисправимый лентяй и тупица во всяком ремесле, кроме этого, он отличался по службе как хороший, доблестный офицер, а в частной жизни – как наездник, собутыльник, дуэлянт и обольститель женщин. Он считает себя одним из самых достойных и заслуженных людей на свете. После полудня где-нибудь около площади Ватерлоо вы можете видеть, как он ковыляет в своих лакированных сапожках, с вожделением заглядывая под шляпки встречных женщин. Когда он умрет от апоплексии, «Таймс» напечатает четверть столбца о его боевых заслугах – ведь только перечисление его титулов и орденов займет четыре строки – и земля укроет одного из самых дрянных и глупых старикашек, какие только по ней ходили.
Для того чтобы меня не сочли закоренелым мизантропом, которому ничем не угодишь, я позволю себе высказать уверенность в том, что отнюдь не вся армия состоит из таких экземпляров, как вышеописанный. Он был выбран единственно как образец удачливого и чванного армейского сноба, к которому не мешает приглядеться и штатским, и военным. Нет, когда эполетами перестанут торговать, когда отменят телесные наказания и у капрала Смита будет столько же шансов получить награду за доблесть, сколько у поручика Грига; когда не будет больше таких чинов, как «прапорщик» и «поручик» (наличие коих является нелепой аномалией и оскорблением для всей остальной армии), то, ежели не будет войны, я и сам не прочь сделаться генерал-майором.
В моем портфеле имеется еще целая пачка армейских снобов, но я отложу наступление на военных до следующей недели.
Глава X
Военные снобы
Вчера, в то самое время, когда мы прогуливались в Парке с моим молодым другом Тэгом и обсуждали с ним очередного сноба, нам как раз повстречались два отличных экземпляра военных снобов: военный сноб спортсмен, капитан Рэг, и «кутила», или веселящийся военный сноб, прапорщик Фэмиш. Да и вы наверняка повстречаете их на верховой прогулке около пяти часов дня под деревьями на берегу Серпентайна, где они критическим оком разглядывают обладательниц нарядных колясок, катающихся взад и вперед по «Дамской аллее».
Тэг и Рэг очень хорошо знакомы, и потому Тэг с прямотой, неотделимой от близкой дружбы, рассказал мне историю своего дорогого друга. Капитан Рэг – маленький, быстрый в движениях северянин. Совсем еще мальчиком он поступил в один из прославленных кавалерийских полков и к тому времени, как ему дали взвод, успел обобрать всех своих собратьев-офицеров, продавая им хромых лошадей за здоровых и обыгрывая их всякими необыкновенными и хитроумными способами, так что сам полковник посоветовал ему уйти в отставку, что он и сделал довольно охотно, подсунув одному юнцу, только-только поступившему в полк, больного сапом коня за непомерно высокую цену.
С тех пор он целиком посвятил себя бильярду, ипподрому и скачкам с препятствиями. Его штаб-квартира – в «Кубке», на Кондит-стрит, где он держит свои пожитки, сам же он находится вечно в движении, отдаваясь своему призванию, как джентльмен-наездник и джентльмен-мошенник.
Как утверждает «Беллова жизнь», он неизменно присутствует на всех скачках и почти всегда является в них действующим лицом. В Лемингтоне он скакал на победителе; две недели назад в Харроу его оставили валяться в канаве, сочтя убитым; и все же на прошлой неделе он появился в Круа-де-Берни, бледный, как всегда решительный, и изумил парижских зевак элегантностью посадки и изяществом костюма, когда делал проминку перед началом «Французских больших национальных скачек» на норовистом и злом Отступнике.
Он завсегдатай «Угла», где составляет для себя краткое, но содержательное руководство к действию. Во время сезона он часто катается в Парке верхом на умной, отлично выезженной лошадке. Его видят либо сопровождающим знаменитую наездницу Фанни Хайфлайер, либо в доверительной беседе с лордом Тимблригом, известным мастером гандикапа.
Он старательно избегает порядочного общества и скорее предпочтет пообедать бифштексом в компании жокея Сэма Снафла, капитана О’Рурка и еще двух-трех заведомых скаковых мошенников, чем в самом избранном лондонском кругу. Он с удовольствием сообщает в «Кубке», что собирается по-дружески съездить на субботу и воскресенье к жучку Фокусу в его домик под Эпсомом, где, если верить слухам, обстряпывается немало темных дел.
На бильярде он играет редко и только без свидетелей, но если уж играет, то всегда ухитряется подцепить хорошего простака и не выпускает его из рук, пока не оберет до нитки. Последнее время он много играл с Фэмишем.
Когда он появляется в гостиной, что случается иногда на охотничьих собраниях или на балах по случаю скачек, то веселится как нельзя более.
Его юный друг – прапорщик Фэмиш, которому очень лестно показываться публике с таким молодчагой, как Рэг, – ведь тот раскланивается в Парке с лучшим обществом скачек. Рэг позволяет Фэмишу сопровождать его к Тэттерсолу, продает ему лошадей по дешевке и пользуется его кебом. Полк этого молодого джентльмена находится в Индии, а сам он – дома, в отпуске по болезни. Он восстанавливает свое здоровье, напиваясь каждый вечер в лоск, и укрепляет слабые легкие, целыми днями не выпуская изо рта сигары. Полисмены возле Хэймаркета знают этого мозгляка, и ранние извозчики всегда приветствуют его. Закрытые двери рыбных и устричных лавок распахиваются после церковной службы и извергают маленького Фэмиша, который либо пьян и настроен воинственно – и тогда он порывается колотить извозчиков, – либо пьян и беспомощен, и тогда какая-нибудь приятельница в желтом атласе заботится о нем. Вся округа, извозчики, полиция, продавцы картофеля, приятельницы в желтом атласе знают этого юнца, и кое-кто из самых отъявленных распутников Европы зовет его «маленький Бобби».
Его матушка, леди Фанни Фэмиш, свято верит, что Роберт живет в Лондоне единственно ради возможности посоветоваться с врачом; она хочет перевести его в драгунский полк, который не отправят в эту противную Индию; она думает, что у него слабая грудь и что он каждый вечер питается кашицей, поставив ноги в горячую воду. Ее милость обитает в Челтнеме, и направление мыслей у нее самое благочестивое.
Разумеется, Бобби частенько заглядывает в клуб «Английский Флаг», где в три часа дня завтракает жареными почками, запивая их светлым элем, где безусые молодые герои, подобные ему, собираются, бражничают и угощают друг друга обедами, где вы можете видеть, как человек десять молодых повес четвертого и пятого сорта прохлаждаются и курят на ступеньках подъезда; где вы созерцаете длиннохвостую и голенастую кобылу Слаппера под охраной рассыльного в красной куртке, в то время как сам капитан подкрепляется рюмочкой кюрасо перед прогулкой в Парке, и где на ваших глазах Хобби, из Шотландского гвардейского полка, вместе с Добби, из полка Мадрасских мушкетеров, подкатывают к клубу в высоком громыхающем кебе, который Добби нанимает у Рамбла на Бонд-стрит.
В сущности, военных снобов, и самых разнообразных, такое множество, что «Панч» и за сто недель не смог бы уделить внимание каждому из них. Кроме малопочтенного старого вояки-сноба, закаленного в боях, существует весьма почтенный военный сноб, который и не нюхал пороху, зато держится как заправский вояка. Существует и сноб – военный лекарь, который в разговоре более грозен и воинствен, чем первейший рубака во всей армии. Существует и сноб-драгун, которым восхищаются девицы, драгун с широким и бессмысленным розовым лицом и желтыми усами – пустой, чванный, глупый, но храбрый и доблестный сноб. Есть и военный сноб-любитель, который пишет на визитных карточках «Капитан», ибо состоит поручиком ополчения в Бангэе. Есть и военный сноб-сердцеед, и другие, которых нет нужды называть.
Повторяем, однако: пусть никто не обвиняет нас в неуважении к армии вообще, к этой доблестной и здравомыслящей армии, все воины которой, начиная с фельдмаршала герцога Веллингтона и далее, в нисходящем порядке (за исключением Е. К. В. фельдмаршала принца Альберта, которого, впрочем, едва ли можно считать военным), читают «Панч» во всех концах света.
Пускай те штатские, что издеваются над подвигами армии, прочтут отчет сэра Гарри Смита о битве при Аливале. Никогда благородное дело не описывалось более благородным языком. А вы все, кто сомневается, существует ли еще рыцарство, или же век героизма давно миновал, вспомните сэра Генри Хардинга вместе с его сыном, «милым маленьким Артуром», которые скакали посреди войск под Ферозшахом. Надеюсь, ни один английский художник не отважится изобразить эту сцену, ибо кто у нас смог бы воздать ей должное? Во всей истории мира нет более героической и блестящей картины. Нет-нет, люди, которые совершают такие подвиги с таким блеском и отвагой и описывают их так скромно и мужественно, – эти люди не снобы. Родина восхищается ими, король награждает их, а «Панч», всесветный насмешник, снимает перед ними шляпу и говорит: «Боже, храни их!»
Глава XI
О снобах-клерикалах
После снобов-военных совершенно естественно возникает мысль о снобах-клерикалах, и ясно, что при всем нашем почтении к духовному сану, однако же памятуя о нашем долге перед истиной, человечеством и английской публикой, мы никак не можем опустить такое обширное и влиятельное сословие в наших заметках о необъятном мире снобов.
Среди духовных лиц имеются такие, чье притязание на снобизм бесспорно, но здесь обсуждаться не может, по той же причине, по какой «Панч» не дает представлений в соборе из уважения к совершающейся в нем торжественной службе. Есть такие места, где он, по собственному признанию, не вправе поднимать шум, и потому он убирает свою ширму, заглушает барабан и умолкает, сняв шляпу.
И я знаю, что если найдутся такие духовные лица, которые согрешат, то сразу же найдется и тысяча газет, чтобы изобличить этих несчастных с криком: позор им! позор! – в то время как та же печать, будучи всегда готова шуметь и вопить, требуя отлучения немногих заблудших преступников, почему-то обращает очень мало внимания на множество добрых пастырей, на десятки тысяч честных людей, которые ведут христианский образ жизни, щедро жертвуют на бедных, сурово отказывая себе во всем, и живут и умирают на своем посту, не дождавшись ни единой хвалебной заметки в газетах. Мой любезный друг и читатель, хорошо бы и мы с вами могли сказать то же о себе; и позвольте шепнуть вам по секрету, entre nous[9]: я убежден, что из всех тех знаменитых философов, которые громче других осуждают пасторов, весьма немного сыщется таких, которые знали бы церковь потому, что часто туда ходят.
Но вы, кому доводилось слушать звон сельских колоколов, кто в детстве ходил в церковь солнечным воскресным утром; кому доводилось видеть, как жена пастора ухаживает за больным бедняком; как городской священник взбирается по грязным лестницам зловонных трущоб, делая свое святое дело, – не поднимайте крика, когда один из них оступится, не вопите вместе с чернью, которая улюлюкает ему вслед.
Это может сделать всякий. Когда старик Ной упился и сыновья застали его, то лишь один из них отважился посмеяться над отцовским позором, и это был далеко не самый лучший из его детей. Давайте и мы отвернемся молча, не крича «ура», наподобие кучки школьников, из-за того, что какой-то юный бунтовщик ни с того ни с сего вскочил и ударил учителя.
Признаюсь, однако, что, если бы я помнил имена тех семи или восьми ирландских епископов, утвержденные завещания которых упоминались в прошлогодних газетах и которые скончались, оставив каждый около двухсот тысяч фунтов, – то я именно их с удовольствием поставил бы во главе моих снобов-клерикалов и произвел бы над ними некую операцию не менее успешно, чем, как я вижу из газет, мозольный оператор Эйзенберг – над его светлостью, высокопреподобным епископом Тапиокским.
И признаюсь, когда эти высокопреподобные прелаты подойдут к вратам рая с заверенными завещаниями в руках, признаюсь, мне кажется, что их шансы попасть… Но райские врата далеко, следовать туда за их светлостями несподручно, так спустимся же снова на землю, чтобы и нас, чего доброго, не обеспокоили там щекотливыми вопросами о наших собственных излюбленных пороках.
И не будем потакать вульгарному предрассудку, будто духовенство – это такое сословие, которое получает слишком много денег и живет в роскоши. Когда этот известный аскет, покойный Сидней Смит (кстати сказать, почему стольких Смитов на этом свете зовут Сидней Смит?) восхвалял систему больших денежных поощрений в Церкви, без чего, по его словам, джентльменов трудно склонить к духовной профессии, он весьма сочувственно признавал, что благосостояние большей части духовенства отнюдь не внушает зависти. Читая произведения некоторых известных современных авторов, можно вообразить, будто жизнь пастора проходит в том, что он ублажает себя плум-пудингом и портвейном и что жирные брылы его преподобия всегда засалены шкварками от десятинных свиней. Карикатуристы любят изображать его в таком виде: круглым, короткошеим, угреватым, апоплектическим, выпирающим из своего жилета, словно кровяной пудинг, эдаким Силеном в широкополой шляпе и кудрявом парике. Тогда как на самом деле котлы этого горемыки отнюдь не переполнены мясом. Обычно он трудится за такое жалованье, каким пренебрег бы портновский подмастерье; кроме того, к его ничтожным доходам предъявляют такие требования, какие очень немногие философы выполняли бы без ропота; нередко и десятину взимают из его же кармана как раз те лица, которые урезывают ему средства к существованию. Ему приходится обедать у сквайра, а его жена должна прилично одеваться, и сам он должен «иметь вид джентльмена» и воспитывать джентльменами шестерых рослых и вечно голодных сыновей. Прибавьте к этому, что, если он выполняет свой долг, у него бывают такие искушения истратить деньги, против каких ни одному смертному не устоять. Да, вы не можете устоять и покупаете ящик сигар, потому что они очень хороши, или золоченые часы у Хоуэла и Джеймса, потому что они очень дешевы; или ложу в Опере, потому что Лаблаш и Гризи божественно поют в «Пуританах». Вообразите же, как трудно пастору устоять и не истратить полкроны, когда семейство Джона Брекстоупа сидит без хлеба, или не «выставить» бутылку портвейна бедной Полли Кроль, которая родила тринадцатого младенца; или не подарить плисовый костюмчик маленькому Бобу Скэркроу, чьи штанишки совсем проносились на коленках. Подумайте об этих искушениях, братья моралисты и философы, и не слишком придирайтесь к пастору.
Но что же это? Вместо того чтобы «обличать» пасторов, мы рассыпаемся в слезливых похвалах этой ужасной породе в черном облачении? О Святой Франциск, покоящийся под зеленым дерном, о Джимми, и Джонни, и Вилли, друзья моей юности! О благородный и милый сердцу старик Элиас! Как может тот, кто вас знает, не уважать ваше призвание и вас самих? Пускай это перо не напишет больше ни на пенни, если оно когда-нибудь вздумает осмеять вас или ваше призвание!







