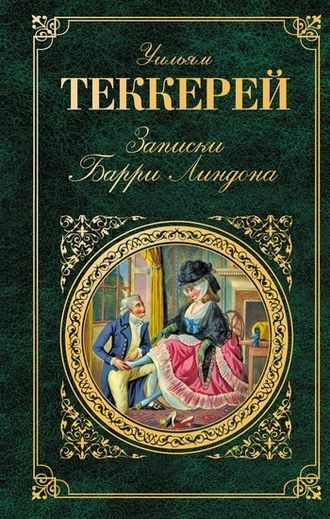
Уильям Мейкпис Теккерей
Книга снобов
Глава XLV
Клубные снобы
Появление последнего очерка о «Клубных снобах» произвело в клубах такую сенсацию, что я не могу не считать себя польщенным, ибо и сам принадлежу к их числу.
Я состою в девяти клубах: «Юнион-Джек», «Штык и Пояс» – военные клубы. «Истинно Синие», «Не сдадимся», «Синие с Желтым», «Гай Фокс» и «Дорога Катона» – клубы политические. «Бруммель» и «Регент» – клубы для франтов. «Акрополь», «Палладиум», «Ареопаг», «Пникс», «Пентеликон», «Илиссус» и «Полюфлойсбойо Талассeс» – клубы литературные. Я никогда не мог дознаться, откуда у этих последних клубов взялись такие названия: сам я по-гречески не знаю и далеко не уверен, что хоть кто-нибудь из наших членов знает этот язык.
Предупредив публику о своем намерении писать про клубных снобов, я стал замечать, что мое появление в любом клубе вызывает переполох. Члены клуба поднимаются с мест, сбиваются в кучу, кивают и хмурятся, глядя на вошедшего в комнату мистера Сноба.
– Бесстыдник, чертов нахал! Попробуй только он меня протащить в печати, я ему все кости переломаю! – ворчит полковник Блодьер.
– Говорил я вам, что не надо принимать в клуб этих писак, – обращается Рэнвил-Рэнвил к своему коллеге Спуни из ведомства Сургуча и Тесьмы. – Эти господа очень хороши на своем месте, и я, как общественный деятель, даже подаю им руку при встрече и все такое; но чтоб они вторгались в нашу личную жизнь – это, знаете ли, уж слишком! Идемте, Спуни. – И оба педанта надменно удаляются.
Когда я вошел в кофейню клуба «Не сдадимся», старик Джокинс разглагольствовал перед кучкой посетителей, по обыкновению зевавших. Он стоял у камина, размахивая «Стандартом».
– Что я говорил Пилю в прошлом году? Если вы затронете хлебные законы, то придется затронуть и сахарный вопрос, а если затронете сахар, то придется затронуть и чай. Я не монополист. Я – человек либеральный, но не могу забыть, что стою на краю пропасти, – а если у нас будет свобода торговли, то я требую взаимного обмена. И что же мне ответил сэр Роберт Пиль? Мистер Джокинс… – сказал он.
Тут взгляд Джокинса неожиданно упал на вашего покорного слугу, и он с виноватым видом оборвал фразу – ту самую глупую, старую, набившую оскомину фразу, которую все мы слышали сотни раз.
Джокинс один из самых постоянных посетителей клуба. Каждый день он торчит все на том же месте перед камином, держит в руках все тот же «Стандарт», в котором прочитывает передовицу, и потом пересказывает ее ore rotundo[67] своему соседу, который только что сам прочел ее от слова до слова в газете. У Джокинса есть деньги, что заметно по его манере завязывать галстук. Утро он проводит в Сити, слоняясь по банкирским и маклерским конторам, и рассказывает там:
– Я вчера говорил с Пилем, он намерен сделать то-то и то-то. Мы с Грэхемом говорили об этом деле, даю вам честное слово, его мнение совпадает с моим, а это, как-его-там, пока что единственная мера, которую предпримет правительство.
Ко времени выхода вечерних газет он уже в клубе.
– Могу вам сообщить мнение Сити, милорд, – говорит он, – а как на это смотрит Джонс Лойд, вкратце сводится к следующему… – это мне сами Ротшильды сказали. Мнение на Марк-лейн составилось вполне определенное.
Его считают весьма осведомленным человеком. Живет он, конечно, в Белгрэвии, в приличном, тусклой окраски доме, и все у него там солидное, скучное и комфортабельное, как полагается. Его обеды упоминает «Морнинг гералд» среди званых вечеров текущей недели; его жена и дочки раз в год весьма эффектно появляются на дворцовых приемах, а сам он в этот день приезжает в клуб в мундире вице-губернатора.
Он любит начинать беседу с вами таким образом:
– Когда я был в палате, то я, и т. д. – Он и правда три недели был депутатом от Скитлбери в первом пореформенном парламенте, однако лишился места за взятки, после чего еще трижды и без всякого успеха баллотировался от того же избирательного округа.
Другого рода политический сноб, какого мне приходилось видеть в большинстве клубов, – это человек, которого заботит не столько внутренняя политика, сколько внешняя, коей он великий знаток. Думаю, что такого рода людей трудно найти где-либо помимо клубов. Именно для них газеты печатают статьи об иностранной политике, что обходится каждой газете тысяч десять в год. Он серьезно встревожен замыслами России и вопиющим коварством Луи-Филиппа. Именно он ожидает, что французский флот, того и гляди, появится на Темзе, он не спускает глаз с американского президента и прочитывает его речи от начала до конца (не позавидуешь!). Он знает по именам всех соревнующихся политических лидеров Португалии. Знает, из-за чего они борются; именно он говорит, что лорда Эбердина следует судить, а лорда Пальмерстона повесить, или наоборот.
У такого сноба излюбленная тема: лорд Пальмерстон продался России; точно известно, за сколько рублей и какая фирма в Сити его продала. Я как-то подслушал разговор такого сноба. Это капитан Спитфайр К. Ф. (кстати сказать, виги отказались дать ему корабль) беседовал после обеда с мистером Миннсом:
– Миннс, вы знаете, почему княгиня Скрагамовская не была на вечере у леди Пальмерстон? Потому что она не может показаться людям на глаза – а почему не может? Сказать вам, Миннс, почему? Вся спина у нее иссечена до крови – прямо как сырое мясо, сэр! В прошлый вторник, ровно в двенадцать часов, в Эшбернхем-хаус явились три барабанщика из Преображенского полка – а в половине первого в желтой гостиной русского посольства, в присутствии супруги посла, четырех горничных, православного попа и секретаря посольства, княгиня Скрагамовская получила тринадцать дюжин. Ее исполосовали кнутами, сэр, кнутами, в самом сердце Англии – на Беркли-сквер, – только за то, что она говорила, будто у великой княгини Ольги волосы рыжие. А теперь скажите мне, сэр, как по-вашему, может ли лорд Пальмерстон после этого оставаться министром?
Миннс. Боже правый!
Миннс ходит за Спитфайром по пятам и считает его величайшим и мудрейшим из людей.
Глава XLVI
Клубные снобы
Почему бы какому-нибудь великому писателю не написать «Тайны клубных домов» или «Разоблачение Сент-Джеймс-стрит»? Отличный был бы сюжет для автора с воображением. Все мы помним, как еще мальчишками бывали на ярмарке и, потратив все свои деньги, с благоговением и страхом шатались вокруг балагана, гадая о том, какие зрелища показывают внутри.
Человек есть драма – драма Чудес и Страстей, Тайн и Подлости, Красоты и Верности и т. п. Каждая Грудь есть Палатка на Ярмарке Тщеславия. Но оставим этот прописной стиль: я бы умер, если бы придерживался его на протяжении целого столбца (да и хорош был бы столбец из одних прописных, кстати сказать). В клубе, хотя бы в комнате не было ни одного знакомого лица, вы всегда имеете возможность наблюдать незнакомцев и размышлять о том, что творится в этих палатках под занавесом их душ, их сюртуками и жилетами. Это развлечение не приедается. В самом деле, я слыхал, будто есть в Лондоне такие клубы, где никто ни с кем никогда не разговаривает. Все сидят в кофейной в полном молчании и наблюдают друг за другом.
А между тем как мало можно определить по внешности человека! В нашем клубе есть один завсегдатай – крупный, грузный, пожилой мужчина, роскошно одетый, несколько лысоватый, всегда в лакированных сапогах и в боа, когда выходит на улицу; манеры у него спокойные; он всегда заказывает и съедает не слишком обильный, но изысканный обедец, – все эти последние пять лет я его принимал за сэра Джона Поклингтона и уважал, как человека, имеющего пятьсот фунтов дохода per diem; а оказалось, что он всего-навсего служащий какой-то фирмы в Сити; дохода у него и двухсот фунтов не наберется, и фамилия его – Джаббер. А сэр Джон Поклингтон, напротив того, маленький, грязный человечек, весь перепачканный нюхательным табаком; он вечно жалуется на плохое пиво и ворчит, что с него взяли полтора пенса лишних за селедку; он сидел за соседним с Джаббером столиком в тот день, когда кто-то наконец показал мне настоящего баронета.
Возьмите другого рода тайну. Я вижу, например, как старик Подхалим украдкой заглядывает во все комнаты клуба; его остекленевшие глаза смотрят бессмысленно, он вечно ухмыляется грязной ухмылкой – он заискивает перед каждым, кого бы ни встретил, пожимает вам руки, благодарит и выказывает самый сердечный, проникновенный интерес к вашему здоровью и благополучию. Вы знаете, что он шарлатан и мошенник, и он знает, что вам это известно. Но все-таки он продолжает кривляться и, куда бы ни пополз, оставляет за собой дорожку льстивой слизи. Кто может разгадать этого человека, проникнуть в его тайну? На что он рассчитывает, лебезя перед вами или передо мной? Вы не знаете, что скрывается под этой ухмыляющейся маской. Вы питаете к нему только смутное, инстинктивное отвращение: оно предупреждает вас, что перед вами мошенник, – а дальше этого вся душа Подхалима для вас – загадка.
Мне, пожалуй, приятнее размышлять о людях молодых. У этих игра идет более открыто. Вам словно бы известно, какие карты у них на руках. Взять, например, господ Спэйвина и Кокспора.
Почти во всех клубах можно, вероятно, найти экземпляры этого сорта молодых людей. Они ни с кем в клубе не знакомы. Они вносят с собой в комнаты крепкий запах сигар и, забившись в уголок, бормочут что-то о скачках. Историю того короткого периода, когда они были украшением общества, они вспоминают по кличкам своих лошадей, бравших тогда призы. Как политические деятели толкуют о «годе Реформы» или о «годе, когда виги ушли» и т. д., так и эти молодые деятели спорта говорят о «годе Тарнэшена», «годе Оподельдока» или о годе, когда Катавампос пришел вторым в скачках на Честерский кубок. Утром они играют на бильярде, за завтраком пьют светлый эль и запивают его чем-нибудь покрепче. Они читают «Беллову жизнь» (очень приятная газета, выказывающая большую эрудицию в ответах своим читателям). Они заглядывают к Тэттерсолу, а после того фланируют в Парке, засунув руки поглубже в карманы накидок.
Что меня особенно поражает в поведении этих молодых спортсменов – так это их поразительная серьезность, краткость речей, озабоченный и угрюмый вид. В курилке клуба «Регеyт», когда вся комната покатывается со смеху от шуточек Джо Миллерсона, вы слышите, как господа Спэйвин и Кокспор бормочут где-нибудь в углу.
– Приму ваши двадцать пять против одного, ставлю на Братца против Синего Носа, – шепчет Спэйвин.
– За такую цену не возьмусь, – отвечает Кокспор, угрожающе мотая головой.
Из головы у этих молодых неудачников не выходит книжка скаковых пари. Я, кажется, ненавижу ее еще больше, чем «Книгу пэров». От «Книги пэров» есть все же какая-то польза, хотя, вообще-то говоря, почти все там враки: де Могинс вовсе не произошел от великана Хогина-Могина, да и другие родословные тоже наполовину вымышлены и не менее глупы; однако читать девизы очень интересно, – не все, но некоторые, – а сама книжка являет собой нечто вроде лакея истории, в золотых галунах и в ливрее, и в этом смысле может пригодиться. Но какую пользу можно извлечь из «Книжки скаковых пари»? Если бы я мог стать на одну неделю халифом Омаром, я бы сжег на костре все эти мерзкие манускрипты: от книжки милорда, который «связан» с конюшней Джека Снафла, что позволяет ему обводить вокруг пальца менее осведомленных мошенников и облапошивать юнцов, до книжки Сэма, мальчишки от мясника, который ставит в распивочной свои восемнадцать пенсов, в надежде выиграть «целых двадцать пять шиллингов».
В скаковых сделках и Спэйвин и Кокспор всегда готовы надуть родного отца и обжулить лучших друзей, лишь бы выиграть хоть одну ставку. Когда-нибудь мы услышим, что тот или другой из них сбежал с набранными деньгами, – и не умрем с горя по этому случаю: ведь мы с вами не играли на скачках. Посмотрите: вон мистер Спэйвин прихорашивается перед зеркалом, собираясь уходить, и накручивает жиденький локон сбоку. Поглядите на него! Только в тюрьме да на ипподроме можно увидеть такое подлое, насквозь прожженное, мрачное лицо!
Среди клубной молодежи гораздо человечнее и приятнее молодой сноб-сердцеед. Я как раз застал в туалетной Фанта, беседующего со своим неразлучным другом Финтом.
Фант. Честное слово, Финт, она посмотрела на тебя!
Финт. Ну что ж, Фант, если ты это сам говоришь, она и вправду взглянула на меня довольно нежно. Вот посмотрим, что будет нынче вечером, на французской пьесе.
И, приведя себя в порядок, эти два безобидных денди уходят наверх обедать.
Глава XLVII
Клубные снобы
Оба рода молодых людей, описанные мною в последней главе под легкомысленными именами Финт и Фант, довольно часто встречаются в клубах. Финт и Фант ровно ничего не делают. Оба они происходят из среднего сословия. Один из них, возможно, прикидывается адвокатом, другой нанимает модно убранную квартиру неподалеку от Пикадилли. Оба они денди, но как бы второго сорта; им далеко до великолепной небрежности манер и восхитительной пустоты и глупости, которыми отличаются знатные и родовитые вожаки этой породы; но жизнь они ведут такую же скверную (хотя бы только напоказ) и совершенно так же ни к чему не пригодны. Я не собираюсь вооружиться громами и обрушить их на головы этих мотыльков с Пэл-Мэл. Они не могут причинить обществу большого вреда и не способны на сумасбродства в личной жизни. Они не могут истратить тысячу фунтов на брильянтовые серьги для оперной танцовщицы, как лорд Тарквин; ни тот, ни другой не открыли трактира и не сорвали банк в игорном клубе, как молодой граф Мартингал. У них есть свои достоинства, свои добрые чувства, они не мошенничают в денежных сделках – но в ролях светских молодых людей второго сорта они и им подобные до того ничтожны, самодовольны и нелепы, что в произведении, трактующем о снобах, им просто необходимо уделить место.
Финт бывал за границей, где, как он дает вам понять, имел потрясающий успех среди немецких графинь и итальянских княгинь, которых он встречал за табльдотом. Стены в его квартире сплошь увешаны портретами актрис и балетных танцовщиц. Он проводит утро в роскошном халате, среди аромата курительных свечек, за чтением «Дон-Жуана» и французских романов (кстати сказать, жизнь автора «Дон-Жуана», описанная им самим, была образцом жизни сноба). Накупив грошовых французских гравюрок, изображающих томных женщин в домино, гитары, гондолы и прочее тому подобное, – он рассказывает вам про них целые истории.
– Плохая гравюра, – говорит он, – я это понимаю, но мне она нравится, и этому есть свои причины. Она мне напоминает кого-то, – ту, кого я знал под иными небесами. Слыхали вы имя принчипессы ди Монте Пульчияно? Я встретил ее в Римини. Милая, милая Франческа! А вот это златокудрое и ясноглазое существо в тюрбане с райской птицей и с попугаем-неразлучником на руке изображает, должно быть… вы ее, возможно, не знаете… но она известна в Мюнхене, любезный мой Фант, – все там знают графиню Оттилию фон Эйленшрекенштейн. Боже, как она была прелестна, когда я танцевал с ней в день рождения князя Аттилы Баварского в тысяча восемьсот сорок четвертом году. Нашим визави был князь Карломан, и князь Пепин участвовал в том же контрдансе. В букете у нее был белый нарцисс. Фант, этот цветок и сейчас у меня!
Его физиономия принимает страдальческое и загадочное выражение, и он зарывается головой в подушки дивана, словно погружаясь в водоворот страстных воспоминаний.
В прошлом году он произвел немалую сенсацию, поставив на свой стол миниатюру в сафьяновом футляре, запертом на золотой ключик, который он всегда носил на шее, – а на футляре была вытиснена змея – символ вечности – с буквою «М» в круге. Иногда он ставил этот футляр на сафьяновый письменный столик, словно на алтарь, – обычно там же стояли цветы, – и посреди разговора вдруг вскакивал и целовал футляр. Или кричал из спальни лакею: «Хикс, принесите мне мой ларец!»
– Не знаю, кто она такая, – говаривал Фант, – да и кто может знать все его романы? Десборо Финт, сэр, раб нежной страсти. Думаю, вы слышали историю итальянской княгини, которую заперли в монастырь Святой Барбары в Римини, – он вам не рассказывал? Тогда и я должен молчать; или же историю той графини, из-за которой он едва не подрался на дуэли с князем Ведекиндом Баварским? Может быть, вы не слышали даже и про красавицу из Пентонвилля, дочь весьма уважаемого пастора-диссидента? Сердце ее было разбито, когда она узнала, что Финт помолвлен (с прелестной девушкой из знатной семьи, которая потом изменила ему), и теперь она в Хенуэлле.
Вера Фанта в своего друга доходит до безграничного обожания.
– Какой это был бы талант, сэр, если бы сколько-нибудь поработал! – шепчет он мне. – Он мог бы стать кем угодно, если бы не его страсти. Прекраснее его стихов ничего быть не может. Он написал продолжение «Дон-Жуана», положив в основу поэмы собственные похождения. Читали ли вы его «Стансы к Мэри»? Это выше Байрона, да, сэр, – выше Байрона!
Я был рад это услышать от такого компетентного критика, как Фант: сказать по правде, я сам сочинил эти стихи для простака Финта, которого застал однажды погруженным в раздумье над довольно-таки засаленным старомодным альбомом, куда он не вписал еще ни одного слова.
– Не могу, – произнес он, – бывает, что я напишу сразу целую балладу, а сегодня – ни единой строчки. О Сноб, такой счастливый случай! Такое божественное создание! Она просила меня написать стихи ей в альбом, – а я не могу!
– Она богата? – спросил я. – Мне казалось, что вы женитесь разве только на богатой наследнице.
– Ах, Сноб! Она – само совершенство, и с такими связями – а я не могу выжать из себя ни единой строчки.
– А в каком духе вам требуется? – спросил я. – Погорячей и послаще?
– Перестаньте, Сноб, не надо! Вы топчете самые святые чувства. Мне нужно что-нибудь страстное и нежное – в духе Байрона. Я хочу ей сказать, что в пиршественных чертогах… ну и так далее, вы сами понимаете, – я думаю только о ней, что я презираю свет, что я им пресыщен, знаете ли, – ну и еще что-нибудь… какая-нибудь там «газель» или «бульбуль».
– А под конец – ятаган, – заметил автор этих строк, и мы приступили к делу:
К Мэри
Средь светской толпы на бале
Я всех кажусь веселей;
На шумных пирах и собраньях
Мой смех звучит всех звончей.
Все видят, как я улыбаюсь —
Насмешливо иль свысока,
Но душа моя горько рыдает;
Ты так от меня далека.
– Ну, Финт, как по вашему мнению, ловко? – спросил я. – Признаться, я и сам чуть не плачу.
– Дальше, пожалуй, – начал Финт, – мы скажем, что весь мир у моих ног – чтобы она, понимаете ли, приревновала; ну и так далее, в том же роде, и что я уезжаю путешествовать, понимаете ли. Быть может, это подействует на ее чувства.
И «мы» (как выразился этот несчастный педант) снова взялись за дело:
Я вижу и лесть и дружбу
От старца и юнца;
Красавицы мне предлагают
За злато свои сердца.
Пускай! Я всех презираю,
Они – рабы мои,
И втайне к тебе обращаю
Все помыслы свои.
– А теперь – о путешествии, любезный Финт.
Я начал прерывающимся от волнения голосом:
Прости! Это ты научила
Сердце мое любви,
Но тайну мою до могилы
Я буду хранить в груди.
Ни слова, ни вздоха о страсти…
– Послушайте, Сноб! – прервал Финт вдохновенного барда (в ту самую минуту, когда я собирался разразиться настолько трогательным четверостишием, что оно довело бы читателя до истерики). – Послушайте… гм… не могли бы вы сказать, что я… ношу мундир и что жизнь моя в опасности?
– Вы носите мундир? Ваша жизнь в опасности? Каким же это образом?
– Н-ну, – отвечал Финт, густо краснея, – я сказал ей, что уезжаю… в Эквадор… с военной экспедицией.
– Юноша, вы гнусный обманщик! – воскликнул я. – Дописывайте эти стихи сами!
Он их и дописал совершенно вне всякого размера, да еще хвастался потом в клубе, выдавая их за свои собственные.
Бедняга Фант твердо веровал в таланты своего друга до прошлой недели, когда он появился однажды в клубе с странной улыбкой на физиономии.
– О Сноб, я сделал такое открытие! Отправился сегодня на каток – и вдруг кого же я вижу, как не Финта под ручку с этой роскошной женщиной, с этой леди знатного рода и с огромным состоянием, ну, да вы знаете, Мэри, та самая, которой он еще написал такие прелестные стихи. Ей сорок пять лет. Она рыжая. Нос у нее как ручка от насоса. Ее отец нажил состояние на торговле ветчиной и говядиной, и на будущей неделе Финт должен сочетаться с ней браком.
– Тем лучше, мой юный друг! – воскликнул я. – Гораздо лучше будет для женского пола, если этот опасный сердцеед перестанет губить сердца, если эта Синяя Борода уйдет на покой. Да и для него самого это много лучше. Поскольку во всех этих невероятных любовных историях, которым вы так слепо верили, нет ни единого слова правды, Финт никому не повредил, кроме самого себя, и теперь вся его любовь сосредоточится на мясной лавке тестя. Бывают такие люди, любезный мой Фант, которые проделывают все это всерьез и тем не менее достигают высокого положения в обществе. Но эти люди – не предмет для шуток и, будучи, несомненно, снобами, остаются в то же время и негодяями. Их дела подсудны одному только Суду Всевышнего.







