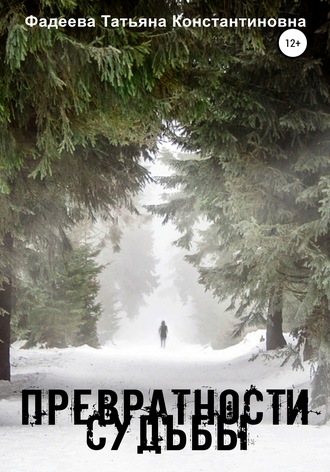
Татьяна Константиновна Фадеева
Превратности судьбы
Принято считать, что дети ничего не понимают, на самом деле дети понимают все так же, как и взрослые, но не могут справиться с этим пониманием, выразить, как взрослые, свое понимание не могут.
У Анфисы было двое детей и муж, он вернулся с войны инвалидом. Явление тогда не редкое. Мужик в семье даже без ноги – это достаток в доме. По деревенским меркам жили они справно, не голодали, не смотря на то что шла война.
Некоторое время спустя произошла еще одна история. Как-то играли мы дома на своей половине втроем Ира, Вилье и я, и вдруг с потолка из дыры в углу на пол упала мороженая луковица. Может быть крыса, пробегая по чердаку, ее задела. Вилье залез на стол засунул руку в дыру в потолке и нащупал еще несколько мороженых луковиц. Мы, постоянно недоедавшие, измученные голодом дети жадно съели сладковатую мякоть, мгновенно ободрав лук от кожуры. Вонзая голодные зубы в сладкую промороженную мякоть, мы даже и не думали, что совершаем что-то плохое. Через несколько дней Анфиса зашла к нам домой на нашу половину, когда мамы не было дома, и отчехвостила нас по первое число за то, что мы, голодранцы эвакуированные, сожрали весь ее лук с чердака.
Спустя много лет после войны, мы тогда уже жили всей семьей в селе Деревянное я получила от Анфисы покаянное письмо. Она просила у меня прощения за свою жадность, писала, что конечно, могла нам тогда помочь, но не захотела, жадность ее одолела. Просила ответить на ее письмо, если я ее прощаю. Не знаю правильно я поступила или нет, но я не стала отвечать на ее письмо. Не могла простить. Как она нашла наш адрес не знаю. Слухами земля полнится.
Зимой мы особенно жестоко голодали. Летом мы собирали грибы и ягоды. Ягоды ели сырыми или с кашей. Какую-то крупу покупали по карточкам и мешали с ягодами. Съедали все, что находили в лесу, делать заготовки на зиму не было возможности. Сахара не было, соли тоже не было.
Грибы сушили, потом на столе скалкой или бутылкой разминали, превращая в грибную крошку или муку, протирали через сито. Вареные грибы уже есть не могли. Столько времени и на постоянно голодный желудок – одни грибы! В сухие, смолотые грибы добавляли ягоды, натолчем все вместе и едим. Мука грибная заменяла толокно. Туда еще добавляли ваниль.
Кстати, грибы, смешанные с ягодами, дают очень интересный вкус. Ваниль использовали вместо соли и сахара, чтобы как-то разнообразить вкус. Вот такую бурду ели. С тех пор уже много лет прошло, а я все еще ненавижу грибы и запах ванили.
Весна идет…
Как-то уже под весну вечером на улице крупными хлопьями валил мокрый снег. В дверь нашего дома постучала незнакомая женщина и спрашивает: «Лавикка Гертруда Йоносовна здесь живет?».
Мама отвечает: «Да, это я».
Женщина подает ей большой, из газеты склеенный, треугольный конверт. Надпись, сделанную на нем химическим карандашом, разобрать было трудно, ее почти размыло. Конверт видимо прошел через множество рук, часто попадал под снег или дождь. Его долго гоняли по адресам, он был изрядно потрепан. Мама очень удивилась, что его все же доставили.
Она открыла загадочный конверт, в нем оказались пять рублей и короткое послание от Раухи Каалске, маминой подруги из Подужемья.
Всего несколько слов было в нем написано: «Я нахожусь там-то, держитесь».
Эта трогательная забота очень взволновала и согрела нас. Тогда все старались помочь друг другу, чем могли.
Весной маме в колхозе выделили большой участок, засеянный льном. Когда лен вырос, надо было его выдергивать. Пока поле не вычистишь ото льна, трудодни не начислят. Мы втроем ходили дергать лен, мама, я и Ира. Иногда Вилье, сын тети Хельми нам помогал.
Дергаешь лен, а он колючий. Семечки у него уж очень колючие. Руки у нас непривычные к такой работе, нежные, а ни рукавиц, ни перчаток нет.
К вечеру руки становятся темно-зеленого цвета от льняного сока, ладони все в занозах, пальцы отказываются служить, все руки в мозолях, кровоточат даже. Мы их попарим в горячей воде, а на следующий день мама кусочек ткани от единственной простыни оторвет, обмотает нам руки, и мы снова идем дергать лен.
В один из дней по дороге с работы я почувствовала себя очень плохо.
Мама прикоснулась к моему лбу и воскликнула: «Да ты вся горишь!».
Когда пришли домой, измерили температуру. У тети Хельми к счастью был градусник. А ртуть в градуснике подскочила к отметке сорок градусов. Мама меня уложила, осмотрела руки и увидела, что у меня началось заражение крови. Воспаление пошло от ладони вверх по вене к локтю. Грязь видимо попала в ободранные в кровь льном ранки.
Мама где-то раздобыла сырую картофелину и, натерев ее, привязала к моей руке. Она долго сидела рядом со мной, крепко держа повязку, чтобы я нечаянно не сдвинула ее. И где она только эту картофелину нашла? У нас и картошки-то не было.
Около часа, а может быть и больше мама держала драгоценную повязку, чтобы она случайно не съехала. Я почувствовала, что температура стала спадать и уснула.
Утром, когда я проснулась, мама, улыбаясь, спросила: «Ну вот, опять спаслись, теперь дальше жить будем?».
На работу мама меня больше не брала. Закончили они лен дергать вдвоем с Ирой. Трудодни за эту работу оплачивали деньгами или продуктами. Мама взяла картошкой и мукой.
По соседству с нами жила одинокая старушка в большом старом доме.
Как-то она зашла к нам и говорит: «Сегодня Радоница – пасха мертвых, пойдемте ко мне на обед. У меня на этом свете никого нет, все мои родные там».
И махнула неопределенно рукой в сторону. Нам стало жалко ее, и мы отправились к ней в гости.
Дом у старушки был огромный, рассчитанный на большую семью. В деревне все дома устроены одинаково. Кухня с русской печью, в комнате солидный стол, по стенам длинные лавки. На столе стояла посуда, разные тарелки, миски, деревянные ложки. Бабушка приготовила на обед какой-то суп и пироги.
Она сказала нам: «Садитесь за стол, только вот эти три места для мертвых оставим».
Окно было открыто и на подоконнике лежало длинное вышитое по краям полотенце, такое же полотенце висело над зеркалом. Конец одного полотенца был постелен на стол и на нем стояли три тарелки с супом, а еще четыре на столе рядом.
«Подождем, пока они поедят, потом будем кушать мы», – сказала бабушка.
Долго, боясь пошевелиться, мы сидели и смотрели на полотенце.
Наконец бабушка тихо произнесла: «Видите, полотенце шелохнулось».
Немного погодя раздался в тишине резкий звук, словно ложкой стукнули о тарелку. Кто-то из нас, наверное, нечаянно задел ее. В открытое окно тянуло холодом, и мы сильно дрожали то ли от холода, то ли от страха перед встречей с мертвыми.
«Ну вот, теперь можно и нам кушать», – наконец разрешила старушка.
Мы, испуганные и притихшие, быстро поели и отправились домой. Три тарелки с супом так и остались, конечно, стоять на столе нетронутыми.
Мама была атеисткой и в загробную жизнь не верила, чтобы нас успокоить она сказала: «Если долго смотреть на какой-нибудь предмет, то всегда начинает казаться, что он движется».
Все равно впечатления у нас с Ирой после этого обеда остались не самые приятные.
В колхозе нашей семье выделили небольшой участок мелкого березняка для заготовки дров. Мама начала деревья пилить лучевкой, это такая пила. Рубить сучки мы не умели. Мама свалит дерево, срубит сучки, перепилит дерево на чурки, а мы с Ирой таскаем их на дорогу.
Потом председатель колхоза дала маме лошадь. Мы на этой лошади, запряженной в телегу, привезли дрова домой. Мы с Ирой обдирали с чурок бересту, потому что сырую березу растопить сложно. Бересту и все щепки тщательно собрали и высушили на печке. Целую неделю мы занимались заготовкой дров.
Под конец мама свалила одну стройную сосенку, распилила ее на более длинные чурки. «Это для лучины», – говорит.
Их мы тоже занесли домой и высушили. Мама аккуратно острым ножом настрогала из них лучин. Это было непростое дело, лучины должны быть широкими, тонкими и довольно длинными. Керосина или свечей не было, электричества и подавно. Стены в избе были бревенчатые, все в трещинах, и лучина, воткнутая в трещину, держалась хорошо.
Лучину зажигали, когда она сгорала, и пламя немного не доходило до стены, лучину тушили, снимали и ставили другую. Такое в деревне было освещение по вечерам. При лучине мы с Ирой уроки делали, а мама штопала и зашивала порванную одежду.
Пасха
Пасха в этом году выпала на одно из апрельских воскресений. В прохладный еще весенний день все население Мишиной горы высыпало за околицу. Ире к празднику тетя Хельми сшила новую юбочку из ткани с рисунком в елочку, не из новой конечно, переделала из старья, но получилось очень красиво. А у меня ничего нового из одежды не было и я устроила маме «концерт». Я кричала и плакала, что бедной мне нечего надеть на праздник. Мама вытащила из чемодана маленькую ярко-желтую наволочку от подушки-думочки, и чтобы не портить ее, аккуратно подпорола швы, сделав отверстия для рук и головы. Получилась яркая кофточка для меня, я надела ее поверх своей одежки. Тетя Хельми накинула мне на шею, отпоротый от чего-то красивый вязаный воротничок с завязками и я отправилась на пасхальное гулянье нарядная и довольная, зажав в кулачке темно-красное яичко, выкрашенное луковой шелухой. Такое же яичко было в руке у Иры.
За околицей народ столпился вокруг высокого молодого парня, там шла традиционная пасхальная игра. Парень «кокался» своим крашеным яйцом с детворой и со взрослыми неизменно побеждая всех подряд. Его крепкое яйцо было как-будто заговоренное. Он собрал уже целую корзинку побитых им яиц. Кто-то из проигравших ему свое яичко детей уже заливался горькими слезами. И простое некрашеное яйцо было тогда драгоценностью, что говорить о пасхальном красном яичке. Голод же был, шла война. Не прошло и пяти минут, как и мы с Ирой расстались со своими красными яичками, они, «кокнутые» невероятно прочным яйцом парня уже лежали в его корзинке. Мы с Ирой стояли с разинутыми от неожиданной обиды ртами, глаза непроизвольно наполнялись слезами. Мы обе были готовы громко зареветь от горя горького.
Но события начали разворачиваться самым неожиданным образом. Неподалеку от места, где происходили состязания, на бревне сидел старичок и внимательно наблюдал за происходящим. Когда парень обобрал уже почти всю деревню и собрался уходить, дед поднялся со своего места, подошел к нему и сказал: “Я тоже хочу сыграть. Только ты мне свое яйцо на время дай. Я им поиграю».
Парень долго упирался, не хотел выпускать свое яйцо из рук, но все дети вокруг закричали, требуя чтобы он отдал яйцо старику, подошли и немного выпившие по случаю праздника взрослые. Старик взял в руки яйцо и показал всем, что оно не настоящее, а деревянное. Он заставил разоблаченного мошенника вернуть все выигранные им яйца, сам доставал их из корзинки и раздавал, спрашивая каждого, сколько у кого было яиц. Вернул и нам с Ирой наши пасхальные яички. Дети перестали плакать, взрослые засмеялись. Парень под шумок куда-то исчез, и вовремя, а то его могли бы не на шутку и побить за такие проделки.
Чемодан
Помню, у нас дома лежал большой коричневый чемодан с металлическими уголками, мы с ним отправились в эвакуацию, теперь он уже почти пустой был. Большую часть вещей мама продала или обменяла на продукты. На дне чемодана лежала фотография большого коллектива учителей, среди них был и наш папа. Судя по надписи на обороте, эту фотографию сделали в 1931 году в Москве на Конференции ударников коммунистического труда народного образования. А еще в чемодане хранилась блестящая золотого цвета медаль, мама очень ее берегла.
Мне захотелось пофорсить и я, нацепив красивую медаль себе на кофту, отправилась гулять. На улице было по-летнему тепло, и я долго играла с деревенскими ребятишками, а домой вернулась уже без медали. Не заметила, как потеряла ее.
Как-то мама заглянула в чемодан и, не обнаружив медали, очень расстроилась.
Строго спрашивает нас с Ирой: «Где же медаль?».
Я честно призналась, что это я ее потеряла.
Мама была сильно огорчена, она печально сказала: «Я очень берегла эту медаль, потому что это единственная память о моем брате Гуннаре Нордлинге, он учился вместе со мной и вашим отцом в Коммунистическом университете в Ленинграде. На крупных спортивных соревнованиях по лыжам, где он победил, ему торжественно вручили эту медаль. Его тоже, как и вашего отца арестовали».
Мне долго было стыдно за свой поступок, тогда я впервые ощутила муки совести и не забуду этого тяжелого чувства никогда. Я вспомнила, как еще за год до ареста отца, зимой к нам в Паданы на лыжах из Петрозаводска примчался дядя Гуннари. Оставалось минут пять до наступления Нового года, в доме стояла наряженная елка, мама хлопотала у стола, как вдруг во дворе послышался шум, упала лыжная палка, раздался топот на крыльце и в наш дом в клубах морозного пара ввалился рослый молодой мужчина. Я была маленькой и он показался мне огромным. Дядюшка подхватил меня на руки, подкинул к потолку, и я радостно визжала от внезапно нахлынувшего счастья.
Мы с Ирой знали, что Санта-Клаус живет в Финляндии и по-фински именуется Йоулупукки. Нам рассказывала бабушка Аманда, что сильные морозы случаются, когда Санта-Клаус в Лапландии сердится на проделки непослушных детей. Увидеть настоящего Санта Клауса было нашей мечтой! Это он, Санта-Клаус, решили мы с Ирой, он просто притворился дядюшкой, чтобы мы его не испугались. Гуннари снял с плеч рюкзак и вывалил из него на стол конфеты, печенье, пряники – ну чем не Санта-Клаус? Он настоящий!
Много лет спустя нам стала известна более подробная информация о судьбе маминого брата. Нордлинг Гуннар Йонасович 1899 года рождения, член ВКП(б), проживавший в Ленинграде, был арестован 12.11.37 года.
Приговорен Комиссией НКВД и Прокуратуры СССР 12.01.38 года по статье 58-6 (шпионаж) УК РСФСР к высшей мере наказания, то есть к расстрелу. Расстрелян 18.01.38 года. Место расстрела Ленинград.
Возвращение из эвакуации
Как-то раз поздно вечером я с температурой лежала на кровати в комнате. Болела я очень часто. А мама и тетя Хельми сидели на кухне и тихо разговаривали. У нас радио не было, но видимо где-то они его слушали. Шел уже 1944 год, у людей появилась надежда на возвращение из эвакуации домой.
Сквозь болезненную дрему я слышу, тихий мамин голос: «К чему мы вернемся неизвестно, и здесь все вещи проданы, ничего не осталось, как будем жить?».
А тетя Хельми так же тихо отвечает: «Успокойся, не переживай, справимся. У меня один сын, да и у тебя вряд ли Рая выживет, так сильно болеет все время. Останется одна Ира. С одним ребенком ты легко справишься».
Меня, как ножом по живому, больно резанули эти слова. Уже на следующее утро я сидела на краю кровати, свесив босые ноги, температура, конечно, была, но мне стало значительно легче. Соседка из деревни принесла какой-то отвар из трав, напоила меня. К вечеру опять принесла какую-то целебную траву, и мама заварила ее для меня. В общем, мне стало лучше. Недели две я промучилась, но поправилась. Отпоили меня лечебными травами.
А слова тети Хельми злой обидой врезались в память навсегда. Значит, очень мне жить хотелось.
Немного прошло времени и на самом деле все вокруг заговорили о том, что скоро можно будет из эвакуации возвращаться домой. Нам сообщили, что уезжающим дадут подводы, на станцию будут поданы вагоны, и желающие могут отправляться к местам прежнего проживания.
Товарный вагон был точно такой же, как тот, в котором мы приехали сюда. В нем тоже были двухэтажные нары, печка – буржуйка топилась посреди вагона.
После болезни меня с ног до головы обсыпало болячками, все тело было в чирьях. Их не было только на ладонях, ступнях и лице. Видимо это был тяжелый авитаминоз от долгого недоедания. Я не могла спать лежа. Стоя спала как лошадь. Иногда в изнеможении дремала на коленях у мамы. Я не могла ни лежать, ни сидеть, ни стоять, просто наказание какое-то. Стоило сесть или лечь, гнойники прилипали к одежде и причиняли такую сильную боль, что хоть криком кричи.
Какой-то сердобольный старичок, посмотрев на мои мучения, сказал: «Доченька, миленькая, иди, ложись на мою постель, а я рядом посижу. Мочи нет смотреть на твои страдания».
А я ему отвечаю: «Дедушка, спасибо, не могу я лечь, у меня все болит».
Капуста
Мы приехали в Кемь осенью 1944 года, на улицах уже лежало довольно много снега. Нас поселили в один из бараков на окраине. Там, похоже, когда-то школа была, двери из больших комнат в длинный холодный коридор открывались двумя створками. Такие двери обычно в классах делали.
Нас разместили в одной комнате вместе с женщиной – ингерманландкой, звали ее тетя Лиза Повилайнен и ее дочерью Зиной. Муж тети Лизы тоже был арестован в 1937 году, но отправлен отбывать срок не в Свердловскую область, как наш отец, а в Казахстан на медные рудники. Тетю Хельми с сыном и швейной машиной поселили где-то в другом месте. В большой холодной комнате с грязным ободранным полом стояла круглая печка-голландка, две голые железные кровати и что-то вроде стола. У тети Лизы оказался примус, на нем мы готовили скудную еду.
Когда мы шли к бараку, я заметила у железной дороги огромную, припорошенную снегом кучу, там лежало что-то круглое, похожее на мячи, но что это было, я разглядеть не смогла, было уже темновато.
Утром мама ушла оформляться на работу, а я отправилась посмотреть, что там такое круглое лежит. Подхожу и вижу, что это кочаны мороженой капусты для проходящих воинских эшелонов, а охраняет эту кучу часовой.
Я подошла, взяла в руки один небольшой кочан, мне было уже все равно: застрелит меня солдат, так застрелит. Патрульный сделал вид, что меня не заметил, отвернулся и пошел в другую сторону. На подгибающихся от страха ногах я понесла тяжелый кочан домой.
Когда мама вернулась вечером с работы, грустно улыбаясь, сказала: «Кормилица ты моя».
Так я ходила каждый день и брала по одному кочану капусты, пока ее оттуда не вывезли. Ира со мной не ходила, но очень переживала за меня, всегда с тревогой смотрела в окно, ждала, вернусь я или нет. Никто из охранявших эту кучу солдат ни разу не сказал мне ничего плохого, хотя караул сменялся каждый день. Эту мороженую капусту мы варили и ели, она тоже помогла нам выжить.
У тети Кати
Как-то в Кеми мы с мамой пошли на рынок и вдруг слышим, кто-то кричит: «Кертту!».
Причем произнесено мамино имя было чисто по-фински. Мама оглянулась, к нам бежала женщина с пустыми ведрами и корзинкой. Это была тетя Катя Сумманен.
Тетя Катя с мужем жили в Ленинграде, когда мама с отцом учились в университете, там они и познакомились.
Муж тети Кати – Карл Сумманен, как и наш отец, был участником финской рабочей революции 1918 года, после ее поражения отбыл шесть лет заключения в Финляндии и, освободившись в 1926 году, из Суоми переехал в Ленинград. В 1933 году его направили на преподавательскую работу в Карелию, и семья перебралась в Петрозаводск. Перед Великой Отечественной войной они переехали в Кемскую область в деревню Подужемье. Здесь Карл Сумманен тяжело заболел, умер и был похоронен.
Мама с тетей Катей обнялись, заплакали.
Тетя Катя спросила маму: «Это которая же из твоих девочек, такая худенькая, старшая или младшая?».
Мама ответила: «Да это младшая, Рая».
«Отпусти ее со мной ненадолго, пусть у нас погостит в Подужемье, я ее немножко откормлю», – предложила тетя Катя.
Мама согласилась.
Тетя Катя Сумманен работала в Подужемье в воинской части и ей иногда давали там овес. Она жарила зерна овса, молола их и варила овсяную кашу-болтушку.
Когда мы приехали с тетей Катей к ним домой, она приготовила овсяную кашу, достала из шкафчика на стол разнокалиберные тарелки и сказала: «У нас сегодня гостья, значит, она и выбирает, из какой тарелки будет есть».
За столом сидели: сын тети Кати Тайсто, дочь Элма и приемная дочь Эйла. Ее мать, сестра тети Кати умерла, а отец тоже был арестован.
Одна железная миска была особенно большая. Именно она-то мне и приглянулась. Мне страшно хотелось есть. Самая маленькая и худая, я выбрала самую большую посудину.
Вдруг, чувствую, под столом меня кто-то толкает в ноги.
А это Тайсто меня пинает своими длинными ногами и возмущенно шепчет: «Это моя миска».
Тетя Катя его услышала и ответила: «Сегодня гостья выбирает себе тарелку».
Я конечно, не смогла осилить всю кашу из своей большой миски, но за столом нам всем было очень весело.
Малина
Примерно посередине порожистой и быстрой речки Кемь находился остров, довольно приличных размеров, а на нем располагалось старое заброшенное кладбище. До острова можно было добраться вброд. Там росли густые кусты малины, и ягоды как раз к тому времени поспели. Среди местного русского населения существовало поверье, что на кладбище нельзя ничего брать, поэтому малину там никто не собирал.
Тетя Катя сказала нам: «Не бойтесь, ничего страшного не произойдет, идите, собирайте ягоды».
Мы взяли с собой лукошки и отправились за малиной. Тайсто на берегу посадил меня к себе на спину и перенес на остров.
Я попала в другой, неведомый мне мир. В сказочное Берендеево царство или как будто меня перенесли на другую планету. Все вокруг было необыкновенно яркое, зеленое, буйное, насквозь пронизанное солнцем. Высокая сочная трава, вольно разросшиеся кусты малины. Среди зеленых дебрей печально чернели старые покосившиеся кресты: простые деревянные и кованые ажурные.
Все мы босиком, обуви ни у кого не было, разбрелись по малиннику. Островок небольшой, заблудиться негде. Ветки малины высокие, даже трава вокруг выше моего роста. Ягод очень много.
Я, не спеша, сосредоточенно собираю душистую крупную малину и вдруг слышу: «Не трогай, это мои ягоды», – раздался приглушенный замогильный голос.
Заорав в ужасе, я бросила корзинку, ягоды рассыпались. Ко мне подбежала Элма, я ей плача, рассказала, что мне страшный голос из могилы сказал.
Она меня успокаивает: «Да это наверняка проделки Тайсто, это он шутит».
Стали его звать, а он идет к нам совсем с другой стороны.
Мы напали на него с упреками, а он отпирается: «Не я это», – говорит.
Мне уже не до ягод, я вся в слезах, боюсь очень. Я вообще тогда такая трусиха была, в сени одна боялась выйти, потому что там темно было. Решили мы возвращаться домой.
Подходим к речке, а Тайсто и говорит мне тихонько: «Вот теперь, ябеда, поплывешь через речку сама или будешь здесь сидеть, я тебя обратно не понесу».
Я была маленькая примерно в половину его роста и очень худая. Там где вода доходила ему до колена, я вымокла бы по пояс. Он дошел до середины речки, оглянулся и увидел, что я от огорчения снова, еще сильнее заплакала и вернулся. Посадил меня к себе на спину, я его за шею крепко обхватила, всхлипываю и тихонько вытираю о воротник его рубашки нос. Слезы и сопли у меня ручьем текут.
«Если ты еще раз, рева, об меня вытрешь свой сопливый нос, я тебя выкину в речку», – пригрозил мне Тайсто.
«Больше не бууууду», – испугавшись, пообещала я ему.
Тайсто, выйдя на берег, поставил меня как памятник на огромный замшелый валун, и с насмешкой произнес: «Вы только посмотрите на эту горожанку».
Вид у меня, прямо скажем, был неказистый: на мне старое выцветшее короткое платье, босые ноги ободраны в кровь, лицо и руки до локтей в грязных разводах от размазанных слез.
Он выглядел не лучше: огромные босые ступни тощих ног все в цыпках, штанины едва доходят до середины икр, ростом под два метра и очень тощий.
Мне стало жалко его, а ему видимо, меня. Тайсто достал из кармана несколько жареных зерен овса и протянул мне на ладони. От этого примирительного жеста я сразу успокоилась и перестала плакать.
Тайсто
Пришли мы домой уставшие и голодные. Тете Кате рассказывать про свои приключения не стали. Сказали лишь, что на острове было слишком много мух и комаров, поэтому малины мы не набрали. Тетя Катя опять накормила нас кашей-болтушкой. Быстро поев, мы с Тайсто вышли на улицу.
«Хочешь, я покажу тебе, как эта каша получается?», – предложил Тайсто.
Мне, конечно, было интересно. Мы спустились в подвал, там посреди просторного помещения стояли жернова – два каменных тяжелых круга, верхний с отверстием и ручкой. На них мололи овес. Тайсто дал мне покрутить ручку, и я даже смогла раза три крутануть ее, хотя это было нелегко. Тайсто показал мне весь дом, он чувствовал себя в нем хозяином, знал каждый уголок.
Это была обычная деревенская изба. В комнате по стенам стояли длинные лавки, середину занимал огромный некрашеный стол. Недалеко от двери висело маленькое зеркало над рукомойником. В стороне – большая русская печь. После топки в печке сгребали в угол золу, чтобы сохранить угли. Спичек-то не было. А если угли потухали, то Тайсто бежал к соседям за углями. Так там было принято – выручать друг друга.
Тетя Катя решила оставить меня погостить еще на пару недель.
«Пока я тебя не откормлю немножко, не отпущу», – сказала она.
А я была этому рада. Мне у них было очень хорошо. Мы всей компанией ходили в лес за ягодами и грибами. Насобирали много черники, и тетя Катя съездила в Кемь, продала ягоды и купила хлеб. Она заехала к нам домой и привезла с собой мою сестру Иру.
Недалеко от дома Тайсто построил из веток шалаш. Вечерами мы всей компанией садились в шалаше в кружок, прижимались друг к другу, чтобы было теплее, и Тайсто рассказывал нам страшные истории, придуманные на ходу, а мы слушали его, затаив дыхание.
В субботу мы топили баню. Она стояла на самом берегу реки Кемь. Банька была маленькая, закопченная, топилась по-черному. Мы целый день носили прозрачную чистую воду из реки, таскали поленья и щепки. Топил баню Тайсто, а мы ему помогали. Вечером тетя Катя всех нас по очереди помыла в бане, кроме Тайсто, он, как взрослый мылся сам.
Как-то в выходной день утром тетя Катя объявила: «Сегодня – день большой стирки».
Стирка у нее и правда была очень большая. Тетя Катя работала в воинской части прачкой и стирала солдатское белье. Недалеко от бани на берегу реки Тайсто разжег костер под огромным закопченным котлом. Тетя Катя кипятила в нем солдатское белье. Стирального порошка не было, мыла тоже не было, поэтому белье кипятили в щелоке и оно хорошо отстирывалось и становилось чистым.
Тайсто сбегал на речку, поймал несколько раков и сказал мне: «Знаешь, какие они вкусные, только их сварить надо».
Я никогда не пробовала раков и, недолго думая, кинула их в котел, где кипело белье. Через пару минут они из коричневых стали красными. Мы вытащили их из котла, прополоскали в речке и стали есть, тщательно очищая от скорлупы. Они и правда были необыкновенно вкусными.
В следующий выходной мама приехала за нами и забрала нас с Ирой домой. Погостили мы в Подужемье очень хорошо. Я совершенно выздоровела.
Победа
Среди наших соседей по бараку в Кеми поползли слухи, что по ночам в коридоре стало неспокойно. Кто-то там, в темноте шуршал и мяукал, хотя кошек ни у кого не было.
Соседка сказала маме: «Не открывайте никому ночью дверь, потому что в городе появились банды «Черная кошка» и «Синий чулок».
Нам собственно бояться было нечего. У нас не было ничего, что можно было бы украсть. Но мы все равно боялись. Каждый вечер тетя Лиза тщательно связывала ручки дверных створок тряпками, потому что никаких запоров там не было.
Дом наш был очень холодным, с вечно распахнутыми дверями в общий коридор, «стоял на семи ветрах», топить печки было нечем. Жилось нам в нем очень неуютно. К счастью немного позже нам предложили переехать в чердачную комнату, надстроенную на крыше бывшего гаража пожарных машин. Раньше это была комната отдыха пожарных. Там стояла небольшая кирпичная плита, которую мы часто топили. Очень крутая деревянная лестница выходила на улицу. Комната была просторная и довольно уютная, да и спокойнее там было по сравнению с бараком. И мы переехали туда вместе с тетей Лизой и ее дочкой Зиной.
Однажды ночью мы проснулись от оглушительных звуков духового оркестра. На улице было еще темно, едва начало рассветать. Вскочив, я какие-то опорки нашла на ноги. Мама, тетя Лиза, Зина, Ира и я высыпали по крутой лестнице на улицу, а там строй за строем шагают и поют солдаты, гремит духовой оркестр. Всюду слышны восторженные крики: «Победа! Победа!».
Разноцветные салюты в небо летят, кто-то стреляет в воздух из оружия. Повсюду раздаются торжествующие крики: «Ура!». Совершенно незнакомые люди радостно обнимаются, поздравляют друг друга с Победой.
По обочине дороги я помчалась за проходившим строем солдат. Куда шли солдаты, зачем бежала я за ними, не знаю. Просто захватило беспредельное чувство восторга от общего ликования вокруг. Добежала до моста через речку Кемь, там обочина закончилась, дальше бежать было некуда, и я вернулась домой.
Мама, тетя Лиза, Зина и Ира еще стояли на улице около нашего дома. Всем было радостно, казалось, что все невзгоды позади и прямо завтра начнется счастливая мирная жизнь. Это было 9 мая 1945-го Победного года.
Хутор
Спустя некоторое время маме предложили переехать жить в Суоярвский район. Но для поездки туда надо было сделать специальный пропуск, поэтому уехали мы не сразу. С нами отправились тетя Лиза и тетя Хельми, мы разыскали ее в Кеми. Тетя Хельми с сыном и швейной машиной осталась жить в городе Суоярви, а нас, маму, меня, Иру и тетю Лизу с Зиной увезли на бывший финский хутор, от которого было километра полтора до населенного пункта Кайпа и шесть километров до Суоярви.
Располагался хутор в живописном месте на горке на берегу озера Суоярви. Чуть дальше Кайпы проходила железная дорога. Когда финны ушли с хуторов, русские их скоро заняли. Те, кто приезжали первыми, говорили, что в некоторых домах еще были теплыми печи.
На нашем хуторе было шесть домов. Около каждого дома – палисадники для цветов. Из шести домов один – крестьянский, два карельской постройки с сеновалом и мостом из бревен, по которому можно было заезжать прямо на лошади, запряженной в телегу, и завозить возы с сеном на сеновал, дальше стояли два очень красивых хозяйских дома, а еще один – полуразрушенный.
Нас поселили в первый дом, он был похуже. Вокруг хутора стеной стоял лес, а посередине раскинулось обширное поле. Главным в подсобном хозяйстве назначили бригадира, его звали Миша, он до войны работал агрономом. Он приехал с семьей, с женой и маленьким ребенком.
В небольшом подсобном хозяйстве на хуторе начали трудиться всего человек десять: моя мама, тетя Лиза, ее дочка Зина, чета молодых белорусов, две женщины средних лет, старенький дедушка и бригадир Миша с женой. Вот и все работники. Это подсобное хозяйство вероятно для того и было организовано, чтобы эвакуированные люди сами могли прокормиться. Голод же был в стране сразу после войны. В районе располагался не один хутор, а много и на каждом из них организовали такое подсобное хозяйство.







