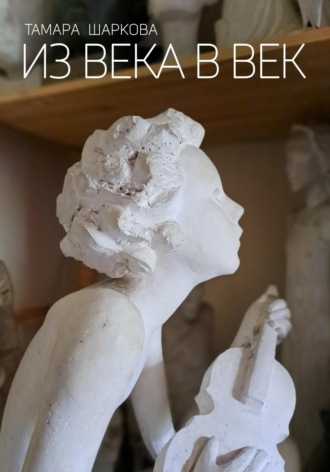
Тамара Шаркова
Из века в век
Илья в это время уже влез в галоши и стоял ко мне боком, собираясь выйти на улицу.
– Я, наверное, курить брошу. Вот в город переберемся – и брошу. Гадость эту, водку, я давно в рот не беру. И Димке все втолковываю, до чего она доводит. А он смеется. Ленька мой тоже смеялся… А у тебя есть приятель?
Я промолчал.
– Ладно, пойду я. А ты давай, "дави подушку", как наш сержант говорил. Если что не так – стучи в дверь. Батя сегодня на Виталькиной кровати лег, а я возле тебя за дверью пристроюсь.
Илья вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Стало почти тихо. Где-то вдалеке, точно засыпая, заворчал гром, но дождь еще продолжал без устали умывать и умывать маленькое оконце моей комнаты.
Читать больше я не стал. Выключил свет, лежал с открытыми глазами и первый раз за весь этот долгий месяц думал о Борьке. Вспомнил нашу первую встречу и засмеялся как дурачок. Я тогда первый раз пришел в детсад и за завтраком молоко нечаянно пролил. Девчонки завизжали, я жутко перепугался, а толстый мальчик Боб сказал басом:
– Цыц, бабы! – и нарочно опрокинул на стол свою кружку.
Я еще не знал тогда, что он так батю своего копирует, который и до сих пор цыкает на тетю Клаву и Надьку, когда выпьет лишнего.
И был на всю жизнь покорен такой его пацаньей солидарностью.
В наказание нас посадили вместе в пустой музыкальной комнате, на целый час. После этого, по словам Стояна, мы уже восьмой год живем как попугайчики-неразлучники.
Ссорились, конечно, дрались даже, но разбегались самое большее дня на два. Как только не обзывает нас Стоян: Бобчинский и Добчинский, Давид и Ионафан, Орест и Пилат, сыновья лейтенанта Шмидта, Винтик и Шпунтик – я уже не говорю о наших индивидуальных прозвищах. Честное слово, я-таки издам когда-нибудь толстый том и назову… "Доктор Дагмаров. Полное издание прозвищ".
Дальше я не успел додумать… уснул.
Проснулся я рано, от холода, потому что я и одеяло лежали сами по себе. Оно – на полу, я – на кровати, вжавшись в стенку.
На дворе было тихо. На небе – ни облачка, но лужи еще не высохли. И что совершенно потрясло меня – не спали, а нежно светились в лучах еще румяного ото сна солнца "ночные цветы".
Семена этих заморских цветов пол столетия назад привез из загранки какой-то моряк из местных. Раздал их многим, а вот прижились они только у бабы Кили.
Цветы эти – огромные снежно-белые граммофоны – распускались среди плотных глянцевых листьев, похожих на широкие наконечники туземных копий.
Внутри цветка вполне могла бы разместиться ладонь взрослого человека, даже папина.
Цветы распускались после захода солнца, в темноте, и огромные ночные бабочки, похожие на летучих мышей, устраивали вокруг них настоящие ритуальные танцы. К утру граммофоны увядали и свисали со стеблей грязно-белыми тряпочными мешочками.
Но сегодня все было не так!
Три чудных цветка, розовеющих от смущения и радости, что встретились с солнцем, красовались среди мокрых от дождя листьев.
"Целый день спят ночные цветы,
Но лишь солнце за рощу зайдет,
Раскрываются тихо листы,
И я слышу, как сердце цветет…"
Это папа когда-то читал стихи Фета, держа меня сонного на руках и освещая новорожденные цветы фонариком. Мой папа…, до встречи с которым стало на один день меньше.
Потом, до отъезда, много чего еще было: возвратились Виталик и Стоян, и в честь этого Сенчины устроили шашлыки из здоровущего осетра. Ночью, при свечах.
И в море я ходил на большой лодке, и на катамаране плавал, и на Маяк поднимался.
Но как-то ничто не смогло затмить восторг этого утра, сделавшего видимым тайную красоту ночных цветов.
Дядя Дима сказал, что это из-за дождя, но мне до сих пор случившееся кажется каким-то знамением, чудом, особенно для меня.
И я даже подумал тогда, что смогу сложить из умных слов какую-то важную для всех мысль. Но не получилось. Как у Кая со льдинками.
А хотелось мне сказать, что вот рос я рос, как в сказке, "десять лет и почти четыре года" и вдруг увидел, что мир – не плоская картинка в доброй детской книге. Там та-а-кое в глубине! И чуть с ума не сошел от страха. Барахтаться стал, как щенок, чтобы оставаться на поверхности.
А может не нужно барахтаться, может, пришла пора учиться нырять… с открытыми глазами? Как папа учил.
Ожидание короля
Немного повозившись с застрявшим в замке ключом, Стоян распахнул дверь. Из покинутой на месяц квартиры неприятно пахнуло чисто вымытым, но заброшенным и одряхлевшим существом.
Когда с нами был отец, он быстро пробегал по комнатам, открывая окна и балконные двери, спуская застоявшуюся в трубах воду, и привычный тонкий аромат, исходящий от отцовской одежды и разнесенный по Дому веселыми сквозняками, сразу же делал его привычным и родным.
Наверное, я сам бы мог сделать все так, как отец, чтобы Дом глотнул свежего воздуха. Но я не сделал этого. Я сознательно продлевал в себе до мучительной сладости несправедливое чувство обиды на отца за то, что он так надолго оставил меня без себя. Я готов был лишний раз обвинить его в том, что мне так плохо и одиноко на пороге собственного дома. И, не справившись с этим чувством, позорно пустился в бега, предоставив Стояну самому разбираться с бесчисленными ведрами, сумками и пакетами, которыми нас одарили дядя Вадим с Геней и щедрое семейство Сенчиных.
Крикнул с порога:
–Я к Борьке! – и умчался в соседний подъезд.
Была суббота. Боб учил сопливого Илюшку мыть пол на кухне.
Мы, как всегда, хлопнули друг друга поднятыми до уровня плеч правыми ладонями и уединились в «учебке», как Борькин отец называет крошечную девятиметровую комнату, где уже восьмой год мой кровный друг утверждает свой авторитет, а его кровный брат – свою независимость.
Вот и теперь, изображая восстание Спартака, Илья орал из кухни, что без Боба ничего делать не будет.
–Вот, зараза! – ругнулся Борька. – Он сейчас мультики смоется смотреть, а мне по полу с разбитой коленкой елозить! Мать ведь не с него, а с меня спросит.
Ну, мы по быстрому обменялись каждый своим "блокбастером" новостей. Но не прошло и получаса, как на пороге возник Илюшка с изрядно подросшими верхними зубами и радиотелефоном в руке.
–Это Стоян! Юрку!
Я взял из его грязных рук липкую трубку и назидательно изрек:
– Кому Стоян, а кому Стоян Борисович, понятно?
И в трубку:
–Стоян, это я…
–Дуй домой, бродяга! А то надолго поводок укорочу!
Поскольку ключа я не взял, пришлось звонить.
Стоян встретил меня в позе хирурга, вымывшего руки по методу Спаса-Кукоцкого. Но от этого самого метода осталась лишь заключительная поза.
Поднятые руки его были в какой-то коричневой дряни от кончиков пальцев до согнутых локтей.
Не сказав ни слова, Стоян крутанулся на пятках и помчался на кухню, куда с нарастающим интересом повлекся и я. Там на всех горизонтальных поверхностях стояли миски и кастрюли всевозможных размеров, заполненные странным месивом, похожим на поросячье варево.
Просто фильм ужасов!
Космическая плазма в безудержном размножении!
Меня всего так и передернуло!
–Стоян! Что это? Откуда?
–Щедрые дары из Меатиды! Леший бы их побрал!
–Послушай, – робко сказал. – Если это все так подавилось, может, мы все это того…выбросим?
–Сплюнь три раза через левое плечо! Это ж грех!
Черные глаза Стояна затравленно смотрели на меня. Ну, просто бычок, загнанный в угол на корриде. Он же вырос в Обиточном, где все, что родила земля, солили, мариновали, сушили, укладывали на зиму в песок или опилки – только бы не пропало, только бы землю не обидеть!
–Но ты же сам сказал…про лешего?
–Сказал…Сказал…Вот и аукнется мне, что сказал! А ты вот что, сбегай за сахаром. Мы повидло варить будем.
–А сколько?
–Чего сколько?
–Ну, сахара. Сколько покупать?
–Кто его знает! Я тут косточки начну вынимать, а ты сбегай пошуруй в справочниках. Ты же у нас специалист! Ну, давай, давай, энциклопедист задрипанный!
Я не стал уточнять, кто из нас «задрипанный» и покорно отправился в кабинет отца. Принес нужный том энциклопедии и между «повивальной бабкой» и «повиликой» нашел «повидло», о котором прочитал вслух:
–« Повидло (чешск. povidla ) протертые фрукты или ягоды, сваренные с сахаром, иногда патокой, медом… Содержат не более тридцати трех процентов воды, сахара не менее шестидесяти процентов…»
Я замолчал. Наступила тишина. Стоян замер над тазом с сине-зеленой мякотью из бывших слив, погрузив в нее руки почти до локтей.
–Ну, – наконец сказал он. – Так сколько же сахара, исходя из этой абракадабры, мы должны купить?
–Я откуда знаю! Ты же взялся варить повидло! Написано: «…сахара не меньше шестидесяти процентов ».
–От чего считать эти проценты, балбес?
–Не знаю… «Бывалый»!
–Ты бы еще по орфоэпическому словарю прочитал, умник! Иди, поищи об этой… «вкусной и полезной» или какой-то там еще пище.
Я демонстративно громко захлопнул дверь и опять поплелся в кабинет.
Притащил две поваренных книги. Стоян выбрал затрепанное кулинарное руководство, изданное в год рождения отца, и решил измерять уваренное пюре стаканами и, соответственно, добавлять сахар в нужном количестве.
–Стоян, – взмолился я. – Пока ты будешь вынимать косточки, варить и измерять это самое пюре – магазины закроются!
Он выпрямил спину и обреченно вздохнул:
–Ладно, отличник. Возьми у меня деньги из куртки и купи четыре килограмма. Все равно на больше не хватит.
Когда я вернулся, со сливами еще не было покончено, но Стоян сидел за столом, горестно подпирая руками голову. Перед ним стояла наша видавшая виды огромная выварка с мятыми грушами.
–Слушай! Что ты там талдычил о «смеси фруктов»?
Я нашел нужную страницу и прочитал:
–« Но более вкусное и приятное на вид получается из смеси указанных фруктов».
–Каких «указанных»?
Я повел глазами вверх.
–Яблок и слив.
–Так, заменим яблоки грушами. Кстати, Роман любит именно груши. Итак, садись. Будешь резать груши на дольки. Гниль – выбрасывай.
Тяжело вздохнув, я рухнул на табуретку рядом с ним.
Мы резали, сваливали все в кучу, доливали воду, варили, цедили, измеряли это ужасное месиво стаканами. Несколько раз я пытался увильнуть от работы. Телек хоть и неважно, но принимал сигнал после пожара на Башне, и «Морскую полицию» по шестому смотреть можно было. Так нет! Стоян каждый раз удерживал меня на кухне железной рукой. Ну, просто «Мишкина каша» у нас получалась какая-то. И, главное, у доктора Дагмарова начисто исчезло чувство юмора.
–Стоян! Ну, давай из остального компот сварим.
–Ну, сварим пару ведер компота !
–Да Светлана Ивановна сама бы эту слякоть выбросила и еще посмеялась бы над нами.
–Работай давай, Спиноза!
–Ну, почему раньше такого не было? При тете Элле?
–Потому что разумная женщина не один раз приезжала к нам из Меатиды и знала, что невозможное невозможно.
–А ты?!! Ты что, первый раз с юга возвращался?!!
–Я сказку про жадного попа плохо усвоил. Так что учись на моем опыте, осваивай классику! Пригодится в жизни. Мы что раньше везли? Абрикосы сушеные, твердые груши… Да и дорога была легче. На таможнях не простаивали и в самую дневную жару по степи не раскатывали.
На обед мы прервались только после того, как я, в совершеннейшем раже, искрошил в очередную кастрюлю вместо груш пол десятка помидоров.
Стоян гонялся за мной по всей квартире, размахивая, как плеткой, мокрым полотенцем, и, не поймав, отправился вылавливать пасленовые собственноручно в буквальном смысле этого слова.
Впрочем, событие это его немного отрезвило. И он, вероятно, вспомнил, что даже самые свирепые сатрапы не только изнуряли рабов тяжким трудом, но и поддерживали их бренную плоть какой – никакой пищей. Потому мой изверг вытащил из заветного пакета, который вручил нам лично от себя Василий Иванович, несколько жирных вяленых селявок, и мы принялись смаковать их нежные спинки, закусывая несчастным помидорами, которые только-только испытали радость спасения из недр сливового пюре. Ну и пили же мы потом! Мне казалось, что лично я перекачал в себя половину городского водопровода. При резких движениях вода булькала во мне, как в бочонке.
Часам к девяти во всех кастрюлях схватывалось корочкой уваренное фруктовое месиво непрезентабельного цвета. Им же были облеплены наши джинсы, рубахи и даже волосы.
Стоян еще держался на ногах, расставленных, как у прикованного к столбам Самсона. А я так просто опустился на пол и демонстративно принял позу скорчившегося от истощения невольника, втайне мечтая пробудить в докторе Дагмарове чувство жалости и сострадания. Но, как всегда, реакция Стояна оказалась непредсказуемой:
–Эй, ты, – сказал он, – прекрати исполнять танец умирающего гадкого цыпленка и отправляйся под душ. Потому что я собираюсь обосноваться в ванне надолго.
Меня тут же, как ветром сдуло, потому что ждать до полуночи, пока Стоян будет отмокать в ванне, мне отнюдь не светило.
После душа меня здорово разморило. Сказалась усталость после почти двухдневной поездки в вагоне типа «духовка» и всей этой возни с помятыми дарами Меатиды. Так что до своего Логова я добирался с остановкой в гостиной – просто ноги не держали. И это при том, что ладонь доктора Дагмарова придала мне в начале пути довольно ощутимое ускорение в нужном направлении. Рухнув в кресло у телика, я на минутку закрыл глаза и тут же задремал. Длинный телефонный звонок привел меня в чувство.
–Да-а!
–Алло! Алло! Юра, это ты?
–Юра – это я, – совершенно обалдев спросонок, ответил я.
–Здравствуй, сынок! Ты что, не узнал меня? Ты один дома? А где Стоян?
–Стоян…он был в варенье…нет – в повидле, то есть он в ванне.
–О чем ты?
–Я не могу сказать. Стоян говорит – это тебе сюрприз… У нас только банок не было, но Стоян из клиники принесет…у них есть …для анализов.
–Юра! (громко) Я не очень хорошо тебя понимаю. Ты уже спал, наверное. Соберись. Я буду задавать вопросы, а ты отвечай коротко.
Вы благополучно доехали?
–Да. Только подавилось все.
–Я не расслышал. Вы здоровы?
–Да.
–В Меатиде все хорошо?
–Да.
–Стоян дома или на работе?
–Нет! То есть – ДА! Ну, я же сказал тебе, он в ванне, приходит в себя.
–Приходит в себя в ванне?!
Пауза.
–Юра! Слушай меня внимательно. Сейчас же ложись спать, сию же минуту.
Я позвоню завтра утром. Спокойной ночи!
–Па! – заорал я, очнувшись и сообразив, что происходит какое-то недоразумение. Похоже, папа решил, что мы основательно приложились к молодому дяди Вадиному вину.
–Папа! Папа! Мы в порядке, мы просто устали и выпили много
воо… (тут я неожиданно икнул – я часто икаю, когда волнуюсь)
–Хорошо, хорошо…поговорим завтра.
–Папа, папа, приезжай скорей! Папа, не клади трубку! Папа, ну папа же!
Из трубки, крепко зажатой в моей руке, уже раздавались короткие гудки, а я все еще продолжал кричать.
Тут на пороге гостиной показался Стоян, обернутый в бедрах полотенцем.
–Ну и дела! – сказал он, разжимая по очереди мои пальцы и высвобождая трубку. – Башня и погорела всего ничего, а сколько осложнений! «Орфей» мой безнадежно потерялся в эфире, зато к нашему телефону подключили пожарную сирену!
Сказав это, Стоян повернулся и пошлепал обратно в ванную, оставляя на полу мокрые следы босых ног. Носками внутрь.
Я ожидал приезда отца к концу сентября. И, независимо от сознания, внутри меня все время велся счет оставшимся до встречи дням. И все было подчинено этому счету.
В последнюю неделю я просто не мог усидеть на месте, хоть сколько-нибудь долго сосредоточиться на любом занятии.
Даже у ящика мне не сиделось, когда показывали Олимпийские игры из Австралии. Я вскакивал каждые пять минут, то для того, чтобы то напиться воды, то поставить чайник на огонь и потом бегать проверять, не закипел ли он. Наконец, я срывался с места и мчался к себе в Логово, чтобы предаться обезьяним утехам на шведской стенке.
И вдруг…
Отец позвонил в пятницу двадцать девятого , около полуночи, когда по НТВ показывали парусные гонки. Сначала он долго говорил со Стояном, потом к трубке был допущен я. Моя уверенность, что это просто формальный звонок с сообщением о номере поезда и прочем была так велика, что я не обратил внимания ни на тон, каким Стойко говорил с отцом, ни на выражение его лица. Потому слова:
–Здравствуй, сынок! Ну, ты уже догадался, наверное, что мой приезд немного откладывается… – вызвал у меня шок.
Я сунул трубку Стояну и укрылся у себя в комнате.
Если он так! Если он вообще про меня забыл, то и пусть читает питерцам свои лекции хоть до скончания…века… Подумал и решил, что это выражение за три месяца до миллениума приказало долго жить. Тут заявился доктор Дагмаров и стал нести какую-то ахинею, чтобы оправдать отца, но я просто заткнул уши. Стоян покрутил пальцем у виска и вышел. Тогда я демонстративно врубил ДеЦла на всю катушку. Я его для Виталика переписал и собирался переслать в Меатиду.
Поскольку шел первый час ночи, Стойко возвратился и выключил маг.
Я включил.
Стоян вынул кассету и сунул ее себе в карман.
Я нагло захохотал и врубил «Вопли Видоплясова» – подарок тому же Витальке.
Стоян утащил магнитофон вместе с удлинителем, который зловеще извиваясь поволокся за ним, как змея.
Я швырнул в Стояна теннисным мячом, который, не попав в цель, отскочил от дверного косяка и стукнул меня в лоб.
Это меня доконало, и я завалился в постель.
На следующей неделе я еле ноги таскал, как будто меня укусила муха цеце. К тому же на меня посыпалось тридцать три несчастья.
На труде я загнал себе щепку под ноготь и у меня образовался панариций. С одной стороны, это, безусловно, давало мне некоторые преимущества в школе. Если я по каким-то там признакам и считался скрытым левшой, то все равно писать левой рукой не мог. Но, с другой стороны, моя учительница музыки была от этого в диком восторге. Она, оказывается, давно мечтала предложить кому-нибудь «дивный этюд для левой руки». В нем при помощи педали создавался эффект одновременного звучания мелодии в верхнем и нижнем регистрах.
Стоян, к моему удивлению, не орал на меня, как обычно, но зато подвергал иезуитским пыткам, силой удерживая распухший средний палец в соленом кипятке.
Вообще, отношения наши несколько изменились. Я стал ужасно обидчивым и на всякие его дразнилки не огрызался, а молча укрывался в Логове.
К вечеру четверга опухоль на пальце стала спадать, но стали странно чесаться и болеть веки. Я посмотрел на себя в зеркало, но ничего необычного не увидел. Глаза как глаза. Только вроде меньше немного стали. С тем и лег спать. А утром не смог разлепить ресницы. Потащился к Стояну, который мечтал отоспаться на отцовском диване после суточного дежурства и потому сам еле-еле открыл глаза.
–Ну, что тебе?
Приподнялся на руках, всмотрелся в меня, скаламбурил мрачно:
–Паршивеет на глазах!
В школу не пустил, заставил промыть глаза чаем. Потом помчался в аптеку, принес альбуцид и еще какие-то капли. Я скользнул по этикетке взглядом, прочитал про уши и завопил, что они у меня не болят и закапывать этой дрянью глаза я не буду!
–Уши у него не болят! – возмутился Стоян. – Так может надрать? Ты что, читать разучился? «Для лечения отитов и конъ-юк-ти-витов»!
Отец звонил через день. Стоян ничего не говорил ему о моих болячках, а сам возился со мной как с тяжелобольным. Запретил пить чай, и вместо него заваривал в термосе те самые ягоды шиповника, которые я с риском для рук и брюк собирал в Меатиде за будкой Рекса.
Я принципиально к телефону не подходил и все бегал смотреться в зеркало, убеждаясь с отвращением, что глаза остаются противно опухшими с красными веками.
Вечером в субботу позвонила кузина Марго из Киева. Стояна не было, мы долго болтали и никто не орал мне в ухо: «пенендзы, пенендзы»!
Маргоша собиралась к нам на зимние каникулы. Я думал это на Новый Год, но потом сообразил, что у студентов каникулы позже, чем у нас. Я так разошелся без цензора, что ляпнул ей про глаза. Она помолчала немного, а потом сказала:
–А ты пойди в церковь, возьми святой воды и умывайся. Ты же крещеный.
В церковь я ходил, но только с отцом и в те дни, когда поминали маму.
При этом я как-то не очень вникал в то, что там происходило. Просто стоял рядом с отцом, когда он подавал за оградку женщине в темном платке узкие бумажки с нарисованным крестом вверху и надписью «О здравии» и «О упокоении». В последнем случае мне казалось, что нужно писать не «О», а «Об», но я стеснялся сделать папе замечание. После этого мы покупали свечи и шли с ними к распятию. Одну свечку папа давал мне и говорил:
–Поставь маме сам.
В церкви всегда было много людей. Иногда рядом с распятием отпевали умерших, чего я ужасно боялся. Папа долго стоял молча, наклонив голову. Иногда мы немного задерживались, слушали хор, а потом шли к выходу.
Я читал детскую Библию, знал, что есть несколько Евангелий, но осилил только одно от Марка. Однако все это было как бы отдельно от церкви.
Марго позвонила около семи, через полчаса раздался «контрольный» звонок Стояна, а в восемь, поддавшись какому-то внезапному порыву, я влез в ботинки, натянул куртку и отправился за святой водой.
По дороге я сообразил, что ее ведь куда-то наливают, но возвращаться домой не стал, потому что ноги несли меня только в одном направлении.
Уже подойдя к высокому церковному крыльцу, я понял: что-то не так. Потому что во дворе не было нищих, а в церковных окнах – ярких огней.
Я постоял немного перед тяжелой кованой дверью, а потом решился и изо всех сил потянул на себя длинную ручку.
Створка поддалась, я переступил порог и очутился в полутьме. Как я догадался, общий свет был выключен, горели только лампадки над иконами, да и то не везде. Я замер на пороге и вскоре услышал чьи-то негромкие голоса и шаги. Где-то вдалеке, у главного алтаря.
Внезапно из-за выступа стены, отгораживающего ту часть церкви, где продавали свечи и принимали записки, появилась высокая сутулая старуха в черном платке с небольшой лестницей в руках. Меня она заметила только взобравшись на нее возле большой иконы, чтобы потушить лампаду.
–Это еще что такое! Ты бы еще заполночь пришел!
Я вконец растерялся.
–Шапку-то, шапку-то хоть сыми, бусурман!
Я быстро стянул шапку и вознамерился позорно сбежать, как вдруг незаметно для меня рядом с лестницей, на которой стояла сердитая старуха, оказался маленький сгорбленный священник с совершенно седой головой и бородой.
–Ой, не греши, не греши Мария. Чай, мальчонка не к тебе непрошеным гостем пришел, а в Храм Господень явился.
Старуха спустилась на одну ступеньку, перекрестилась, неловко поклонившись батюшке, и ответила, как мне показалось, противным елейным голосом.
–Простите, отец Николай, бес попутал.
–Господь простит, – ласково ответил батюшка и ко мне:
–А ты, что ж, детушка, первый раз в Храме-то?
–Нет. Но я с папой раньше приходил.
Старичок обнял меня за плечи – такой уютный, теплый, тихий изнутри – и повел внутрь церкви.
–Мы свечи ставили, – неожиданно для себя сказал я, как бы отвечая на вопрос, хотя отец Николай молчал.
–В дни памяти…маминой. Ну, в день ее рождения и когда ее не стало.
Священник остановился, развернул меня к себе.
–Давно поминаете?
–Я совсем ее не помню.
Помолчали.
–Ты, милый, постой тут, подожди.
Он направился к старухе, которая уже слазила с лестницы, и что-то сказал ей. Та кивнула головой и куда-то ушла.
Я огляделся.
Распятие, возле которого мы с папой ставили свечи, было справа от меня, и лампадка над ним еще горела.
Возвратился отец Николай, принес две больших свечи. Одна была зажжена.
–Поставь матери. Тебя как зовут?
–Юра…Юрий.
–Вот, поставь на канон, Юра. Это ты мать не помнишь, а она тебя не забыла. Ты постой, погрусти о ней, а потом подойдешь к Иверской иконе Божьей Матери. Знаешь куда?
Я кивнул.
–Там меня и найдешь.
Сперва я просто стоял и смотрел на свечу, которая горела, слегка потрескивая, боясь уткнуться взглядом в пугающее меня изображение черепа и скрещенных костей у основания Распятия.
Потом поднял голову. Темнота скрадывала высоту Храма, но, несмотря на это, именно теперь я ощутил беспредельность его сводов. И чувство абсолютного одиночества опять посетило меня.
Что-то подобное я уже испытал в августе, когда вышел ночью под звездное небо Меатиды. До этого я видел его сотню раз, это черное небо с огромными звездными маяками. Но в ту ночь я как бы впервые остался с ним один на один и был испуган его бездонным космическим равнодушием.
Помню, как искал спасения в низенькой пристройке к рыбацкой хате, зажег там свет и радовался тесноте грубо беленой известью комнатки, укрывающей меня от моих собственных страхов.
И все-таки это было совсем иное одиночество. На этот раз Бесконечность не испугала меня. Напротив, откуда-то из ее глубин изливалось на меня тепло и утешение. Мне даже почудилось, что я вспомнил что-то о маме. Ну, не событие, а запах какой-то ощутил: особенный, родной, который раньше не вспоминался. Может, действительно мама моя была где-то рядом…невидимая глазами…
В этот момент рядом гулко прозвучали в Храмовой тишине чьи-то шаги. Я вздрогнул, огляделся и увидел обыкновенного пожилого охранника в пятнистой куртке, спешившего со связкой ключей к главному входу.
Свеча, по-прежнему, горела, тихо потрескивая и слегка колеблясь своим золотым огненным куполом, но ощущение маминого присутствия исчезло.
Я вздохнул и направился к Иверской иконе, возле которой стоял отец Николай и о чем-то очень тихо говорил с высоким молодым человеком в темной длиннополой одежде. Увидев меня, батюшка что-то сказал собеседнику, тот поклонился и приложился губами к руке старика, который перекрестил его коротко остриженную голову. Потом отец Николай сделал мне знак подойти поближе. Опять обнял меня за плечи и подвел к совершенно темной от времени большой иконе. Она стояла в отдельном резном киоте. Возле нее догорало много свечей. Освещенный ими серебряный оклад источал мягкое мерцающее сияние.
Я взял свечу из рук отца Николая и вопросительно взглянул на него.
–Ступай, поставь свечу Заступнице нашей перед Господом. Она всех сирот пригревает, а материнским Душам утешение дает.
Парень, который отошел от батюшки, опустился в это время на колени перед Иконой и поклонился ей до земли. Потом встал, поднялся к ней по ступенькам и приложился к ногам Младенца и рукам Богоматери губами и лбом.
–Вдвоем с отцом, Юра, живете или мачеха есть? – спросил отец Николай.
Я ужасно покраснел.
–Папа один… то есть мы вдвоем с папой живем.
–Ну, и хорошо, ну, и ладно… Так ты поставь свечу и приложись к Иконе, приласкайся.
Я подошел к огромному начищенному до блеска напольному подсвечнику, зажег и поставил свечу, а потом на ватных ногах поднялся по ступенькам и ужасно неловко ткнулся лицом в стекло. Не губами, а как-то носом, потому что не смог рассчитать расстояние. Испугавшись, что сделал все не так, как надо, я поднял голову и вдруг…из темноты глянул на меня один печальный живой глаз, наружный угол которого был скорбно оттянут тяжелой слезой.
Я разволновался, неловко шагнул назад, оступился и упал бы, наверное, не поддержи меня маленький священник.
–Ну, идем, идем, посидим на скамеечке. Удостоила, стало быть, Заступница.
Мы сели на одну из коротких широких скамеечек в приделе Петра и Павла. Отец Николай откинулся на спинку скамьи, глаза прикрыл и как будто задремал. У меня же сердце колотилось о ребра с такой силой, что стук этот, думал я, по всему Храму слышен был.
–Не успокоишься никак? Это ничего. Ты о Божьей Матери разумом знал, а теперь вот душой встретился.
Сказав это, отец Николай с осторожностью очень старого человека поднялся со скамьи.
–Пойдем, милый. Не будем Марию в грех вводить. И то, домой ей пора. А бутылочка для святой воды у тебя есть?
–Н-н-нет! – растерянно ответил я, не понимая, как он угадал, почему я пришел в церковь.
–Ну, ничего, попросим Марию. Она какой-никакой сосуд нам найдет. Дома Богородичную молитву и Отче наш прочти по три раза, умойся святой водой и ложись спать. Господь все управит…
Дома я отыскал свою Детскую Библию, а в ней маленькую книжечку «Молитвы для мальчиков» – давний подарок Марго.
Перед утром мне приснилась Меатида. Я лежал на песке, а рядом сидел отец. Мне было жарко, и солнце слепило даже через закрытые веки. Хотел сказать:
–Па, переставь зонт!
Но не мог. Язык меня не слушался. Тогда, делая над собой невероятное усилие, я открыл глаза и…проснулся.
На краю кровати у меня в ногах сидел папа. На нем был незнакомый серый свитер, похожий на кольчугу, а лицо выглядело осунувшимся и усталым, каким обычно становилось после дорожной бессонницы. Упираясь рукой об одеяло у самой стены, он наклонился и смотрел на меня, и уголки его четко очерченного твердого рта подрагивали в улыбке.
В комнате было темно. Светился только дверной проем.
Какая-то вязкая сонливость сковала меня по рукам и ногам. Единственное, что я смог сделать – дотянуться пальцами до его прохладной руки. И тут меня вновь поглотил сон.
Проснувшись во второй раз, уже окончательно, я довольно долго лежал, соображая, действительно ли папа приехал или это был сон.
Прислушался.
Вот кто-то хлопнул дверью в ванной. Ну, это мог быть и Стоян, если не задержался в больнице.
Возня в кухне…Смех…дуэтом!
Я быстро сел на кровати.
Шаги в гостиной … и голос…папин!!
–Что ты чашку как краба пятерней сверху хватаешь! Кипяток же! Дай сюда!
После этого кто-то наткнулся на кресло и на него же плюхнулся.
–Послушай, ну как это ты? Ведь вчера в восемь…
–Господи, да что же это с вами?! Смотрите на меня, как на призрак Отца Гамлета! Может, мне возвратиться в Питер?
–Но ты же сам меня уверял…
–Уверял! А потом вдруг встал, схватил кейс и на вокзал.
–Тебе что, может Голос был, как Иеремии?
–Может и Голос. Ну, вот представь: сижу, пишу конспект лекции и вдруг чувствую, что должен ехать. Вот и объясняй, как хочешь.
–А вещи?
–Да пришлют вещи, нужно только позвонить, предупредить, а то ведь в розыск подадут. И вообще, почему это вещи мои тебя интересуют, а Стоянчик?
Там, между прочим, целый ящик книг. Так что придется вам с Юркой попыхтеть. Или ты только на подарки рассчитывал?
–А почему бы нет?
–Потерпите!
–Эх ты! А мы тебе сюрприз готовили, повидло варили…
–Знаю, слышал. И в банки для анализов раскладывали.
–Ну, Юрка! Раскололся, паршивец!
–Ладно. Не стенай! Сейчас получишь Питерскую шоколадку в виде аванса.
Тут я окончательно пришел в себя и рванул к ним.
Первым, кого я увидел, был Стоян, развалившийся в кресле у окна. Отец полулежал на диване. У обоих в руках были чашки, исходившие ароматом молотых кофейных зерен.
–Па! – выпалил я с порога. – Ты весь приехал?
–Весь! Весь! – засмеялся отец и потянулся к столу, чтобы поставить на него чашку.
А Стоян сидел, наклонив голову, и помешивал себе ложечкой сахар в кофе.
Ни тебе восклицаний вроде « явление босяка народу», ни ядовитых ухмылочек.
Дней через десять я встретил на лестничной площадке нашу соседку, которая работает на почте.





