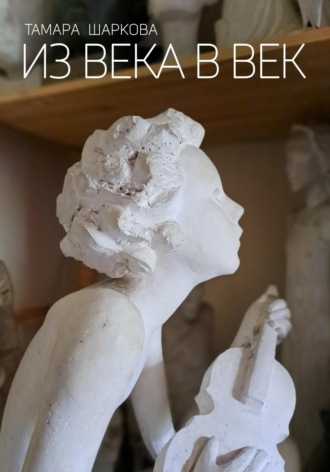
Тамара Шаркова
Из века в век
А она мне написала:
– Здравствуй “раз и навсегда!”
Над столом – две книжные полки. На нижней царит Наполеон и Цветаева. На верхней – только томики любимых поэтов Серебряного века и несколько тоненьких поэм Лины Костенко. Они раскинуты двумя крыльями, а между ними – деревянный складень: “Спас нерукотворный” и “Владимирская икона Божьей матери”.
Против дивана – секретер, сделанный по чертежам моего двоюродного деда. Когда полка-стол поднимается, получается просто закрытый шкаф, а ножка образует рамку с “Танцовщицами” Дега.
Итак, я сижу на застеленном пледом диванчике и пытаюсь осмыслить то, что произошло.
Из спальни никаких звуков. Потом крутится телефонный диск. Несколько раз. Но разговоры коротки и, как видно, проблему не решают.
Время тянется медленно, и я, не замечаю, как засыпаю. Будит меня отец:
– Я думал ты зачитался. Идем ужинать.
Ужинал я. Отец пил чай. Потом сказал:
– Возможно, нам придется возвратиться домой.
Я подумал, “а куда же еще”, но смолчал.
Взял свою тарелку и пошел к мойке.
– Послезавтра, – добавил отец.
Я не раскрывал рта. Зоопарк, Новый Ботсад, Канев, Устье Десны… Ничего этого не будет. Вот был бы с нами Стоян, такого бы не случилось.
Вечером мы с отцом смотрели по телику “Трех мушкетеров”, в котором Арамиса играл Ричард Чемберлен. Отец сидел в кресле, а я у его ног, опираясь спиной на отцовские колени. Вообще-то тот тронутый таможенник в чем-то был прав. Но попробуй узнать в этом французском ловеласе отца, если характером он вылитый граф де ля Фер.
Сеанс был ночной, и глаза мои слипались сами собой. Но лень было подняться и идти спать. Хотелось, как той лисе из сказки, притвориться меховым воротником, чтобы отец, как бывало раньше, сам отнес меня в постель.
Но не тут-то было!
Я уже упоминал, что руки отца умеют говорить очень выразительно.
Я прочитал в каком-то журнале у Стояна, что известно более пяти тысяч языков, включая мазатекский язык свиста. Мальчики-индейцы этого племени начинают свистеть раньше, чем говорить. Так вот, отец утверждает, что его слова не всегда доходят до моего сознания, а руку на плечо положит – и мне все ясно!
Сложный такой язык прикосновений. Но в тот вечер отец совершенно бесчувственно тряхнул меня и сказал:
– Иди в постель и не засни на ходу!
Откровенно говоря, эта его бесчувственность так меня разозлила, что сонливость как рукой сняло.
Я плюхнулся на диван, прямо разжигая в себе обиду на отца. Почему из-за каких-то денег мы должны уезжать из Города? И тут же с не меньшим раздражением стал думать о Стояне. Плавает в Карелии на своем “Таймене-Каймане” и, наверное, забыл о нас.
Потом я вспомнил, как Стоян шел по перрону, не оглядываясь и тяжко отрывая ноги от асфальта. Будто водолаз, идущий по земле в стальных башмаках. И мне стало стыдно!
Господи, почему я такой бессердечный? Почему ни разу до сегодняшнего дня я не вспоминал о Стояне. Вдруг он там перевернулся на своей байдарке или что-то там еще случилось? А я вот даже сейчас просто думал об этом, а ничего такого не чувствовал. Вот когда неожиданно увидал, как отец обнимает незнакомую женщину, тогда вообще ничего не думал, только чувствовал… до потери разума.
Я встал и подошел к столику Марго. Там к стене под полками она прикрепляла скотчем записочки такие маленькие, с какими-нибудь стихами, изречениями. В прошлом году это был очень красивый псалом царя Давида: “Господь – Пастырь мой…”.
Теперь там тоже был листочек. Я все эти дни скользил по нему взглядом, скользил, а так и не вчитался толком. Все некогда было. Из постели на рыбалку, с рыбалки – в постель. А теперь меня просто тянуло к нему.
“Это очень лично, но надо к этому стремиться: научиться любить хоть одного человека с забвением себя…” – было написано рукой Марго. – Антоний Сурожский.
Открывшееся мне знание о себе было пугающе и не приятным. Я не умел любить даже самих близких.
Я любил их только тогда, когда они делали мне что-то нужное или приятное.
Любил бы я Марго, если бы она не присылала мне свои стихи, тем самым возвышая меня в моих же собственных глазах?
Любил бы я отца, если бы он каждое лето отправлял меня в какой-нибудь лагерь, а не возился со мной весь свой отпуск. Вот отдыхал бы он где-то с красивой женщиной Ирэной – любил бы я его?
И, наконец, любил бы я Стояна, если бы он не то, чтобы на байдарке без меня куда-то там отправился, а взял бы женился и переехал в другой город?
Я с большим трудом задал себе эти вопросы, даже не пытаясь на них ответить.
Вместо этого, не влезая в тапочки, я поплелся в кухню пить воду. Часы в гостиной пробили два раза. Через полуоткрытую дверь ее было видно, что в спальне горит свет.
Чтобы не греметь посудой, я присосался к крану, вопреки суровым после чернобыльским запретам. Вернувшись в светелку, я залез в постель и натянул на голову простыню. Хотя мне самому непонятно было, от чего я хотел отгородиться. Ведь все пугающее меня находилось во мне самом!
– Господи, – искренно шептал, как мне казалось, неискренне, театрально, с какими-то вымученными слезами, – Научи меня любить… самых близких…
Потом мне стало душно. Я вылез из своего кокона и долго крутился на влажных простынях.
Когда я открыл глаза, на будильнике было шесть часов пятнадцать минут, и кто-то отчаянно трезвонил в парадную дверь. Я соскочил с дивана и бросился в прихожую.
– Спроси кто! – крикнул из спальни отец.
Но я уже крутил все замки двумя руками. На пороге, набычившись и держа руки в карманах, стоял доктор Дагмаров.
Я бросился ему на шею, оцарапав лицо жесткой щетиной отпущенных им усов и бороды. С таким “ярмом” Стоян и переступил порог, за которым нас уже ждал совершенно одетый отец. Разве что рубашка его была застегнута не на все пуговицы.
– Да сними ты с меня этого клеща! – взмолился Стоян, пытаясь разжать мои пальцы.
Но отец не стал отрывать меня от Стояна, а просто заключил нас в объятия длинными своими руками.
Сбросив с плеча сумку у порога, Стоян решительно объявил о своей программе:
– Мыться, есть и спать! Летел в кабине пилотов во-от в таком положении (показал согнутый крючком указательный палец), весь рейс травил байки. До этого двое суток не спал, а в самолете пил только кофе.
Пока Стоян блаженствовал в огромной старинной ванне на чугунных львиных лапах, я судорожно соображал, чем его кормить. В холодильнике лежали последние два яйца, кусок сыра, и я решил сделать свою коронную “королевскую глазунью”.
Посыпал желтки тертым сыром и зеленым луком. Получилось экзотическое блюдо.
Отец в кухню не заходил. Стоян заявился к столу с мокрыми курчавыми волосами. И тут я впервые заметил, что борода его кое-где как бы испачкана мелом. Я даже не сразу сообразил, что это… седина.
Седина у Стояна?
Вооружившись вилкой, Стоян плотоядно склонился над тарелкой:
– Что, лопоухий, жаба давила? Слабо было еще два яйца разбить?
Я отвел глаза. Отец, появившийся было в дверях, круто развернулся и вышел.
– Та-а-ак! – протянул Стоян, – Потом разберемся.
Запив кефир сладким-пресладким чаем, он заглянул в холодильник, присвистнул и отправился разыскивать отца.
– Как я догадываюсь – семейный дефолт?
– Пока нет, но, понимаешь…неразумная доверительность… гм …в денежных отношениях.
– Так. Туземные знаки остались?
– Мелочь какая-то.
– А капуста?
– Капуста? Зачем тебе капуста?
– Рома! Вспомни “лимон”.
– А-а-а! На три билета, Юрке – без места. Но ведь это … “зеленые”?
– Синонимы. Богатый и могучий современный язык. Ладно. Как там говорила эта, которую уносил ветер? Хорошие мысли приходят после хо-о-рошего сна. Ты в спальне устроился?
– Да.
– Я прикорну рядышком. Батарейки подсели. Что бы ни было – меня не будите и не делайте лишних телодвижений. Все.
Убирая свою постель, я вспомнил историю с “лимоном” и прыснул. Но тут же оглянулся на дверь, за которой укрылся в кабинете отец.
Что позволено Стояну, как говорится, не позволено никому.
А дело было так. Когда я был маленьким, к отцу зашел в гости школьный приятель и пожаловался, что не может достать для своего предприятия какие-то детали на другом заводе, потому что к директору без “лимона” не подберешься. И наивный отец принес ему из холодильника несколько слегка подсохших плодов. Что тут было с нашим гостем и Стояном!
Стоян проснулся в полдень. Принял душ и уединился с отцом. Меня выставили на кухню. Слов разобрать я не мог, но понял, что отец железно стоит на своем: уезжать!
А Стоян злится и не соглашается. Никогда еще я не слышал в его голосе такого отчаянного призыва пойти ему навстречу. Наконец, отца вообще не стало слышно, и говорил только Стоян.
Потом замолчали оба.
Вскоре кто-то, очевидно Стоян, открыл дверь. Отец сказал вдогонку примирительно:
– Ей Богу, Стоян, это же разумно! Оставайся! Уговори Юрку, а деньги я вам передам. Живите здесь, сколько хотите!
– Ты так ничего и не понял! Я не хочу, чтобы мы расставались и не могу вернуться.
– Но объяснить почему – можешь?
Молчание.
– Знаешь, Стойко, мне иногда кажется, что у меня не один ребенок, а два. И с каким труднее – не знаю.
Опять пауза.
– Ты вспомни, как Юрка требовал, чтобы ты пошел на рынок за деньгами и купил ему велосипед. Что ты ему ответил семь лет назад? “Деньги на рынках только цыганам даром достаются”. А сейчас ты пытаешься уверить меня, что достанешь 100 долларов в чужом городе за пару дней, как будто они здесь под ногами валяются.
Отец отвлекся и не заметил того, что увидел я: Стояна реплика о рынке, как громом поразила. Он тряхнул чернокудрой своей головой и хитро так протянул:
– Цы-ы-гане, значит, на рынке деньги даром получают.
Ну, что ж, мы “люди не здешние”, не гордые, сойдем и за цыган.
Отец с недоумением воззрился на него, но заметил весьма добродушно:
– Особенно в твоем костюме от Версаче.
– Ну, если, дорогой профессор, "главное, чтобы костюмчик сидел”, – переоденемся! Юрка, где Митины брюки, в которых он на рыбалку ездит?
И, не дожидаясь моей реакции, сам полез на антресоли и достал пакет, из которого, кроме брюк непотребного вида, выпали красная футболка Марго и бейсбольная кепка, которую дядя Митя не раз использовал как подсак. Стоян с ходу напялил на меня два последних предмета, при этом в горловину футболки вылезло мое голое плеча.
– Это что? – срывающимся голосом сказал отец. – Сейчас же сними эту дрянь. Здесь вам не театр “Ромэн”.
– Отчего же! Парень – настоящий Калдерари, цены не будет на рынке такому спутнику!
Разъяренный отец сорвал с меня футболку, и она вместе с кепкой полетела на пол. Сам же профессор Мещерский удалился на балкон, где уселся под сенью вынесенного из комнаты лимонного дерева. Чтобы схваченное по дороге первое попавшееся под руку печатное издание удерживалось на коленях, отец поставил ноги на небольшую скамеечку.
В старом кресле с резной спинкой, похожем на трон, в странной позе с поднятыми коленями да еще рядом с китайскими деревянными шторами, закрывающими окна спальни, он был похож на сурового правителя царства Цинь.
Стоян в это время задумчиво водил утюгом по злополучным брюкам.
Наконец отец не выдержал, явился в кухню.
Увидев его, Стоян плутовски снял брюки со стола и прикинул к себе:
– Сойдет для цыгана?
– Вот что! Прекрати дразнить меня этим маскарадом. А ты, Юра, – сбегай за хлебом и кефиром. Эти… гривни… в тумбочке.
Отец ушел, а Стоян швырнул брюки на пол и сказал мне:
– Убери с глаз долой!
Пока я заталкивал весь этот реквизит обратно на антресоли, он написал что-то на клочке бумаги, оставил ее на кухонном столе, схватил одной рукой нашу необъятную хозяйственную сумку, а другой вытолкнул меня на лестницу черного хода.
До метро мы бежали, выкладываясь, как на стометровке.
Я спросил:
– Стоян, ну, зачем ты сердишь отца? Что ты написал в записке, и куда мы спешим?
– Пытаем счастья, сынок! Пытаем счастья! Остальное узнаешь потом, а то рано состаришься.
Длинные эскалаторы, сменяя друг друга, увозили нас прямо в ледниковые глубины.
Стоян стоял ступенькой выше.
Вдруг он обнял меня и, склонившись к правому уху, прошептал:
– Я не могу возвратиться, Рыжий, и остаться один без вас тоже не могу. Ты уж меня прости!
Мы сошли на левобережном рынке и сразу же направились к овощным рядам. Там Стоян прислонил меня к ограде.
– Жди!
А сам быстро пошел вдоль прилавков, перебрасываясь с продавцами коротким фразами. Наконец, остановился, уперся руками в прилавок и даже влез под козырек.
Торговка семечками, которая сидела рядом со мной, раскорячившись на низенькой скамейке, как и я не спускала глаз со Стояна.
– Доню! – позвала она.
– Шо вам? – отозвалась молодая женщина, поливающая на лотке пучки увядшей зелени.
– Дывы! То не актор, що грав Будулая?
– Ни, просто схожий. Молодый ще.
– То воны ж грымуються!
Боясь расспросов, я стал старательно вжиматься в ограду.
– Хлопчык, любыш семки? На! – торговка протянула мне газетный кулечек с жареными семечками.
– Спасибо, спасибо, у меня денег нет.
– Та я не за гроши. То я тебя прыгощаю.
Стоян в это время уже спешил назад.
– Давай за мной на ту сторону платформы!
– Дядько! – игриво окликнула его торговкина дочка. – Вы часом нэ з кино? Ми тут гадаемо, чи вы сын Будулая, чи може онук?
– Внук, внук, только не Будулая, а Карая.
И мы помчались в обратную сторону. Но только у меня от смеха сбилось дыхание, и я начал отставать. Стоян, чертыхнувшись, велел мне “не хрюкать” и не терять его из виду.
А дело в том, что когда я был маленьким, он сам же читал мне книгу о пограничном псе Карае. Потом было продолжение – “Сын Карая”, которое я прочел уже самостоятельно. Но и этими героическими историями я не начитался и замучил Стояна просьбами принести мне новое продолжение: “Внук Карая”. И сколько он не убеждал меня, что такой книги нет, я не успокаивался. Потом топнул ногой и сказал:
– Так сядь и напиши!
На другой стороне насыпи были ряды, где продавали мед. Среди продавцов было много мужчин. Увидев носатого седого старика в каком-то театральном брыле, Стоян остановился, как вкопанный, и закричал:
– Хома! Хома!
Тот встрепенулся.
– О Стоянэ, сынку! Яким витром занэсло тебэ сюди, волоцюга?
А цэ хто з тобою? Давай-но його сюды!
Он перегнулся через прилавок и подхватил меня под руки узловатыми, как корни, пальцами.
– Пид мыкитки його! Пид мыкитки! – хохотали тетки.
Не успел я оглянуться, как очутился среди мешков, корзин и липких бидонов.
– Очи твои, цыганськи, клятый булгар, а тильки дуже воно билявэ та тэндитнэ.
То твий хлопець чы ни?
– Мой, мой. Наполовину!
– А на другу?
– Романа Ильича.
– А-а-а, прохвесора!
– Слушай, Хома, отойдем. Есть разговор.
– Тетяна! Прогощуй малого мэдом. Я зараз.
Каким только медом не угощала меня тетка Татьяна и ее не то односельчане, не то родичи. У меня уже все слиплось внутри от этого угощения, а Стояна и деда Хомы все еще не было.
Наконец, они объявились. Веселые. Нос у деда стал еще больше и покраснел. В руках Стояна была наша необъятная кошелка, откуда торчали горлышки каких-то бутылей, закупоренных кукурузными початками. Они расцеловались.
– Петко прыйиде до Риздва, йому и виддасы гроши. Прохвесору перекажэш прывит и запрошэння до Водяной. З Юрком. И з тобою, звисно. И скажи: медовуха справжня, на бджолыний заквасци. А я, разумиеш, зрадив, що Юрко – то твий хлопець, не впизнав малого. До рэчи, Петко вже на онукив чэкас, а ты…
Тетяно, сходи до дивчат, нехай збэруть йому до борщу, и сальце визьмы у Мыколы, та з проростю, як Стоян любить.
Мы вернулись к ужину, нагруженные, как верблюды.
Отец открыл дверь, не сказал ни слова и ушел в кабинет дяди Мити.
Записка по-прежнему лежала на кухонном столе. Я прочитал: “Колдерари ушли на промысел”.
– Ну вот, сказал я. – Доигрались в цыган. Теперь “будет нам и белка, будет и свисток”.
– Помолчи! – неожиданно резко сказал Стоян и пошел за отцом.
Я тоже вышел из кухни, плотно прикрыв за собой дверь, как будто там, в сумке, находились не продукты, а бомба замедленного действия.
– Неужели ты допускаешь, что таким дурацким розыгрышем задержишь меня здесь хотя бы на один лишний день! – донеслось из кабинета.
Я прошмыгнул на балкон и уютно устроился в кресле, где, судя по всему, отец старательно изучал “Советы молодым хозяйкам” госпожи Молоховец.
И надо же, отец и Стоян вдруг решили в качестве исповедальни использовать спальню. Кто-то, вероятно Стоян, рухнул на кровать возле самого окна, в полуметре от меня!
– Когда ты отказался ехать с нами, ты уже знал? – услыхал я.
– Не все. Мишке сообщили, что там ЧП. Но я сразу почувствовал – с Асей!
– И ты ничего мне не сказал?!
– Я бы и сейчас не грузил тебя всем этим. Просто ты меня достал! Что не скажешь – у тебя на все одна реплика: “В Москву! В Москву”. Прямо “Три сестры” Виктюка!
– Стоян, как ты говоришь!!!
– Боже мой, я еще должен следовать правилам изящной словесности! Юрки-то – нет! И потом ты что, думаешь, он в школе изъясняется языком Державина?
– Оставь, сейчас мы не это обсуждаем, и все же пощади мои уши. Кроме
того, пьеса все-таки не Виктюка.
Молчание.
– Не сердись, Стойко, рассказывай.
– Он уговорил ее оставить группу и идти через пороги вдвоем. Спасатели нашли их через два дня. У этого идиота была сломана пара ребер и морда побита о камни.
А у Аси…
Ты знаешь, где мы с Мишкой ее перехватили? В местной больничке. Готовили к ампутации обеих ног. Мы договорились с военными… Завидов бился в истерике и настаивал, чтобы делали операцию на месте.
– Почему?
– Он боялся, мы ее не довезем.
– А ты?
– Я об этом не думал.
– А если бы не довезли?
– Его бы судили… вместе с нами. А живая Ася, даже без ног, взяла бы вину на себя. Но, вообще, лучше всех держалась Аська!
У нее хватило сил сказать: “Мальчики – к Бурденко”, и только после этого она отключилась.
По улице то и дело проезжали машины, скапливаясь у светофора на углу. Оттого я слышал не все. Но и того, что услышал, было достаточно, что бы любой из них свернул мне шею за непотребное любопытство. И разбираться не станут, как я очутился у них под окнами.
– Знаешь, о чем она попросила, когда пришла в себя и поняла, что ноги при ней? “Морикразу” достать.
– Что это?
– Новый препарат, чтобы на морде у него не остались рубцы.
– Она будет ходить?
– Будет. Годик на костылях, а потом с палочкой, потом без палочки.
Они замолчали. Только кровать под Стояном заскрипела.
– Послушай, Стойко, может это покажется тебе банальным… если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним.
– Как можно изменить отношение к тому, что ты… теряешь человека?!
– Ася жива и будет ходить! Безразлично с кем и где! Ася бу-дет!
Если бы мне сказали сейчас, что Машка есть… Где-то там, не со мной, но
жива… Понимаешь? Хотя мне ее никто не заменит!
– “Пой, ласточка, пой!” Попробовал бы я в свое время предложить тебе
“изменить отношение!”
– Хорошо, что удержался! Но я-то не двадцатилетний моралист! Ты
знаешь, сколько за этим стоит… (отец не успел закончить).
– …женщин – Инга, Лера, Рэна! Просто монах!
– Что?!! (послышался ” плюх”, будто кто-то свалился с кровати на пол).
Тут я четко осознал, что с балкона нужно исчезать. Если бы я был кошкой, то, не раздумывая, спрыгнул бы с пятого этажа на все четыре лапки. Но представив после этих жутких разговоров об ампутации, что реально случится с моими хилыми конечностями после приземления, я просто стал на четвереньки, выбрался на кухню и уже на двух ногах спустился во двор, предусмотрительно захватив с собой ключ.
Стемнело, когда оба нашли меня на качелях. Отец тормознул меня в верхней точке и медленно спустил в руки Стояну, который не устоял на ногах и опрокинулся в детскую песочницу.
После того как мы с отцом вытащили его, он долго отряхивался от песка, загаженного дворовыми собаками и кошками. Отец пытался помочь. Когда с этим было покончено, мы отправились домой.
Впереди шел я с ключом наготове (свои ключи они, разумеется, не взяли).
За мной брели, спотыкаясь обо все неровности дороги, отец и Стоян и дружно ругали меня всякими нехорошими словами. И пахло от них как от деда Хомы – чем-то хмельным и медовым.
И я шел и думал, что надо бы с утра пораньше сбегать за квасом. Вот только знать бы, куда Стоян сунул деньги.
Все!
Стихи Ольги Стрижковой.
"Бунт на корабле"
– Ты что Левке собираешься подарить? – спросил Боб.
– Не знаю.
– Давай на мяч скинемся?
– Это по сколько выходит?
– Если Митроху уговорим – будет по тридцатнику…
– Ладно. Покупать вместе пойдем?
– Ну, да! Дождешься тебя с твоими сольфеджиями. Сам куплю.
На том и решили.
Разговор был недели за две до Левкиного дня рождения. Я сразу же у отца взял деньги и обрадовался тому, что он не стал мне десятки отсчитывать, а дал одну бумажку в пятьдесят рублей. Значит можно будет и без Митрохи обойтись.
В этом году Левка решил пригласить к себе чуть ли не половину класса и даже знакомых по даче девчонок.
–А что, – объяснил Левка, – батя сказал "гуляй на родительскую деньгу, пока молодой, пока паспорт не получил, а на следующий год курьером тебя пристрою, и на свои тусовки сам будешь зарабатывать".
– Между прочим, первыми мы с Митрохой паспорта получим, а ты еще в "детках" целую четверть проходишь, – отреагировал на его заявление Борька.
–Дались вам эти паспорта, – сказал я. – Этих заработков курьерских хватит разве что на пару заходов в Му-Му, а других выгод я, например, не вижу.
–Не видишь, потому что получишь его последним. А я так жду не дождусь, потому что с паспортом меня уже не повезут как багаж по доверенности. Будьте добры, вначале спросить меня, хочу ли я ехать, и без этого документа шиш ты билет на меня купишь, – распалился Боб.
В прошлом году он со старшей сестрой ездил к тетке, и родители оформляли Катерине доверенность, чтобы она имела право брать с собой в поездку брата. Борьку тогда это здорово задело. Он даже ехать не хотел, хотя тетка его в Пскове живет и пообещала свозить их в Михайловское. Тогда ведь двухсотлетний юбилей Пушкина отмечали. А теткин друг по студенческим годам в Питере теперь был директором музея в Тригорском. Он сам показал им и усадьбу, и Святогорский монастырь, и парк. И книгу свою подарил – "Золотая точка России". Жаль только, что когда наша русичка взяла Борьку в заложники и хотела заставить его во всех седьмых подробно рассказывать о празднике в Пушгорах, Катерина принесла эту книгу в жертву школе. Зато Боб был спасен.
День рождения приходился на понедельник, а в воскресенье отец посмотрел на меня как-то особенно пристально и заявил:
–Завтра пострижешься. Совсем на девчонку стал похож. И, пожалуйста, безо всяких крысиных хвостиков сзади. Коротко.
– Не буду я коротко! Я же не первоклассник!
–Пострижешься, как я сказал, – резко оборвал отец разговор и отправился к себе в кабинет. Тут-то я и вспомнил наш вчерашний базар о паспортах, и признался самому себе, что Борька, возможно, был прав. Если бы у меня в кармане был такой документ, папа не позволил бы себе обращаться со мной как с десятилетним пацаном!
О дне рождения Левки я злонамеренно отцу не напомнил. Если он забудет – его проблема. У него же профессорская память! В понедельник после уроков я забросил рюкзак к Борьке в соседний подъезд, оттуда и отправился на день рождения, минуя парикмахерскую.
У меня были длинные волосы, Левкины дачные знакомые оказались классными девчонками, к тому же его родители деликатно оставили нас одних. Всем заправляли его сестра со своим бой-фрэндом из экономического колледжа. Пили шампанское, диски были что надо, студент обучал всех танцевать хастл, но мне было как-то не по себе.
Часов около одиннадцати я пришел домой. Отец (невиданный случай!) сидел перед телевизором. Я сказал "добрый вечер" и хотел проскользнуть в свою комнату, но он спросил меня железным голосом:
–Где… ты… был?
Пришлось задержаться на пороге.
–Ты же знаешь – у Левки на дне рождения, – ответил я, как мне показалось спокойно и невозмутимо, но войти внутрь Логова и закрыть дверь не решился. Пауза затягивалась.
–Хорошо, иди спать, поговорим завтра, – наконец сказал папа, и я нырнул в свое убежище.
На следующий день после уроков я отправился в парикмахерскую и постригся наголо. Таким и заявился в музыкалку. Когда из класса вышла Карина – местный вундеркинд шести лет, которая занималась передо мной – она артистично всплеснула своими талантливыми ручками:
–Юра, тебя в Чечню посылают?
–Вай, Кариночка, типун тебе на язык, родная! – всполошилась ее бабушка Ануш Вазгеновна. – Мальчик не Самсон, чтобы ему волосы свои беречь!
Вечером перед ужином, увидав мою шарообразную голову с оттопыренными ушами, отец ничего не сказал и только высоко поднял брови. Но после чая не выдержал:
–Ну, и как называется эта …это? – и жест такой сделал в направлении моей головы.
Мне бы просто сказать – "никак не называется", потому что это была бы чистая правда. Ведь я постригся наголо именно для того, чтобы уничтожить всякое подобие прически. Нет прически – нет проблем!
Но, неожиданно для себя, я на полном автомате произнес – "зачистка". Это было то слово, которое я услышал от нашего школьного охранника по прозвищу "Дембель", с которым столкнулся на пороге парикмахерской. Он тогда сказал: "Что, пацан, "зачистку" сделал, «операция антивошь"?
Я ему не ответил, только плечами пожал, потому что "зачисткой" в школе называют резинку для стирания.
Отец помолчал немного, потом встал и склонился надо мной. В левой руке на отлете он держал чашку с чаем, а правой прижал мою голову к себе и шепнул на ухо:
–Горя ты еще не знал, мой мальчик…
И ушел.
С чего я так подставился – сам не пойму. Ясно, что у отца вылетевшее воробьем словечко не с резинкой ассоциацию вызвало. В последнее время водится за мной такая дебильность: хочу сказать одно, а говорю… В общем, язык мой – враг мой.
А что касается "зачисток", "зеленки" и заложников, то мы с ребятами живем как бы отдельно от всего этого, хотя об армии базарим довольно часто. В основном, как от нее откосить. Особенно от службы в Чечне, потому что цену генеральским разговорам о контрактниках и добровольцах все знают. Считается, что лучше всего дать взятку врачу и получить справку о том, что ты псих.
С доктором Дагмаровым я на эту тему не говорю. Скажешь ему про справку и получишь в ответ: "Я тебе ее и без денег дам, если ты еще раз в тазик с моей рубахой свои носки бросишь!" или что-нибудь в этом роде.
Спустя несколько дней после Левкиного дня рождения, я смотрел новости по НТВ вместе со Стояном, и там сообщили, что в Чечне в засаду боевиков попала и была уничтожена почти полностью рота наших ребят-десантников. Я спросил Стойко: "Это много?"
Он посмотрел на меня, как-то оценивающе что ли, и спросил после паузы:
–Сколько у вас одиннадцатых?
–Два.
–Представь все стулья пустыми.
Сказал, как отрезал, и направился в кухню.
И не успел я отреагировать на его слова, как на экране появилась размытая картинка любительского видео. Контуры нечеткие, цвета плывут, но понять можно, что в окружении бородатых вооруженных людей стоит пожилой человек в каких-то лохмотьях.
Год назад я увидал, как изменилась жизнь в теплом доме дяди Вади, когда умерла, ушла " за перевал", как говорят на Кавказе, тетя Эля. Мне казалось, что там все замерло, как в сказке о "Спящей красавице". Но приехал Геня и разбудил и Дом, и дядю Вадю. Жизнь к ним вернулась, хотя была уже не такой, как раньше.
А вот теперь, когда камера "наехала" на лицо в центре кадра, я понял, что вижу, как жизнь покидает человека до прихода смерти и возрождения не будет…
–Сейчас меня будут убивать… – услышал я какой-то механический голос, как будто бы уже с того света. – Но, может, вы успеете выкупить…
И он назвал какие-то имена.
После этого он по-старчески неловко стал на колени, и над ним занесли саблю…
Я моментально выключил ящик и скрылся в своем Логове.
Меня не мутило, как бывало раньше при всяких сильных переживаниях, меня просто… не… бы-ло… И говорить обо всем этом не хотелось ни с кем.
Несколько дней после школы я отсиживался у себя в комнате, перечитывал Николая Гумилева, к ящику не прикасался и даже к Бобу не наведывался, хотя он опять подцепил ангину от Илюшки. Потом во мне что-то начало устаканиваться, и я решил покататься на велике. Погода была не ахти, ветер гонял по двору скрюченные кленовые листья, похожие на разноцветных крабов, но мне хотелось куда-то мчаться и ни о чем не думать.
Ездил я на отцовском полугоночном "Туристе". Ничего была машина – легкая на ходу, но истрепанная временем. Во всяком случае, полагаться на ручной тормоз не приходилось. Большинство ребят, и я в том числе, обычно катались во дворе: места хватало и для гонок и для фигурной езды по детской площадке. Иногда вместе с Борькой мы гоняли по парку или ездили в гости к Левке, который жил в четырех трамвайных остановках от нас. Единственным местом, где отец категорически запрещал нам кататься, были вечно скользкие глинистые берега зловонной парковой речушки. Там на каждом шагу валялись железки, стекла и другой опасный хлам, который оставляли после себя бомжи, ночующие летом в прибрежных кустах. Любил там развлекаться только Гришаня со своей компанией из строительного колледжа. Они там и костры жгли и пивом баловались. Гришаня раньше учился в нашей школе в классе коррекции, хотя нормальный был парень, даже с харизмой. Просто жутко ленивый, когда дело касалось учебы, зато геймер продвинутый. И вот этот Гришаня заметил, что я один, без Борьки, и предложил мне прокатиться вместе с их бандой. Мне его приглашение показалось даже лестным, поскольку парни такого возраста на нас обычно внимания не обращали.
Вначале все было отлично. Мне понравилось чувствовать себя своим среди взрослых парней, тем более что я удачно совершил объезд и пристроился вторым за Гришаней.
Все случилось на мостике через русло мелкого ручейка, весной впадающего в речушку. Собственно, это и не мостик был, а несколько щербатых досок, кое-где скрепленных планками. Его нужно было проезжать, не снижая скорости, а я по неопытности замешкался, мне стали наседать на пятки, колесо вильнуло, и я свалился. Велосипед не очень пострадал, а вот я пропорол себе ступню огромным гвоздем. Он вонзился в изношенную подошву моих кроссовок и вышел между пальцами. Кровищи было ужас! Надо сказать, Гришка вел себя, как настоящий парамедик. Он велел парням крепко держать мою ногу, а сам рванул доску с гвоздем. Потом он перевязал мою ступню своей банданой поверх носка, усадил меня на багажник и отвез к своей тетке – акушерке. Она жила в доме напротив. Анастасия Ивановна промыла рану перекисью и перебинтовала ногу. Потом сказала, что нужно поехать в травмопункт и сделать укол от столбняка. Я поблагодарил и пообещал сделать все, как она советовала.
Мне было неловко, что я испортил Гришане прогулку, но парни вели себя так, будто ничего особенного не произошло. Доставили меня домой и отправились прежним маршрутом.





