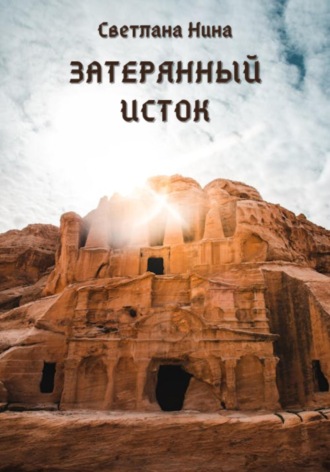
Светлана Нина
Затерянный исток
11
Арвиум опасливо вступил на неведомую землю Сиппара. К его удивлению, город мало отличался от Уммы. Лишь дворцы главных чиновников представали великолепнее, а женщины, покрытые вуалями различной плотности и расцветок, смотрели только себе под ноги. Так же он подивился размаху Сиппара, который жители Уммы считали отсталым и менее утонченным. Сиппарцы с их строгим регламентом, должно быть, запутались бы в узлах брачных вариаций Уммы.
Благодаря словоохотливости купцов Арвиум отыскал Хатаниш в доме влиятельного вельможи. Он вторгся туда якобы для негласного обсуждения возможного перемирия между городами.
Хатаниш полулежала на кушетке из связанного тростника, накрытой изящным покрывалом. Ее ноги и руки поражали своей гладкостью – к покоям владыки ее подготовили тщательно. Умиротворенность ее позы заворожила Арвиума. Воспользовавшись тем, что советник главы города отвлекся, он подошел к ней вплотную. Хатаниш, не разворачиваясь, повернула голову и остолбенела. Он надеялся прочесть в ее взгляде ликование, а наткнулся на суженую враждебность.
В его голове нежеланно пронеслось, что произошло с Хатаниш между их встречами. Жалость и омерзение всплыли следом – она словно потускнела в окраске этого допущения.
– Эта жемчужина ниспослана нам богами, – сладострастно произнес человек, считающий Хатаниш своей собственностью.
Хатаниш вальяжно поднялась и, подозвав прислужницу, удалилась, переливаясь бликами серебряных нитей своей облегающей туники.
Вечером Арвиум исхитрился поймать ее в укромном уголке дворца, подкупив ушлых прислужников.
– Я не желаю возвращаться, – стиснув зубы, заявила Хатаниш.
Арвиуму стало не по себе. Пока она умоляла его узаконить их союз, он ощущал куда большую уверенность. Ее раскрепощенность благодаря прикосновениям другого мужчины будто вселила в нее и большую власть. Неужто неверны россказни о грубости сиппарцев? А быть хозяином Хатаниш и единственным хранителем ее детей вдруг показалось Арвиуму насущным. Пусть отвлекается на детей, а не вступает в борьбу с ним!
– Что за блажь? Я отвезу тебя домой. Все будет как прежде.
– А я не хочу, чтобы было как прежде. Здесь меня осыпают почестями. А от тебя я получила только стыд и страх будущего.
– Какая же ты… А ребенок?!
Хатаниш молчала, бесцветно глядя на песочные стены.
Арвиум не понимал, вернулся бы он за ней, если бы не это.
– Не смей винить меня в случившемся, – добавила она с хриплой жестокостью.
Нежданно припомнила она запах лепешек по рецепту пращуров, разлетающийся по внезапной темени закатов ее родного края. С сестрами, давно умершими от лихорадки, самозабвенно играли они в тряпичных кукол. Детство провалилось в такую бездну, что казалось уже смытым и по странности не забывающимся сном. Теперь же эта насущность приволья сменилась мечтами о небольших покоях, из которых не обязателен выход.
– Не виню, – сказал он не очень уверенно.
– А что я видела от тебя?!
– Разве ничего?
Хатаниш рассмеялась. Арвиум обдумывал что-то, покусывая губу.
– Ратные подвиги? Золото?
– Не смей во мне сомневаться!
И он схватил Хатаниш под колени, взвалил себе на плечо и размашисто направился восвояси, будто вовсе не опасаясь погони.
12
Отливу волос Лахамы сиротливо не доставало чешуи золотых обрамлений. Амина стояла поодаль и с выдержанным чувством избранности внимала ее витиеватой речи.
– Ты – моя лучшая ученица. Остальные испытывают тягу к мужчинам. Я не могу растолковать им, что плодородие уже – не обязательный культ. Сословие рожениц справляется с этим куда лучше неподготовленных девчонок. А они могут стать хоть писцами, хоть пивоварами.
Опустив глаза, Амина подумала, что достигла определенного мастерства в выставлении себя умнее и безгрешнее, чем была на самом деле. Потому что и она заглядывалась на юношей на базарах и состязаниях. Только она и сама свято верила в то, что говорила Лахаме, в собственных глазах расщепляясь на мир идеальный и тот, который преследовал ее своей исконной неотвратимостью.
– Безбрачие – не травмирующий обет, а освобождение, – невозмутимо продолжала Лахама, словно Амина не знала ее пристрастий к юношам. – А они мучаются из-за него, подумать только!
Лахама разморено провела ладонями по своим бедрам.
– Если бы мы только могли ввести единобожие, чтобы прекратить распри…
– Я не понимаю саму эту идею, – с сомнением подхватила Амина. – Это так же безумно, как и приписывать все достижения разнородного человечества кому-то одному…
– А я слышала, что некоторые мыслители и вовсе отвергают идею существования бога в пользу некой пропорции всего сущего. Это разве не кажется тебе безумным? – с усмешкой изрекла жрица.
Амина ничего не слышала об этом и с досадой решила смолчать, чтобы не показывать свое невежество.
– Только представь! Мы вышли из ниоткуда, из глубин воды или лесов… Всего боялись, во всем видели суровую стихию. Все было одним сплошным непониманием и борьбой… Людей одолевало желание запечатлеть себя в бесформенных фигурках богинь – матерей. Мы находили такие при строительстве храма. Кто знает, какой смысл вкладывали в эти фигурки первые скульпторы? Мы можем только мечтать о догадках об этом. А потом… потом мы поняли, что можем обуздать стихию при обучении от старших к младшим. Наше сознание уже не было столь затуманенным, в нем появились связи, ответы как результат наблюдения и работы… И мы создали великие мифы. Возвели неописуемые храмы. И теперь мы в точке триумфа человечества. Все, что имеем, мы создали сами в силу своей особости. Есть от чего потерять голову, верно? А глупцы лишь жалуются на тяжкую судьбу.
– Глупцы заняты выращиванием пшеницы, чтобы нам было завтра, что отведать, – робко произнесла Амина.
– Все это суета…
Лахама приподняла бровь, но не стала продолжать, начав иную ветвь темы:
– Думается мне, что древние, не разделяя богов и природу, были более правы, чем мы, возведшие свою тягу к сказаниям в непозволительное измерение религии.
Амина похолодела.
– Ты… отступничаешь?
Лахама устало улыбнулась, будто прощая Амину за ее непросвещенность. Темные кудри выбивались из-под краснеющей меди тиары, которую она медленно водрузила себе на голову.
– Для нас естественно обожествлять небо. Но что если есть на земле народ, подобный нашему, но нам неведомый, обожествляющий время? А, быть может, у него и вовсе нет богов, а они припеваючи живут и без них. Ты не думала о подобном раскладе?
Амина выдохнула, сделав отрицательный жест.
– Почему ты так убеждена, что религию создали люди?..
– Не сама же она возникла. Все, что ты используешь каждый день, было создано людьми.
Она помолчала.
– Знаешь, я не зря тебя избрала. Ты не будешь вырывать глаза тем, кто противоречит тебе. Ведь никто ничего не знает наверняка. Но будь осторожна – как только ты станешь Верховной жрицей, на тебя падет бремя не только выполнять ритуалы, но и сдерживать народ, чтобы не оказаться на пепелище общих захоронений.
Амина едва не задыхалась.
– Но… зачем мне это?
– Зачем?.. – Лахама приостановила перекатывание камешков в счетах, используемых для хозяйственных нужд храма.
– Да. Разве не лучше жить спокойно?
– А как ты будешь влиять на жизни черни?
– А зачем на нее влиять? Чтобы ограбить?!
Лахама рассмеялась.
– Меня привлекает воздействие на их умишки. И тебя должно, иначе делать тебе в этих стенах нечего. Иначе – только привилегия ради монет и раболепия, а это не может не развратить и самую кристальную душу. Хоть мне и жаль будет расставаться с самой сообразительной ученицей. Некоторые из помощниц хоть и из родовитых семей, а способны только на бездумные кивания головой в такт бубну. Эти идеальные исполнители, которые верят во всю фантасмагорию, происходящую возле алтаря, не понимая, что находятся под завесой отваров.
– Верят? – переспросила Амина. – Или им все равно?
– Но мне нужна та, которая вкрапит в мифы новь, искусство. Нереальность сделает более настоящей, чем обыденный мир. Отточит ремесло избранных. Мы ведь уже не понимаем, в каком мире живем по-настоящему – в реальности или зазеркалье, которое так усердно создавали поколениями. И какой сочнее. Как бы только это со временем не источилось, не затерялось в песках…
13
Все свое девичество, когда полагалось запевать песни за плетением сетей, Лахама вглядывалась в отблески потухающего над водой солнца и все размышляла о механизме, заставляющем все сущее танцевать в неправдоподобной гармонии. Она не бегала с местными молодцами к берегу залива для плясок, а прорывалась в библиотеку города, таящую сокровищницу проблесков.
Лахама смотрела на Амину с настороженным восторгом перед ее юностью. И не могла побороть искушения, чтобы не заразить ученицу собственными сомнениями.
Лахама рассмеялась. И показалась Амине совсем молодой.
– Я поняла, что мироздание пронзает сеть образов и зачатков сознания, как в нашей священной реке. Что все – энергия. Что все – одно и то же. Не только материальный мир, но и даже время, пространство, будущее. Все это перерождается так же, как и мы. Все запоминается, отпечатывается, ничто не умирает. Здесь нет ничего статичного. Изменение и рост – непреложные законы. А смерть – лишь этап.
Плавная патока ее исповеди будто захлебывалась в себя.
– А каждый ли может увидеть это, опоенный травами?
– Все мы видим это каждый день и с травами, и без. Но не знаем, где искать. Потому и не понимаем.
Лахама продолжала:
– Все мы родственники. Человек – родственник самой крошечной землеройке, времени, энергии, другим планетам. Только разделение произошло древнее, чем возникла жизнь. Уникальная взаимосвязь и создавшей нас, и созданной нами жизни. То, что наверняка запечатано в пропамяти, но что мы уже не способны выудить оттуда. Нет раздельного материального и духовного миров. Их разделение – великая иллюзия.
– Но общество просветленных существовать не может, – в какой-то вялой озлобленности отозвалась Амина, сама чувствуя, как низко то, что говорит она после проповеди своей предводительницы.
– Эти разговоры – отражения нашей злости и бессилия. Ты говоришь это, потому что такого никогда не случалось. Это не означает невозможности произнесенного. Просветленный все равно остается человеком, который любит мед. Мы привыкли видеть страдание и всерьез считаем, что общество счастливых и здоровых существовать не будет.
– Но кто-то же должен обеспечивать другим ресурсы.
– Мы как раз и должны стремиться не к тискам, а тому, чтобы как можно больше людей понимали жизнь. Только в этом и будет спасение. Но, даже узнавая истину, люди ее не понимают, видят ограниченно.
Лахама, окрыленная произнесенным, улыбнулась внутрь себя.
– Когда я пыталась постичь взаимосвязь и первопричину событий, наткнулась на рисунки. Они были столь древними, что я поразилась, как давно в людях уже было сознание… на каком-то колдовском переломе от животных к нам.
Амина вздрогнула, пытаясь отогнать от себя ужас от допущения, что сознание было с ее предками не всегда.
– В древнейших записях читала я о затерянных в джунглях дворцах с захороненными правителями в масках. Они любили вызывать транс, не спя. Других способов тогда не ведали. У правителей были видения от недосыпа, но им не открывалась истина. Тем правителям можно даже позавидовать – перед ними все было ново, все было чистым листом. Мы думаем, что знаем достаточно много, чтобы чувствовать себя уверенно. И как же мы ошибаемся… С развитием мы только получаем еще больше вопросов. Да и собственными взаимоотношениями так себя опутываем, что не можем дышать.
Амина покладисто слушала, с трудом воспринимая эти наслоения разом.
– В древних текстах читала я и о жрице, которая как-то вошла в транс до такой степени, что узрела истину. Она вышла из транса, не шевелилась и только больными изумленными глазами смотрела в свод храма. Ее пытались кормить, но она просто лежала и что-то бормотала. Потом она умерла от недостатка воды.
Лахама саркастически рассмеялась.
– Правда в том, что сказание это выдумали те, кто не имел представления о поведанном. Истине не нужны наши физические жертвы, голод и сдирание с себя кожи. Ее не узнать, не поразиться и не сгинуть от открытого, поскольку она настолько многогранна, что впитывает в себя каждое проявление сознания. Поэтому познать ее невозможно. Она пополняется мыслями и чаяниями каждого живого существа, расширяясь с каждым циклом. Мы можем лишь пройти свой путь до конца и попытаться узреть как можно больше.
Амина посмотрела на Лахаму и внезапной вспышкой поняла, что так настораживало ее в Верховной жрице, но что не в силах было раньше облечься в осязаемую констатацию. За благородством ее отношения к себе подобным пряталось пренебрежение и враждебность ко всему прочему, не столь созидательному и утонченному. Скребущее омерзение от этой не бросающейся в глаза надменности не рассеивалось в Амине как раз потому, что она и в себе черпала такую же за своей любовью к вершинам человеческих проявлений. И начинало ей казаться, что добряками нарекают лишь тех, кого плохо разглядели или кто слишком часто молчит.
– Только бы не понять в конце, что все это было неважно точно так же, как и судьба торговца на базаре, оттяпывающего куски от свежей рыбы ранним утром… Что твоя и моя жизни значили бы ровно столько же, если бы мы сейчас обрабатывали землю или вовсе умерли.
14
– Все только и талдычат, кто будет следующим правителем, если Галла потерпит крах. Мне это осточертело!
Арвиум насупился и провел большим пальцем по губам. Амина сидела на полу и вовсе не просила его вторгаться в свою обитель. Впрочем, их игнорирование друг друга в течение стольких лет начало доставлять ей дискомфорт смутными догадками, что она теряет что-то, держа людей на почтительном от себя расстоянии. Темнота зала будто усиливала неприступность этого колосса, завороженно играя тенями на четких линиях его подбородка.
– Как мне наскучило все это! – продолжал Арвиум, не добившись завороженности собеседницы. – И кто судачит? Мужчины еще ладно. Но женщины…
– Что же не так с женщинами? – бойко и грозно уточнила Амина.
Арвиум почувствовал прилив сил от назревающей схватки. Амину раздражил последний вздор Лахамы, который та даже не попыталась засунуть в удобоваримую форму. И раздражение это теперь удобно было вывалить на Арвиума.
– Повадились выдумывать разные средства, чтобы детей не рожать.
– Есть же сословие рожениц.
– Удобная лазейка. А вы будете в безделье прозябать?
– Как мужчины?
Арвиум скривился.
– В Сиппаре каждая обязана стать матерью и заниматься только домом.
Амина с отторжением посмотрела на него.
– Вы просто боитесь, что мы вас подвинем. Попробовав свободы, мало кто решается вернуться в рабство.
– Ты материнство называешь рабством?
– А ты это чем называешь? Или, скорее всего, у тебя вовсе нет ни мыслей, ни готовых слов об этом явлении. Ты его видел несколько раз на расстоянии. Но долг себе возвел. Причем чужой, – она недобро рассмеялась. – Удобно.
– А рожениц никто не заставляет рожать по пятнадцать детей. Да и не так уж они несчастны, оставаясь на полном попечении у богачей.
– Не заставляет никто, кроме нищеты и ограниченности круга, в котором они росли. Без подсказки о другой дороге. А полное попечение – это еще и тотальный контроль. Вместе с выполнением любой прихоти благодетеля.
– Прежде ты об этом не думала. Лишь бы с тебя сняли ненавистную обязанность.
Амину кольнуло. Ведь он прав… Рабство для стигматизированной прослойки обеспечило остальным женщинам Уммы невиданную в Сиппаре свободу.
– Ты тоже обожаешь пригонять рабов, чтобы они зиккураты строили за тебя. Но никто отчего-то не винит тебя в этом.
Неуклюжая, местами забавная, застенчивая девчонка из детства, которой хотелось управлять, как и остальными, сейчас она поражала страшащей уверенностью. Занятая своими идеями, Амина часто с безразличием смотрела на Арвиума. И это ранило его. Через вспышку нежности к ней проступило омерзение.
– Еще поколение таких разумных, как ты, и мы вымрем. Останемся только в росписях гробниц. Сколько свободных женщин сегодня заключает брак на несколько лет, а затем расторгает соглашение, не родив никого? Вы – обманщицы.
Замутненность полувоспоминания – полунаваждения сдавило поток выверенных слов Арвиума. Кем бы был теперь он, если бы его родная мать укачивала его на руках в младенчестве?
– Должно быть, не так просто растить детей, раз женщины выбирают гончарное дело.
Амина зло рассмеялась. Ей припомнилась периодически захлестывающая стылая зависть к тому, что, чтобы создать ребенка, Арвиуму достаточно одной ночи с любой женщиной, которая сделает все последующее, а он спустя годы жизни в свое удовольствие за дочерей получит скот и зерно, а сыновьими подвигами будет хвастаться перед соседями.
– Люди испокон веков делают так, чтобы им удобнее было брести по свету. К чему осуждать их за это? Ты и сам делаешь много того, что является вмешательством в твою природу.
Жалящий тон Амины и ее оживленные глаза растравили Арвиума. Голос его стал грубее, а оскал беспощаднее.
– Что же?
– То, что раны твои после битв лекари смазывают снадобьями. Что выковыривают из-под кожи наконечники стрел.
– Это иное.
– Отчего же? Просто потому, что так удобно тебе, а удобства других людей ты хочешь пресечь?
– Я лишь хочу гармонизировать то, что вижу.
Раньше Амина редко перечила кому-то не из покладистости, а из-за безразличия. Но каждое неверное движение окружающих, высекая из ее крови огонь, делало грубее ее кожу, а взгляд непроницаемее. Она поняла, что люди не изменятся, а придется меняться ей, чтобы стойко идти по избранной тропе. И изменения эти страшили своей неизбежной тишиной, растянутой на годы.
– И в этом могут тебе помочь иноземцы?
– Они более духовны.
– А в чем именно заключена их духовность?
Арвиум припомнил неясное чувство, охватившее его, когда он вывозил Хатаниш из Сиппара. Праздность, с которой мужчины там сидели и попивали настои трав за неспешной беседой, покорила и этого воина.
– Сиппарцы более счастливы. Тебе не понять. Они живут без нагромождений.
– Ты видел их бытие, проникнув во дворец на день. И переговорил только с богачом, который отгорожен от своего народа стеной прихлебателей. Никто тебе не скажет своей боли. Хотя, быть может, они и вовсе не считают ее таковой. С такими-то ограничениями к мысли.
– Ты судишь их… Но на чем основаны эти слова? Ты указываешь мне, что я предвзят, но сама вовсе не была там.
Амина молчала. Сжимающая жизнь Сиппара доходила до них устными сказаниями и расшитыми платками, которые охотно приобретали знатные женщины Уммы, не задумываясь, что именно зашифровали в узорах создавшие их мастерицы.
– Ты залепил себе глаза и удовлетворенно вздохнул над сплетенной картиной. Как и мы все… Но что ты сотворил на благо? Кроме того, что рубил головы направо и налево. Головы, которые осуждаемые тобой женщины тяжело вырождали.
– А что сотворила ты?
Амина подняла на него темные глаза. Но ответить не смогла.
15
Арвиум свирепо заходил по зале, поддерживаемой колоннами. Прежде его умиляло, как резко она разговаривает с ним. Но теперь, в глотку ржаво закралась догадка, что она не всегда лукаво играет с ним. Так редко видел Арвиум Амину с момента ее погружения в путь жрицы, что теперь удивлялся ей, обновленной, с неясным налетом чужеродной мимики и жестов.
Амина в понимании военачальника армии Уммы олицетворяла инертное женское начало, тяготеющее к комфорту и счастливое просто от отсутствия потрясений… Но ее истинный портрет в истовой жажде мысли, засасываемой с глины, выходил более усложненным, чем его истошная вера в исконную роль женщины, счастливой от одной лишь беременности. Плеторизм ее ответов физически демонстрировал ему, с каким смаком она вкушала жизнь. Даже оголтелость Иранны будто испрашивала у нее позволения разразиться очередной громогласной речью.
Амина будто подпитывалась его растравленностью. Вчера он отпраздновал свадьбу с Хатаниш, с трудом выдержавшей долгую церемонию.
– Лидером ты хочешь быть, только вот зачем? Ты желаешь менять чужие жизни к лучшему… Лучшему для кого? Почем тебе знать, что лучше?
– А людям, которые своих детей закапывают в песок, чтобы не кормить, лучше знать? Или твоей Лахаме, которая застряла в скотстве вседозволенности. И нам для этого духовные лидеры нужны?
– Нам духовные лидеры не нужны, нам нужна свобода.
– Свобода нужна дикарям. А чем больше людей рядом, тем больше для них нужно правил. Иначе мы оскотинимся.
Будто нависая над всклокоченной Аминой, он продолжил:
– Не возьму в толк, к чему нам эти излишки, эти дворцы и украшения из металлов.
– Но ты в числе первых хочешь жить в стенах, которые защитят от диких кабанов. И позвать лекаря, если заболит брюхо.
– Не могу понять, почему любое мое слово вызывает в тебе такую бурю. Переизбыток приводит к роскоши. А роскошь – к этим вашим идейкам о свободе.
– Только вот переизбытка добились те, кто изначально пытался что-то заполучить. Без неудовлетворенности и стремления ввысь мы бы никогда не обрели разум.
– Тебе ли что-то говорить, белоручка?
Амина больно сжала ему кожу на ладони. Ее миловидность вдруг переродком пахнула на него. Она воплотила нехитрое правило отца, которого помнила лучше матери, умершей при ее рождении – обороняться, когда кто-то нападает. Из себя она тянула это знание, когда было страшно и мерзко, но необходимо.
– Милосердие не в том, чтобы все были умеренно несчастны! Милосердие в том, чтобы дать другим жить свободно без груза общего!
– Да ты без этого общего дня не протянешь.
Неожиданно он схватил запястье Амины и, рванув, прижал ее к стене, нежно сдавив шею.
– Как ты мне противна, – прохрипел он ей в ухо.
Амина почувствовала предательски распухающее тепло ниже живота. Она через большое усилие воли вырвалась из этого склизкого цепляния исконных позывов. Арвиум нехотя ослабил пальцы.
– Как ты смеешь! – заорала она, отдышавшись и пригладив волосы с едва различимым рыжеватым отсветом. – Я жрица, а ты просто воин!
– В Сиппаре жрицы служат для услады мужчин, не более, – недобро смеясь, отозвался Арвиум. – Они обязаны себя продавать. Но ты слишком зажата для подобных практик. Спи спокойно, моя радость. Я отправляюсь на границу с Сиппаром. Снова они промышляют на нашей территории.
Но Амина и не думала успокаиваться.
– Почему ты убиваешь людей? Потому что тебе сказали, что так можно? И эта уверенность усмиряет твою совесть?
– А почему мы животных убиваем? Ради еды.
– Но ведь ты не ешь убитых тобой.
– Так всегда было…
Амина сжала рот.
– Очень слабое объяснение.
– А вопросы твои глупы. Я защищаю Умму и приумножаю ее богатства. Я никого не убиваю намеренно.
Амина взялась за плечи.
– Ты просто пресыщенная девчонка, которая может только разглагольствовать, – с безразличием, свалившимся на смену ярости, довершил Арвиум этот поединок, ощущая благодушие победителя.
– Чужие недостатки часто являются нашими собственными…
Закатив глаза, Арвиум удалился.






